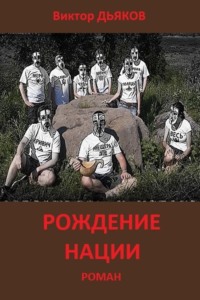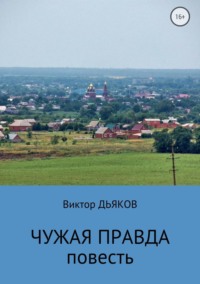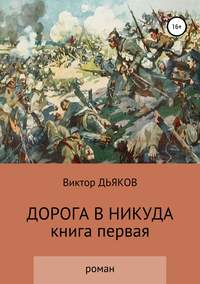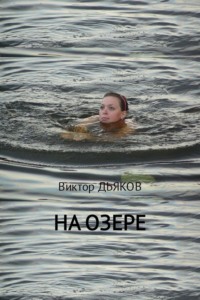Госпожа
С малых лет Ксения слышала, как возвратившийся с отхожего промысла отец возмущался существующим порядком вещей:
– Пропади этот город пропадом! Никогда бы туда не пошел за гроши ишачить, кабы у нас земли поболе было, да получше. Вот если бы всю господскую землю меж нами разделить – всю Подшиваловку можно было бы хлебом завалить и никому не надо было бы в город уходить…
Потому Ксения хоть внешне не выказывала недовольства, но уже с определенным напряжением терпела ту же высокомерность барышни, которая не давала себе труда скрывать свое сословное превосходство. Ксения уже без восторга исполняла такие свои обязанности как уборка после барышни ее постели, мытье ее в ванной, уборка ее личного, так называемого, ватер-клозета. Ксения понимала, что все это с превеликим удовольствием согласиться делать любая девушка из Подшиваловки и своего места она не собиралась уступать. Тем не менее, от барышни ей передалось то, чего, казалось бы не могло быть в русской крестьянке от рождения – чувство собственного достоинства, и еще… Еще Ксении, чем дальше тем больше самой захотелось стать госпожой. Да-да, она вдруг сама захотела жить как жила барышня, как жили в ее понимании все господа: спать сколько захочет, ни к чему не прикладывать своих нежных красивых рук, быть хозяйкой в доме и отдавать приказания прислуге. При этом такие посторонние для крестьянского самосознания факторы, как то что барышня при такой жизни много училась, знает французский и немецкий языки, умеет играть на фортепьяно, знает и умеет множество прочих вещей ей совершенно неведомых… Все это сознание Ксении не воспринимало как необходимые атрибуты легкой и приятной барской жизни, а так, ну вроде как несерьезные капризы, излишества без которых вполне можно обойтись.
Только так и надо жить – прочно засела в голове Ксении крамольная мысль. И тут же сама для себя она определила свой жизненный ориентир – и я так буду жить. Как этого добиться, осуществить? Этого она не знала, но сама собой в ее сознании складывалась своего рода концепция в основе которой лежала в том числе и ее женская привлекательность, сила которую она уже стала ощущать.
А чем я хуже!? В отсутствие барышни она подходила к зеркалу, надевала на себя ее ночные рубашки, пеньюары, или вообще оставалась обнаженной, смотрела на себя. Она сравнивала себя с барышней и находила, что через четыре года, что составляли разницу в возрасте меж ними, она ей ничуть не уступит, если конечно по-прежнему будет питаться с барского стола. А если к тому же станет одеваться в такие же дорогие платья, белье, шляпки, душиться такими же французскими духами и пудрится такой же пудрой… Не хуже, не хуже, а может и лучше барышни я буду, – роились в ее голове шальные мысли. Иш какая, за приказчика она меня отдаст… Как же, знаю я как за приказчиками живет дочь бабы Насти. Так себе жизнь, крестьянской конечно получше, но с господской не сравнить. А я, может, тоже сумею за благородного выйти, или за купца богатого и тоже настоящей барыней жить!? Вон как некоторые господа, что к барышне в гости приезжают на меня смотрят… Она нравилась себе, поворачиваясь перед зеркалом то одним боком, то другим, становилась в красивые позы, делала величественные плавные движения руками. И ей, казалось, что все о чем она мечтает ей вполне по силам…
1963 г.
Очередная волна, означающая ослабление воздействия морфия, вновь вынесла Ксению Андреевну в реальность. В соседней комнате шумела, пришедшая со своей школьной второй смены внучка-третьеклассница. Она о чем-то громко спорила с матерью. Слов было не разобрать, ибо Ксения Андреевна еще не совсем освободилась от своих «грез». Сноха отвечала дочери, стараясь не повышать голос, явно опасаясь разбудить свекровь – она привыкла ее бояться. А вот внучка страха перед бабкой совсем не испытывала и это Ксении Андреевне не нравилось. Но что поделаешь, ведь эта малявка унаследовала не материнскую смиренность, а бабкин норов.
Внучка рвалась гулять, а мать не пускала. Исход спора предсказать было несложно – вскоре внучка убежала на улицу. Теперь сноха что-то недовольным голосом, но также негромко выговаривала мужу. Но Ксения Андреевна уже полностью пришла в себя и могла различать слова и фразы.
– Володь, надо думать как дальше жить… Дети подрастают и здесь нам больше оставаться нельзя, надо в большой город перебираться…
Подобные разговоры сноха начинала не в первый раз. Сын с ней, в общем, соглашался, но по различным причинам откладывал решение поступивших предложений на потом. Сейчас такой причиной, естественно, стала болезнь Ксении Андреевны
– Я не против… Вот мама поправится, тогда и думать будем, – сын отвечал достаточно громко, явно подстраховываясь – если мать очнулась, то пусть слышит, что близкие верят в ее выздоровление.
Сноха таким ответом, видимо, не удовлетворилась и тут же «углубила вопрос»:
– Но затягивать с этим нельзя. Боря школу заканчивает, ему в институт поступать, к нему готовиться надо начинать заранее. Я слышала в городах детей на подготовительные курсы при институтах отдают, или платных преподавателей нанимают. Да и вообще, сколько можно здесь, на отшибе хорониться, пора уже и по-человечески жить начинать. В последний раз в командировку в Алма-Ату ездила, там совсем другая жизнь, у всех в домах телевизоры, а тут… Как до революции живем, куры, корова…
Ксения Андреевна перестала прислушиваться. Сноха уже давно про этот телевизор стонет, все в него полюбоваться хочет. Видела этот телевизор Ксения Андреевна, когда год назад гостила у своей дочери в Калининграде. Ее зрение не позволило по достоинству оценить это новомодное развлечение. Хоть и с линзой был у дочери телевизор, но Ксении Андреевне изображение показалось слишком маленьким, невнятным, словно какие-то чертики в том ящике пляшут. То ли дело смотреть фильм в кинотеатре или клубе. Там экран большой, смотреть удобно, глаза не болят. Да и вообще понятие об удобстве жизни и наслаждениях у нынешней молодежи по ее мнению были какие-то ущербные. Ну, что такого в том же телевизоре, или патефоне, или застольях, что устраивают сослуживцы снохи и сына? Все это какое-то ненастоящее, фальшивое. Ооо, она-то познала, как по настоящему надо наслаждаться жизнью, познала когда жила у господ, да и сама так пожить успела, хоть и совсем недолго. Да, знала она в том толк.
1913 г.
«Чистая» уборка барских покоев, возлагавшаяся на горничную, включала протирание полированных частей мебели и прочих атрибутов, типа часов, статуэток, а также книжных шкафов в библиотеке, располагавшейся на втором этаже. Однажды, убираясь в библиотеке, Ксения увидела лежащую на столе раскрытую книгу. Она была раскрыта на странице, где помещалось фото, которое сразу привлекло её внимание, да так, что она буквально застыла с тряпкой в руке, не в силах оторваться. На том фото была изображена женщина в платье, обтягивающем её сверху и наоборот с пышной объемной в складках до земли юбкой от пояса. Женщина явно являлась богатой, ибо то платье по всему немало стоило, как и высокая прическа в которую были уложены ее волосы. Конечно, то сфотографировалась знатная дама, причем явно не русская, потому что даже на черно-белой фотографии можно было определить, что она необычно смугла. Но не это прежде всего привлекло внимание Ксении, а то… То, что дама сидела в каком-то странном сооружении, каком-то подобии не то кареты, но которую везли не лошади, а носили на руках люди. И эти носильщики тоже присутствовали на фото. То оказались двое мужиков с совершенно черными лицами, кистями рук и такими же босыми ступнями ног, но в цилиндрах на головах. По всему то были слуги дамы, которые принесли ее в этой карете-носилках и сфотографировались вместе со своей госпожой.
– Что ты там рассматриваешь, забыла зачем пришла!? – недовольно отреагировала на этакий ступор горничной Ирина Николаевна, заглянувшая в библиотеку.
– Барышня, а кто это на картинке? Вроде как барыня заморская, но почему у нее крепостные такие черные, как из преисподней вылезли? – спросила, совершенно забыв об уборке, впечатленная увиденным Ксения.
– А тебе не все равно, тебя убирать послали, а ты стоишь рот разинув. Что ты там такое увидела? – недовольно отчитала Ксению барышня, но все же подошла.
Ирина Николаевна посмотрела на фото, усмехнулась и пояснила:
– Это барыня из Бразилии, есть такая страна очень далеко от нас. А сидит она в специальных носилках, которые называются паланкин. А это слуги ее, называются негры. Они ее в этом паланкине носят. Фотографическая карточка так и называется «Дама в паланкине». Понятно?
– А негры… это крепостные такие у них? – продолжала проявлять интерес Ксения.
– Ну, не совсем так. Негры были рабами, они вообще ничего своего не имели, а у нас, ты это от своих бабок должна помнить, крепостные и свой земельный надел имели, и дом. Это сейчас всякие болтуны любят говорить, что хуже жизни, чем у нас при крепостном праве нигде не было, а вот в той же Бразилии, или в Северо-Американских Соединенных Штатах рабы жили куда хуже, чем у нас крепостные, – сочла нужным вступиться за «родное крепостное право» барышня.
– А чего ж эта барыня, по всему такая богатая, а такое старое платье одела. Они там, что до сих пор так ходят? – фото так заинтересовало Ксению, что она спрашивала и спрашивала.
– Потому что эту фотографическую карточку сделали еще лет пятьдесят назад. И этой барыни и этих рабов наверняка уже и на свете нет. А тогда еще такая мода была, все знатные дамы такие платья носили. Ну ладно, хватит, и так сколько времени уже лодырничаешь, принимайся за работу, – барышня решительно захлопнула книгу.
Запечатлевшееся в памяти то фото, потом долго не давало покоя Ксении, и время от времени «проявлялось» в течении всей ее жизни. Из объяснений барышни она сделала совсем не тот вывод, на который та явно намекала. Дескать, наши господа не такие уж плохие, как многие о них думают, во всяком случае носить себя своих крепостных не заставляли. Нет, мысли Ксении потекли совсем в ином направлении: там за морем господа себе подобных, то есть ничем внешне от них не отличавшихся людей в крепостных не обращали, они для этого, вон, черных людей бесправными быть заставили. А у нас?… Ведь вон кругом сколько народов на русских не похожих живет: и татары, и башкиры, и калмыки, и киргиз-кайсацы и никого из них в крепостные не обратили, над своими изголялись только. С детства она не раз слышала в деревне досужие разговоры любителей позубоскалить на тему рабов и господ. И там тоже часто слышала возмущение этим фактом, почему в крепостные загоняли только русских и прочих православных, хотя у царя каких только подданных не было, но почему-то всех их та доля миновала.
И еще, что явилось следствием раздумий Ксении после увиденного на той фотографии. Она вдруг обрела с полной отчетливостью свою мечту, цель жизни – во что бы то ни стало стать чем-то вроде той госпожи из дальней заморской страны, которую носили в специальных носилках черные слуги. Она словно вживалась в образ той дамы, пыталась ощутить, что она чувствовала, когда два черных раба ее несут, и у нее от этого захватывало дух: вот оно настоящее счастье, так жить, при этом ничего не делать, только повелевать рабами, распоряжаться их жизнями, их судьбой, чтобы тебя с полуслова понимали и выполняли твои распоряжения, даже капризы. По сравнению с такой властью, даже власть, которой обладали господа Римские-Корсаковы и даже их предки казались ей властью низшего порядка. Ей казалось, что та дама с фотографии действительно обладала настоящей абсолютной властью над своими рабами и могла позволить себе такое, о чем русские баре и не мечтали. Иногда и более извращенные мысли лезли ей в голову: а как наказывала та смуглая барыня своих черных рабов, когда те ее чем-то прогневили, ну к примеру несли слишком медленно, или оступились, тряхнули сильно носилки, или даже уронили? Если она могла заставить их себя носить, то по всему и наказать могла как угодно. И те наказания, что русские баре применяли к своим крепостным, та же порка на конюшне… то наверное в той заморской стране и за наказание не считалось. Иной раз Ксения так отдавалась во власть тех видений, что забывала, где она и в каком статусе пребывает.
Ирине Николаевне эти метаморфозы, происходящие с ее горничной, конечно, не могли понравиться. Не догадываясь об истинной причине непонятно откуда появившейся у Ксении забывчивости и ступора, она несколько раз ее отругала, а когда то не произвело нужного воздействия… Гены предков-крепостников проснулись в Ирине, когда Ксения, в очередной раз вместо того чтобы не раздумывая исполнять ее распоряжение, стала в очередной раз «ловить ворон». Барышня не сдержалась и слегка ударила ее по щеке, чем сразу вывела Ксению из ступора. Этот удар сразу и надолго отрезвил Ксению, заставив «опуститься на землю», вспомнить кто она есть и… тем не менее, мечта в сознании Ксении определилась окончательно и бесповоротно.
Обиделась ли на пощечину Ксения? Конечно, и сначала у нее возникло спонтанное желание дать сдачи… Но в то же время она уже не сомневалась, что именно так и должна вести себя госпожа с провинившимися слугами, а те обязаны сносить и побои и прочие унижения от своих господ. В какой-то степени она, еще находясь в ранге горничной, ставила себя на место госпожи, место которое со временем мечтала занять. Именно в ее понимании идеал в отношениях меж слугами и госпожой она случайно подсмотрела на той фотографии. Разница в том, что в России господа и рабы не различались по цвету кожи. Но в ее мечтах, тем не менее, почему-то чаще всего виделась «картина», где она повелевала рабами с нерусским обличьем: её на носилках носили то негры, то представители известных ей степных народов, кочевавших по соседству с Саратовской губернией. От таких «видений» она получала истинное наслаждение. По всему в основе ее мировоззрения лежало не сословное как у русских аристократов, а расовое неравенство, распространенное прежде всего в обоих Америках.
Николай Николаевич в конце концов сдался. Он смирился, что предводителем губернского дворянства ему не быть и согласился благословить брак дочери с нищим поручиком. Вскоре после торжеств по случаю трехсотлетия царского дома сыграли свадьбу. Потом Ксения в качестве прислуги сопровождала молодых, когда они согласно обычая навещали своих многочисленных родственников, в первую очередь конечно со стороны невесты: в Пензенской губернии, Псковской, Москве, Петербурге… В ходе этого путешествия Ксения повидала мест, наверное, больше, чем в совокупности все жители Подшиваловки, большинство из которых дальше Саратова никуда не ездили. Молодые собирались и за границу съездить, а Ксения даже вознамерилась повидать земли, где черные люди носят в паланкинах белых дам. Будучи совершенно неграмотной, она не представляла насколько далека та чудесная в ее представлении Бразилия, и то, что запечатлено на фото произошло очень давно и там тоже уже нет рабства, и то что ей так понравилась там тоже сейчас невозможно…
В дело вмешался финансовый фактор. Николай Николаевич, по понятным причинам недовольный зятем, не был склонен щедро финансировать свадебные путешествия молодых, ну а у поручика своих сбережений не оказалось, на жалование субалтерн-офицера, то есть младшего офицера, особо далеко не уедешь. Так что заграничное путешествие пришлось отложить на несколько лет. Но то уже было (если оно случилось) не поездка в свое удовольствие, ибо супруги совершали его уже не по своей воле. А тогда в 1913 году молодым пришлось вернуться в Саратов. В деревне Ксению встречали как местную знаменитость, повидавшую полмира. Когда она отпросилась проведать родных, полдеревни собралось на их дворе, слушать ее рассказы о Петербурге, Москве, о том какая большая родня у Римских-Корсаковых и их баре среди них далеко не первые, что их подшиваловский дом рядом с дворцами некоторых их родичей смотрится бедной избенкой.
А потом наступил 1914 год, прошла зима, весна и уж к концу шло лето, когда началась война и все постепенно стало переворачиваться с ног на голову. Будто сама судьба все делала так, чтобы вроде бы неосуществимые мечты Ксении хотя бы частично начали воплощаться в реальности. Впрочем, не только ее мечты. Сколько людей со дна российской жизни: кухаркиных детей, рабочих, крестьян, евреев из черты оседлости, порой даже обыкновенных душегубов получили возможность подняться с того дна и заявить о себе. Конечно, в сравнении с народной массой заполнявших низшие ступени социальной лестницы таковых счастливцев оказалось не так уж и много, большинство так и осталось там где были. Но кое-кто этим временем несомненно воспользовался всплыл, вскочил в социальный лифт под названием революция. Но законы любого общества таковы, что если кто-то всплывает снизу, кто-то сверху должен свое место уступить. Из прежних «сливок» кто-то бежал за границу, кто-то опустился в низшие слои общества, но баланс остался прежним пирамидальным: наверху немногие и чем дальше вниз тем шире пирамида. Ну, и еще необходимо добавить, что многие вообще не пережили это лихое время.
Поручика с полком сразу отправили на фронт. Ирина Николаевна так переживала за мужа, что заметно спала с лица и тела и уже не смотрелась прежней красавицей. Она жила, что называется, от письма да письма. Зато Ксения все больше в тело входила и по деревенским понятиям стала первой невестой на деревне. Впрочем, женихов в Пордшиваловке почти не осталось, молодых парней едва не поголовно мобилизовали. Отца Ксении тоже призвали в действующую армию, но она никогда о нем особо не переживала и сейчас восприняла его мобилизацию как очередной уход на отхожий промысел.
Барин, Николай Николаевич вдруг начал болеть, слег, а от поручика перестали приходить письма. Совсем Бог отвернулся от господ Римских-Корсаковых, впрочем, как и от потомков крепостных их предков. Остававшиеся в Подшиваловке старики, бабы и подростки едва успели до снега убрать урожай, не избежав потерь. А вот уже на сев озимых сил, что называется, почти не осталось. Немцев в армию не призывали, и в деревне и по этой причине, и потому, что воевали с Германией, возникла определенная напряженность. Потом с фронта пошли похоронки, стали прибывать раненые и калечные. Ввиду того, что заготовили мало сена, уже к Рождеству стало нечем кормить скотину, которую приходилось забивать. В начале 1915 года в некоторых семьях начали голодать, резко выросла смертность в первую очередь среди стариков и детей. Семья Ксении, оставшись без кормильца, хоть и неважного, выживала только благодаря ее регулярной помощи деньгами и продуктами.
Очень тяжелым оказался тот 1915 год. Эйфория первых дней войны уже прошла и стало ясно, что ничего кроме смерти, обнищания и голода она не несет. А голодный он более всего ненавидит рядом живущего сытого. Под эту порцию завистливой ненависти вместе с немцами, господами, попала и Ксения. Она то чувствовала инстинктивно и старалась без пущей надобности в деревне не появляться, тем более, что едва ли не день ото дня становилась все более цветущей, наливалась словно расцветающая роза. Само собой в столь голодное время это воспринималось как вызов влачащим жалкое существование односельчанам.
Весной 1916 года Николай Николаевич, так и не оправившись от болезни, скончался и был похоронен в фамильном склепе. Чуть позднее летом того же года мужа Ирины Николаевны на фронте тяжело ранило и она поехала к нему в Петербург, где он лежал в госпитале. В имении не осталось хозяев, прислуга без догляда ленилась и мало помалу усадьба стала приходить в запустение. До февраля семнадцатого года жизнь в барском доме более-менее еще теплилась, слуги надеялись, что хозяева вернутся. Но после февраля, отречения царя, ситуация так резко поменялась, что находится в имении стало некомфортно, ибо в хижинах стало безопаснее чем во дворцах. Тем не менее, Ксения и еще несколько старых слуг оставались в барском доме, не давая его разграбить, ну и сами кормились из заготовленных здесь в прок запасов, конечно же помогая и своим родственникам в деревне.
Хозяева вернулись летом 1917 года. Крайне озабоченная Ирина Николаевна уже совсем не напоминала ту красавицу барышню, за которой готовы были волочиться едва ли не все молодые дворяне губернии. Не прежним ловким наездником смотрелся и едва оправившийся от ранения поручик… вернее носящий уже чин ротмистра муж Ирины Николаевны. Челядь радовалась возвращению господ, выказывала верность, что живота своего не жалели ради господского добра, когда многих соседних помещиков разграбили и пожгли… Но как оказалось радовались напрасно. Хозяева приехали всего на несколько дней, чтобы частично забрать с собой, а частично спрятать имеющиеся в доме ценности. Живя в Петербурге и по дороге в Подшиваловку они видели, что творится в стране, все сильнее охватываемой анархией. Да, на некоторых слуг они могли положиться, но и они вряд ли ценою жизни станут спасать барское добро.
Драгоценности свои и те, что достались ей от матери и бабки Ирина Николаевна забрала с собой, денежные ассигнации тоже, но вот серебряную посуду, хрусталь, фарфор, ценные статуэтки и много еще чего… это взять с собой невозможно. Не все и малогабаритные ценности смогли взять с собой господа. От Николая Николаевича осталось немало золотых царских империалов и полуимпериалов. На поверку почивший барин оказался не так уж беден, просто на людях прибеднялся. Даже родной дочери о том золоте он сказал, будучи уже при смерти. Не одна сотня монет… везти их с собой вместе с прочими ценностями было и тяжело и неразумно – кругом царил бандитизм, и всего можно было лишиться разом. Большую часть монет супруги решили спрятать в тайнике устроенном в печке. Коробку с империалами положили в тот тайник под изразцовой плиткой. Никто из слуг об оном не знал… кроме Ксении. Она, еще когда ухаживала за больным барином, подсмотрела, как он вытаскивал одну из изразцовых плиток печки и что-то оттуда доставал. Расположение той плитки, под которой скрывался тайник, она запомнила. Находясь постоянно рядом с барыней, она из подслушанных разговоров поняла, что немалую часть отцовских монет супруги решили оставить в том тайнике.
Наказав оставшимся слугам и дальше беречь дом, Ирина Николаевна с ротмистром укатили, а прислуга… Прислуга спустя некоторое время окончательно разбежалась, ибо не то что сторожить, но и оставаться в барском доме стало небезопасно…
1963 г.
«Качели» прошлое-настоящее опять перенесли Ксению Андреевну из начала века во вторую его половину – она вновь ненадолго пришла в себя. В соседней комнате внучка «доставала» мать вопросам: почему на ее работе подарки детям на Новый год хуже, чем у отца и сейчас и особенно с теми, когда он работал на прежней работе. Сначала сноха отговаривалась, что понятия не имеет. Но внучка не отставала, и сноха была вынуждена пуститься в пространные объяснения, де «Скотоимпорт», где раньше работал отец, организация, имеющая прямое подчинение Москве, и Совхоз где он работает сейчас очень богатый, так называемый миллионер. А коммунальная служба, где работает она, организация местная, бедная у нее возможности не такие, чтобы детям своих работников закупать апельсины, мандарины и московские конфеты, зефир с пастилой. Она может позволить только яблоки, да неважную алма-атинскую карамель.
Как отреагировала на такие объяснения внучка, Ксения Андреевна слушать не стала, ибо сильно захотела пить.
– Зоя… Зоя… попить дай, в горле пересохло! – хоть и негромко прозвучал голос свекрови, но сноха даже не разобрав всех слов уже через мгновение оказалась возле больной:
– Что… пить? Я сейчас.
Поднося чашку с водой, сноха участливо спросила:
– Мама, как вы себя чувствуете?
Ксения Андреевна отпила совсем немного и, не отвечая на вопрос, попыталась заговорить строгим голосом, что у нее получилось весьма неубедительно:
– Володя где?
– На дворе, там уголь привезли, он его от дождя закрывает.
– А Боря?
– В огороде, яму под виноградную золу копает заранее, чтобы потом ее на зиму туда уложить. А то потом по холоду придется землю долбить как в прошлом году.
Эти вопросы сейчас имели скорее символическое нежели реальное значение того, что Ксения Андреевна по-прежнему пытается быть в «курсе всего» и держит руку на «пульсе жизни» семьи сына. Однако она была настолько слаба, что даже такие символические усилия отняли у нее слишком много сил, в результате чего Ксения Андреевна вновь погрузилась в полузабытье.
1917 г.
После отъезда хозяев и бегства прислуги барский дом некоторое время стоял совершенно необитаемым. Вокруг едва ли не все также уцелевшие барские усадьбы беспощадно грабились, растаскивались по бревнышку и кирпичику, сжигались, а подшиваловцы все никак почему-то не могли решиться. Все же надо признать не было у потомков крепостных Римских-Корсаковых этакой всеобщей ненависти к своим господам. Отдельные мазурики, конечно, были не прочь поживиться барским добром, но таких насчитывалось немного и они побаивались «вылезать» без поддержки большинства. Тем временем в деревне с фронта все больше прибегало дезертиров, распропагандированных большевиками или эсерами. И чем их больше становилось, тем сильнее они подбивали односельчан не сидеть «сложа руки», а идти грабить имение. Старики в основном противились – не дай Бог господа вернуться, отвечать придется. Эти колебания продолжались почти до конца года, когда из Питера пришло известие, что там власть взяли большевики. Фронт окончательно рухнул и почти все воевавшие подшиваловцы, многие с оружием, возвратились домой. Именно фронтовики и составили большинство в созданном местном органе власти, подшиваловском сельсовете.