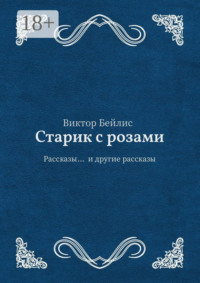Дьяволенок Леонардо. Рассказы и эссе
– Девочка!
Мальчики, словно бы подчиняясь неслышному приказу, похватали луки, и каждый выпустил в воздух стрелу. Между тем взрослые со смутной настороженностью и тревогой разглядывали девочку. Новорожденную передали матери, которая, продолжая лежать, держала ребенка на вытянутых руках. Стало видно, что у девочки на ногах диковинные браслеты, на руках запястья, а на шейке амулеты. Удивительно было, что у младенца женские груди – небольшие, но как бы старческие, дряблые и отвисшие. Глаза – при темном цвете кожи – иссиня-голубые. Вдруг эти глаза закатились, так что остались одни белки, а груди, словно глиняные лепешки, стали отваливаться.
Мать закричала:
– Эгба ми, ара э ма нтуту! Ара э ма нтуту!
– Что она говорит? – спрашивали взрослые.
– На языке йоруба это означает: «Помогите, она вся холодеет!» – объяснили близнецы.
– А почему она говорит на йоруба?
– Потому что она родила абику, – тихо и печально произнес альбинос, и мы увидели его пронзительно-зеленые глаза под воспаленно-красными веками.
– Абику, – вступил я, – это сверхъестественное существо, которое умирает и снова рождается, уходит в другой мир и возвращается – этот цикл бесконечен. Смотрите! Ребенок меняет пол!
Все взгляды устремились к младенцу. Его глаза вновь обернулись зрачками к этому свету, и он с видимым любопытством наблюдал за метаморфозами, с ним происходящими. Казалось, он даже усилием воли слегка приподнял свой новый отросток, чтобы лучше разглядеть его.
– Я боюсь, я боюсь за мое дитя, – шептала мать, вновь обретя дар родной речи.
К ней подошла Гунта, невесть откуда появившаяся на поляне. Она стала на колени рядом со страдалицей и что-то ласково зашептала ей на ухо.
– Я знаю, что надо делать, – тихо сказал альбинос, и младенец метнул в его сторону испепеляющий взгляд. Альбинос продолжал говорить (привожу слова, как я их запомнил, то есть не в полном виде):
– Бог Богов и Господь Господей, огненных чинов творец и бесплотных сил хитрец, небесных и поднебесных художник. Возьми своею владыческою рукою из новорожденного скорби и болезни, злыя дела, помрачительныя, и силы дьявольские поверзи в огнь лютый.
– Икоты-икотницы – шепотную икоту, потяготную икоту, клокотную икоту, смехотворную икоту, плач неутолимый, усовники, болетки, внутренняя огневы, топорки, глухую тоску, подданную, поддельную, подвивную, взглядную, сполюбовную, с буйной головы, с семя, с мозгу, с ясных очей, с черных бровей, с длинных ресниц, изо рта, из носу, из губ, из десен, из зуб, с языку, с могучих плеч, из белых рук (он немножко запнулся и посмотрел на темнокожего младенца, который, впрочем, как все проследившие взгляд альбиноса заметили, стал совершенно белым), из белых рук, из завитей, из костей, из перстов, из-под ногтей, с белой груди (еще один взгляд – и уверенно), с белой груди, с ретивого сердца, с черной печени, с белого легка, с серого желудка, из желтой желчи, изо всего чрева человеческаго, с поясницы, с подколенных жил, из лапастей, из перстов, из-под ногтей, из крови горячей, изо всего тела человеческаго.
Сказав это, альбинос изнемог и, прислонившись к сосне, медленно сполз на землю. Младенец глядел на него с ухмылкой и только произнес:
– Ишь ты!
Видя состояние альбиноса, в дело вступили близнецы (они говорили по очереди):
– Окаянныя дьявольницы, как имена ваши? Рцыте нам!
Со стороны младенца послышался низкий женский голос:
– Мне есть имя Трясовица – распаляю у человека все члены и кости.
И двенадцать раз разными голосами на вопрошания рыжих отвечал младенец:
– Мне есть имя Медия, зноблю все члены.
– Мне есть имя Ярустошо…
– Мне есть имя Коркуша…
– Желтодия…
– Люмия…
– Секудия – всех проклятейшая…
– Пухлия…
– Чемия…
– Нелюдия, ночью сна не даю, с ума человека свожу…
– Мне есть имя Невия – вся проклятая и старейшая трясовица… Не может человек от меня излечиться и лишится жизни.
И опять вступил альбинос:
– Выходит морской петух единожды в год. Вострепещешь своими крыльями и воспоешь: от твоего петушьего гласу потрясется мать сырая земля, море и мелкие озера всколышутся, текучия реки возмутятся, власти устрашатся, а сила дьявольская укроется в светлые воды, ухоронится в горы, пещеры, в стоячий деревы, под лежачий колоды…
И он вновь ослаб…
Тут неожиданно вошел в круг Маэстро Феллини. Он приседал, приплясывал, взмахивал руками и неистово скандировал в стиле рэпа (В то время о рэпе, конечно же, мы не слыхивали, так что Феллини можно по праву считать предтечей или даже родоначальником этого стиля).
– Шикалу, Лукалу!
Шагадам, магадам, викадам.
Пинцо, пинцо, пинцо, дынза!
Коффудамо, нираффо, сцохалемо, шолда!
Жу, жу, Згинь! Згинь!
Веда, шуга, лихорадка, на да шуга!
– Прекратить бесовство! – перекрывая все голоса, закричал профессор 4. Все замерло, и все посмотрели на профессора. Тот гневно размахивал кулаками перед лицом Феллини и бросал в него словами:
– Богохульник! Сатанист! Ирод окаянный! Убойся, бежи, отыди весь, о, бес нечистый, злый, сильный, преисподние глубина и лживый блазном, льстивый, необразный и многообразный…
И он долго еще восклицал в полнейшей тишине, пока не заметил, как переменилась картина на поляне…
Не знаю, как продолжить рассказ, чтобы не лишиться доверия дочитавших до этого места. Дело в том, что все исчезло. То есть исчез лукавый младенец, исчез костер, роженица стояла в кругу детей, готовившихся к состязаниям в стрельбе из лука. Все происходившее на поляне было чьей-то рукой вынуто из памяти участников пикника (в том числе и моей). Почему и как я вспомнил это сейчас – честно говоря, не знаю. Перед тем, как описать это лето, я осторожно выспрашивал у участников событий какие-то детали – никто ничего не помнит, даже дети, уже, разумеется, повзрослевшие. Один лишь альбинос произнес загадочно:
– Он еще вернется.
Что еще сказать: мелькают лица – профессор, Гунта, Феллини, Эгон, Гунта, Михайловы, Гунта… Гунта…
Стоят три гроба, в тех гробах три доски, на каждой доски три тоски; первая тоска убивалася, с телом сопрягалася; вторая тоска убивалася, с телом сопрягалася; третья тоска убивалася, в сердце вошла. Аминь.
Весна 1998 г.Дьяволенок Леонардо

Помню детское свое ошеломление, когда я впервые увидел в альбоме репродукцию этой картины Леонардо да Винчи.
Согласно названию, на картине изображен Иоанн Креститель. Молодой полуобнаженный человек глядит на меня глазами, переполненными соблазном и насмешкой, почти глумлением. Мне становится страшно.
Этот человек первым признал Христа и призывает креститься в реке Иордан? А что за жест? Допустим, правый палец его назидательно поднят кверху, и, возможно, он что-то объясняет и проповедует, хотя это все же не жест проповедника: что-то в нем есть такое же издевательски-соблазнительное, что и в зловещем взгляде, сулящем недоброе. Можно предположить, что палец направлен на слегка проступающий из темноты крест, хотя в это верится с трудом: слишком чужероден крест всему настрою этой картины и, вероятно, ее смыслу. Мне, честно говоря, этот жест кажется сродни современному, имеющему смысл: «А вот на-ко-ся, выкуси». Да и в лице юноши скорее лукавство, чем прозелитство. А и можно ли назвать лукавством оскорбительность, издевательство и почти скабрезность? Здесь изображены сознающее себя предательство и измена, надувательство и коварство.
Разумеется, в детстве я не формулировал все это буквально этими словами, но я смутно ощущал все, что сейчас пишу. Когда много лет спустя я увидел эту картину Леонардо в Лувре, мои давние впечатления подтвердились с лихвой и еще усугубились, хотя все-таки оставались смутными.
Я, конечно, понимал, что во времена Леонардо художники названия своим картинам не давали, что представление о том, что на картине изображен Иоанн Креститель, могло возникнуть много позже создания шедевра, что автор названия мог преследовать какие-то свои, посторонние портрету, цели, но ведь закрепилось же название и живет нераздельно с картиной. В искусствоведческих работах я увидел предположение, что крест и одеяния, возможно, были написаны не Леонардо, а кем-то другим, вероятно, одним из учеников мастера, но значительно позднее.
Не буду сейчас ссылаться на свои розыски в области искусствоведческой и символологической литературы, где толкуются и жесты, и мистические смыслы, и аллегории, связанные с портретом. Желающие смогут найти в интернете видео с интереснейшими лекциями Алексея Назарова, в которых прослеживаются аллюзии на Гермеса Трисмегиста, Еноха и Метатрона.
http://tv.tainam.net/index.php?option=com_content&view=article&id=84&Itemid=26
Оставляю конспирологию в стороне. Я пишу не искусствоведческое исследование, хотя многие догадки ученых мне известны и интересны. Да ничего нового я, пожалуй, и не скажу. Хочу только рассказать историю своих локальных открытий, совершенных мною не как специалистом (каковым я не являюсь), а просто не лишенным внимательности любителем живописи.
Несколько лет назад я впервые пожил несколько дней в Милане. Здесь, конечно, было на что посмотреть и помимо «Тайной вечери» Леонардо. И вот в одном из залов Pinacoteca Ambrosiana я застыл напротив картины Gian Giacomo Caprotti – San Giovanni Battista.

Мне не показалось, что это удачная копия работы Леонардо: она была попроще, в ней не было мощи учителя… но сохранялась некоторая глумливость. Художник Джан Джакомо Капротти вошел в историю скорее как факт биографии Леонардо, чем как мастер. И вошел-то он не под именем своим, а под прозвищем Салаино. А прозвище, между прочим, глумливое: Salai – значит «нечистый» (так называли дьявола, в том числе и в России), Салаино – уменьшительное от этого слова, то есть «чертенок», «дьяволенок».
На памятнике Леонардо, установленному в Милане неподалеку от Ла Скала, у подножия стоят скульптурные изображения учеников Мастера. Одна из фигур – Салаино.

Кличку свою художник получил в десятилетнем возрасте, когда определился к Леонардо в качестве ученика и при этом сразу же, в тот же день обворовал учителя. Он тут же был уличен, но потом неоднократно в различных ситуациях без зазрения совести прибегал к воровству, подчас даже рискуя жизнью и вызывая бешенство и ненависть других учеников Леонардо. Учитель же, аккуратно занося в свой дневник прегрешения дьяволенка, неизменно защищал и выгораживал миловидного мальчика, вызывая при этом сплетни и слухи о собственных несколько извращенных повадках.
Слухи живут (и множатся) до сих пор, тем более что почти все свое наследство, включая и «Джоконду», Леонардо оставил именно Салаино, который через несколько лет после смерти учителя (и любовника?) погиб в пьяной драке. Известно, что Салаино был постоянным и любимым натурщиком Леонардо.
Недавно итальянский искусствовед Сильвано Винчети высказал гипотезу о том, что даже сама «Джоконда» писана Леонардо именно с женоподобного Капротти.

Но я и не об этом. Говорят, в коллекции английской королевы Виктории было несколько рисунков Леонардо, которые считались эротическими. В какой-то момент эти рисунки стали полагать утраченными, во всяком случае, из Великобритании исчезнувшими. В последние годы они таинственно всплыли, и уже в нескольких местах выставлялся рисунок с загадочным названием Angelo incarnate (Ангел во плоти).

Это до чрезвычайности странный ангел, имеющий по современным критериям признаки порнографического изображения – в силу напряженности своего гендерного состояния (прошу заметить мою законопослушность в выборе терминологии. – В. Б.)
Не знаю, ближе ли мы к разрешению загадки «Иоанна Крестителя» или дальше от нее. Но вот, наконец, мы видим совмещение изображений: это и портрет (карикатура?) Салаино (дьяволенка? ангела во плоти? похотливого развратника?), и набросок глумливого и обольстительного Иоанна с его уже знакомым нам жестом (проповедника?).
Мучитель! Мучитель! Мучитель!
Май 2013Курпарк
(Рассказ о немецкой философии
и русской мистике)
Либерман закончил телефонный разговор, и к нему сразу же подошел Бэр и требовательно заглянул в глаза.
– Любопытствуешь? – умилился Либерман. – Ну, да, тебя это, конечно, тоже касается: мы едем отдыхать. Это недалеко – километров 250 – 300 отсюда. Тебе там будет хорошо.
Бэр покрутил шеей и несколько раз приподнял уши, осваивая информацию. Он всегда принимал участие в семейных советах и настаивал на том, чтобы его точно оповещали о том, что происходит или замышляется. Повернув голову в сторону двери, пес спросил:
– А Мирра уже знает?
– Конечно, Бэрушка, она в курсе. Мы со всеми обо всем договорились.
Либерман потрепал Бэра по холке, как похлопал бы сына по плечу. Он уже привык к мысли, что детей в их семье не будет.
Много лет назад, еще в Советском Союзе, когда Натан встретился и сошелся с Миррой, оба словно сошли с ума от собственной пылкости. В минуты близости оба закрывали глаза, потому что не могли справиться с пошатнувшимися стенами и потолком, пускавшимся вприсядку, в то время как за закрытыми веками вначале включался огнемет, извергавший медленно опадающее пламя, на месте которого так же замедленно разворачивались перья огромного розового психоделического бутона. Одновременно разлепляя веки, они сколько-то мгновений не различали друг друга, потому что все еще созерцали продолжавший перед ними разворачиваться диковинный цветок их любви. Совместными усилиями они сумели словесно описать свои «коллективные» галлюцинации, и никто из них не мог с уверенностью сказать, видел ли он сам этот цветок или его образ навязан партнером.
Все это накрепко сцепило их друг с другом, и оба хотели, чтобы их радость материализовалась, чтобы в доме были похожие на них самих дети, они прикидывали, как будут подкладывать ладони под нежные попки. Года через два после женитьбы, супруги Либерман обратились к врачам, и те в результате разнообразнейших исследований пришли к выводу, что семя, имеющееся у Натана в избытке (оно вскипало по нескольку раз за день и бурно требовало выхода), – мертво. Ни Мирра, не предполагавшая до замужества, что ее супружеские долги окажутся так велики, ни Натан не могли поверить, что такая очевидная избыточность, такой напор, могут оказаться неживыми, точней – бесплодными. Они еще года два помыкались, прежде чем окончательно убедились, что неутихающая радость физической близости не принесет им умиротворяющих плодов. А когда им предложили пробирку и Натан, поразмыслив, согласился, Мирра решительно отвергла «чужое семя» и вдруг выпалила:
– Едем в Германию, там медицина, верно, что-нибудь уже придумала.
– Ты с ума сошла! – вскинулся Либерман и сразу затих. – А ты сможешь там? – тихо спросил он затем.
– Fremd bin ich eingezogen, fremd ziehe ich wieder aus, – грустно спела Мирра строчку из «Зимнего пути» Шуберта.
– Да, да, – прошептал Натан, – чужим пришел я сюда, чужим и ухожу. Это так, так. Ты права.
Но… как чужими (и бесплодными) пришли они в Германию, так чужими (и неплодными) и остались. Немецкая медицина предложила им… пробирку.
Натан Либерман, получая немецкий паспорт, настоял, чтобы его имя было записано не так, как оно транскрибировалось в русских документах на выезд, и чтобы фамилия заканчивалась двойным эн. Короче, теперь он был Nathan Liebermann («Nathan, der Weise», – говорили его немецкие приятели). Знатоки истории понимали, конечно, что фамилия еврейская, но это было наруку: в Германии, как и в России, люди любят обращаться к еврейским врачам и адвокатам, а Натан очень быстро сумел подтвердить свой диплом дантиста и, неплохо владея немецким языком, сразу же получил широкую клиентуру не только в эмигрантской среде. Он и жену свою сумел приспособить ассистентом у себя в кабинете. Купили небольшой домик, завели собаку – коричневую и мохнатую, назвали Бэр (Медведь). Натан полюбил слово gemütlich (уютно) и теперь часто произносил его и дома и на работе.
– Nur immer gemütlich! – говорил он пациентам, если видел, что они склонны к беспокойству.
Он также с удовольствием рассуждал о том, что уют – чисто германское понятие – и что по-настоящему это слово доступно только для немецкого менталитета и ни в одной стране Европы или Америки его не способны воспринять адекватно.
Работы было много, но она приносила неплохой доход, и Натан никогда не жалел денег на то, чтобы хорошенько отдохнуть и развлечься во время короткого отпуска. Он заранее интересовался, в каких местах принимают постояльцев с домашними животными, и все трое, то есть Натан, Мирра и Бэр – семейство Liebermann – уже побывали на всех морях и океанах. Они посетили Таиланд и Доминиканскую Республику, Ибицу и Крит, Израиль и Сингапур. Всюду было великолепно и роскошно. Но… роскошь – не уют, а Натан хотел на этот раз отдохнуть без блеска, но сохраняя ту Gemütlichkeit, с которой он обустроил свой дом.
Предприняв тщательные расспросы, Натан остановил свой выбор на небольшом курортном местечке Bad W., где, как он выяснил, были целебные воды, холмы, смешанные леса и озеро в каком-нибудь десятке километров от окраины. Сговорившись заранее с Дианой, хозяйкой сдававшегося домика с зеленым участком на той самой последней окраине, которая как раз и была ближе всего к озеру, Либерман (н) привез на новеньком фольксвагене все свое семейство – отдыхать!
– Ach du, meine Güte, – сказала хозяйка, – wie heißt der Hund? (Боже, как мило! Как зовут пса?)
– Er heißt Bär (Его зовут Бэр), – поспешила ответить Мирра: у нее было более понятное произношение, а если бы отвечал Натан, то хозяйка наверняка стала бы переспрашивать, приняв Bär за Beer (ягода), что никак либермановскому псу не подходило.
– Медведь, как мило! – одобрила хозяйка и, слегка засмущавшись, задала вопрос:
– Вы ведь, как я слышу по выговору, из России, для вас медведи привычны, а у нас эти животные повывелись и собак так не называют. Впрочем, говорят, в прошлом году кто-то спугнул в малиннике медведя: я слышала медведи понемногу возвращаются в Германию.
– Пойдем, собаченька (Hündchen), я познакомлю тебя с Робертом.
Все ожидали, что сейчас им представят хозяина, но Робертом оказался мохнатый той же окраски, что и Бэр, кролик. Он сидел в клетке, приподнятой на метр от земли, и поочередно приподнимал кверху то левую, то правую ноздрю. Бэр в ту же секунду, как увидел Роберта, стал перед ним на задние лапы и просунул в отверстие клетки нос, вероятно, чтобы понять, к чему там кролик принюхивается.
– Бэр! – предостерег Натан, но хозяйка успокаивающе улыбнулась:
– Я думаю, они подружатся.
Бэр, видимо, сумел понять то, что и пытался выяснить, но почему-то два раза тревожно взвизгнул, а Роберт перестал гримасничать, но вовсе не от испуга: приближение Бэра к его жилищу скорее умиротворило его: если вначале он почему-то крутил носом, то теперь по какой-то причине перестал.
– Das Tier an sich (Животное-в-себе), – подумал Liebermann.
Рядом с домом стоял старый во многих местах прохудившийся амбар, явно принадлежавший хозяйке, хотя, как впоследствии выяснилось, никто из домашних сельским хозяйством не занимался – все работали или учились в городе. Впрочем, к дому примыкали многочисленные поля – «желтеющие нивы», как умильно назвал их Натан, – и амбар могли сдавать под уборочные машины, да так, скорей всего, и было. Поля не были бескрайними, ибо со всех сторон ограничивались холмами, поросшими лесом, или же просто лесами, и Либерманы с удовольствием предвкушали упоительные прогулки – через поле в лес! Внутри дома тоже было, как и мечталось, незатейливо, но удобно, все необходимое под рукой, чистая ванная с цветочными отдушками. Словом, gemütlich!
Быстренько распаковав чемоданы, все семейство отправилось для начального знакомства в курпарк, самый, как указывалось в табличке при входе, большой курпарк в Европе – с целебными источниками, прудами, лебедями и т. п. По дороге Натан говорил Мирре о том, что город меняется в зависимости от того, кто в него приезжает, от того, о чем люди думают и чего хотят. Один и тот же воздух может быть целебен для одних и враждебен другим, даже если у них сходные недуги. Более того, упорные мысли приезжих сгущаются где-то, например, между деревьев курпарка, и приходят потом в голову, как свои, людям, совершенно не причастным к их рождению.
– Представь себе, даже похоть какого-нибудь безусого школяра может вдруг возбудить недужного старика, приковылявшего сюда, чтобы попить лечебной водички из бювета, – говорил Натан. – Я уверен, мы понравимся этому курорту, мы ведь милые, правда, Бэрушка? Да, Миррочка?
– Ох, Натан, я тебя умоляю, не валяй уже дурака, – также дурачась, почему-то с еврейским акцентом сказала Мирра.
Пес разделял веселый настрой остальных членов семьи, но сохранял достоинство и величавость.
Едва войдя в парк, Натан чуть не захлебнулся:
– А это что за красная жопа?
– Где? Где? – заинтересовалась Мирра.
– Да вот же, справа от аллеи. Давай подойдем поближе.
То, что удалось разглядеть Мирре, действительно было похоже на здоровущую задницу совершенно кирпичного цвета. Оказалось, что здесь поставлена скульптура, название которой было закреплено в надписи на подножной плите, и звалась статуя «Die Rote Dame “ (Красная дама). Вся она была карминная, за исключением лобкового треугольника – тот, как и следовало ожидать, потребовал черной краски. Правая рука красной дамы выдвинута немного вперед и сложена лодочкой, словно бы красножопая просит дать ей что-то. И впрямь, в протянутую руку ей положили… нет, не камень, противу того, что подсказывают русские стихи, но свежесорванные полевые цветы.
– Трогательно, – сказал Натан и похлопал девушку по ягодицам.
– Наташка, веди себя прилично в европейском курпарке, – слегка взревновала Мирра: она называла мужа Наташкой, когда чем-то была недовольна, зная, что ему не нравится это имечко.
Бэр на всех троих глядел иронически и своих чувств по отношению к Красной Даме не выказывал. Зато у гостей курорта дама пользовалась очевидным успехом, судя по тому, сколько туристов попытались приобнять статую, позируя для фотографии на память. Несколько десятков таких открыточек было выставлено в витрине располагавшегося тут же неподалеку фотоателье. И нельзя не отметить, что никто никаких скабрезных жестов себе не позволил (сравни для примера измусоленную сиську Джульетты в Вероне).
– Клянусь, это он! – вскричал вдруг Натан.
– Кто – он? – удивилась Мирра.
– Ну, тот, что положил ей цветы.
– Где?
– Вот, на фотографии.
Натан показал на карточку, где коротышка в шортиках стоял на принесенной с собой табуретке, чтобы оказаться вровень с партнершей. Очки, вдумчивый взгляд, полная серьезность и значительность момента.
– Почему ты так уверен, что это он?
– Потому что этот ее любит. По-настоящему. Посмотри, это же ясно.
Мирра еще раз взглянула – и согласилась.
Впечатлений уже было много, а прогулка ведь только начиналась. Вот пруд с пятью неправдоподобно розовыми фламинго. Они дремлют, стоя на одной ноге, но кажется почему-то что их поза выражает застывший экстаз. Один из них вдруг возвращается к действию и, продолжая стоять на одной ноге, изгибает шею и клювом проводит круг по воде, принимая за центр самого себя.
– Смотри он изображает артиста Ярмольника, показывающего циркуль, – восхитился Натан.
– Похоже, – развеселилась и Мирра.
Другие фламинго пытались сыграть входящих в штопор змей, но делали это даже более убедительно, чем мог бы Ярмольник, а потому и не смешно, а только похоже. Вообще своим выступлением они скорее отрабатывали еду, которую им не приходилось добывать, потому что рыбу им приносили, а не запускали в пруд.
Натан предположил, что рыбу здесь не разводят, чтобы туристы не отлавливали ее, отбирая у птиц, но жена подняла его на смех.
– Ты видел хоть одного немца, сорвавшего на общественной клумбе цветок, или переходящего дорогу на красный цвет, или едущего в метро, где билетов не проверяют, – зайцем?
Натан засмущался – настолько невпопад он высказал свое до крайности нелепое предположение – и поспешил к следующему озерцу, где тоже что-то розовело, точь-в-точь того же оттенка, что и фламинго, но это оказались особого сорта лотосы.