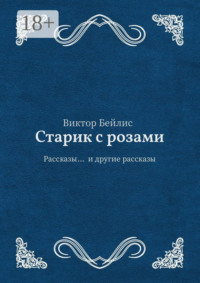Дьяволенок Леонардо. Рассказы и эссе
Один из отпущенных нам дней с утра не задался. Акка прихворнула и решила отправиться к врачу. Лена вызвалась ее сопровождать. Я остался с котами дома. Пошел в душ. Обычно дверь в ванную комнату в квартире не закрывалась, так как коты пользовались туалетом наравне с остальными жильцами: там для них стоял таз с песком и дезодорантом. Я же, принимая душ, заперся из чувства стыдливости, неизвестно перед кем, поскольку все дамы помещение покинули. Стоя под душем, я внезапно услышал стук в дверь, как будто в коммунальной квартире сосед напоминает мне, что гигиенические процедуры необходимы всем.
– Сейчас, сейчас, – сказал я и тотчас взял полотенце.
Когда я ровно через пять минут вышел из ванны, в квартире по-прежнему никого не было. Это показалось мне странным, и я направился в кухню. Не успел я ступить на роскошный каменный пол, как ноги мои заскользили в аккурат на могендовиде, как будто на этом месте был пролит шампунь, и я всей своей немалой тяжестью рухнул, успев на лету еще с еврейской подозрительностью подумать, без всяких тогда еще оснований: «Васька – антисемит». Кряхтя и охая, я стал подниматься, зная, что в моем возрасте следует в подобных случаях опасаться за шейку бедра. Где точно находится шейка бедра, я не знал, как не знал, есть ли вообще на теле у мужчин место со столь соблазнительным названием. Васька, действительно присутствовавший при моем падении, саркастически глядел на мое копошение, и когда мне удалось подняться, я увидел, что Васька тут не вовсе ни при чем и что извиняться за мою подозрительность, вероятно, не придется. Дело в том, что это именно Васька ломился ко мне в ванную и, обнаружив дверь запертой, не стал дожидаться и немедленно насрал на мраморный пол на кухне.
– Все-таки в этом есть и моя вина, – признал я. – Но зачем же так грубо намекать на национальные корни моей вины. При чем здесь могендовид, на который ты насрал, а, скажи, Васька?
– На нем не так заметно, – ответил кот, – иначе ты успел бы разглядеть заранее. Ну, прибери все и помиримся. Как говорится, будь жид, и это не беда, – и он спокойно вышел из кухни.
Обрадованный, что наш конфликт не имеет оттенка национальной неприязни, я взял тряпку, вымыл пол и опять пошел в ванную – вновь заниматься собственной гигиеной, но на этот раз дверь уже не затворял…
Все тело ломило: ушибся я основательно. Хорошо еще ничего не сломал. Я улегся в постель и решил, пока никого дома нет и идти никуда не нужно, немного отлежаться. Взял было книгу, но читать не хотелось. Какое-то дуновение пробежало по моему лицу, словно бы мимолетный сквозняк от того, что открывается входная дверь, когда кто-то пришел, хотя я точно знал, что ждать некого – слишком мало времени прошло с момента ухода Акки и Лены.
И тут я на пороге увидел Эммку Гинзбург.
– Ты откуда взялась? – закричал я, но она молча приложила палец к губам, и я заткнулся, продолжая тем не менее таращить глаза.
– Я пришла отдать долг, – тихо сказала Эммка и подошла к постели. Она склонилась надо мной, нашла мои губы, и мы надолго замерли в поцелуе, в одно и то же время любовном и совершенно спокойном.
Мы не виделись, наверно, лет тридцать, но она была в точности такой, какой я запомнил ее в год ее отъезда из России. Она выпрямилась и пошла к выходу.
– Где ты живешь? – глупо спросил я вдогонку.
– Нигде, – ответила она, и больше я ее не видел.
Я мотал головой и все вспоминал, вернее, все разом вспомнил. Одновременно я пытался осмыслить сказанное ею.
– Что значит: «нигде»? Нигде не живет? Она сказала, что нигде не живет? То есть она не живет во Флоренции? Или вовсе не живет? Она умерла? Да, – понял я, – она умерла, и долг, который она упомянула, был поцелуй, обещанный мне ею, когда я провожал ее в эмиграцию.
Провожал, надо сказать, как в последний путь. Она почти умерла для меня уже тогда, и я простился с ней навсегда, хотя она твердо была уверена, что мы еще увидимся. Правда, когда она уезжала с мужем за границу я, если не лгать, больше не любил ее и даже не ревновал.
Мы познакомились с нею где-то на юге – не то в Гурзуфе, не то в Одессе на двенадцатой станции Большого Фонтана. Вокруг нее, несмотря на присутствие Гинзбурга, вечно увивалась целая ватага веселых раскованных парней, с которыми она перекидывалась колкостями, но часто и горячими до страстности взглядами. Ей очень шел юг, и она прекрасно подходила к нему – с жаркими восточными глазами, длинными черными волосами и неуемной радостной энергией. Я ни разу не видел ее в коротком платье, она всегда носила длинные до пят или надевала брюки, – это было единственное, что не соответствовало южному образу жизни. Поначалу я не задумывался над этой странностью – фигура у нее была замечательная, – потом же, когда поостыл, предположил, что она таким способом пыталась скрыть свои непомерно большие ступни. Темперамент ее, вероятно, определялся еще и смесью многочисленных кровей: в ней было что-то итальянское, армянское, еврейское и, кажется, югославское – иллирийское, что ли.
Первое, что она произнесла после знакомства со мной, были какие-то непонятные слова, что-то вроде «као маче». Я только заметил, что Гинзбург при этих словах криво усмехнулся и внимательно взглянул на меня. Я переспросил, но она только засмеялась. Потом во время наших свиданий и совместных любовных трудов она неоднократно повторяла эти слова, но никогда их не объясняла, несмотря на любопытство, которое я проявлял всякий раз, как она их произносила.
Муж ее был со мною неизменно ласков, как он, впрочем, был приветлив со всеми, несмотря на то, что не мог не замечать характера отношений своей жены со многими мужчинами из ее окружения, которое постоянно обновлялось, теряя старых завсегдатаев, но неизменно приобретая новых. Скандалов я никогда не наблюдал, но сцены, а вернее, приступы жесточайшей ревности у разных действующих лиц видел часто. Да что там, я сам однажды, как в амоке, без остановки пробежал в сорокоградусную жару несколько станций Большого Фонтана. Когда я вернулся после этого пробега в ту же компанию, близкий к инфаркту, но не успокоившийся, она легко приветствовала меня, даже не поинтересовавшись, куда это я отлучался.
Она продолжала обмениваться с неким Андреем взглядами, настолько откровенно похотливыми, что, поймав этот взгляд хотя бы на мгновение и хотя бы на секунду приняв его на свой счет, нельзя было не возбудиться до самого крайнего предела, как невозможно было не почувствовать оглушительного удара молотком по самому средоточию напряжения, когда ты осознавал, что случайно перехватил послание, не тебе адресованное. В тот вечер Гинзбург почему-то отсутствовал, и все засиделись глубоко заполночь. Эмма первая сказала, что пора и честь знать, хочется спать. Уходя, Андрей – я видел это, я виделлл! – обнял ее за талию, точнее, на талии был только большой палец, а остальные, растопыренные, разместились существенно ниже, она же притянула его голову и поцеловала в шею за ухом.
В комнате оставалось еще несколько человек, когда я поднялся, чтобы попрощаться.
– Останься, пожалуйста, – сказала она так, чтобы это слышали все, и все испарились в ту же минуту.
Когда за последним из гостей закрылась дверь, Эмма шагнула ко мне и, глядя тяжелым взглядом мне в глаза, нетерпеливыми пальцами расстегнула пуговицы на моей рубашке и положила голову прямо на мое сердце, которое стучало в этот момент, как пулемет, так что она в какой-то степени повторила тогда подвиг Александра Матросова, оставшись, впрочем, среди живых, да и желанных.
– Боже мой, как я соскучилась, как истосковалась, – прошептала она с такой нежностью, что я тут же захотел умереть, потому что ничего лучшего грядущее не сулило.
– Погоди, я помогу тебе прибрать со стола, – предложил я.
– Ничего убирать не надо, – ответила она, решительным движением сдвигая посуду и садясь на освободившееся на столе место.
Короче, в тот раз это было на столе, и она заставила меня забыть обо всем, обо всем, что было, главное обо всем, что было сегодня: о моей дикой пробежке, о руке Андрея на ее попе и т. д.
– Као маче, – пробормотала она, слезая со стола.
Так бывало много раз. На месте Андрея мог оказаться Дима, на моем – Андрей. Но меня никто не увольнял, и сам я не в состоянии был вычеркнуть себя из списка.
– Как Гинзбург, – думал я про себя, испытывая невольную симпатию по отношению к рогатому мужу и забывая порой, что своими рогами несчастный обязан в частности и мне.
По счастью, в годы о которых я вспоминаю, я умел смотреть по сторонам и вскорости высмотрел Наденьку – крохотную, беленькую, с зелеными глазами, курносую – чудо как хороша: трогательная, доверчивая и верная. С нею я, пусть и не сразу, отказался от встреч с Эммой, хотя, когда я случайно встречался с Гинзбургом, он настойчиво приглашал меня заходить. Как мне потом кто-то объяснил, Гинзбург именно обо мне почему-то думал, что я для Эммы – всего лишь интересный собеседник. Не знаю, льстит ли мне такое мнение или оно унизительно для моего мужского достоинства. Впрочем, не мне рассуждать в связи с Гинзбургом об оскорблении мужского достоинства. Я рассказываю не о нем и не о бедной Наденьке (ох, это грустная история, да простит мне Бог!), а об Эмме.
Я перестал о ней думать и даже раздражался, если кто-то пытался мне каким-либо образом напомнить о ней. Я, впрочем, знал, что она долго болела, что родила девочку, которая долго не прожила, что врачи посоветовали ей сменить климат, и она решила не наездами выбираться на юг, а поселиться там навсегда, для чего по еврейской линии мужа эмигрировала, как все в это время, в Израиль. Гинзбурги позвонили мне и пригласили на проводы, я неохотно согласился – все еще был зол на Эмму. Правда, злость моя прошла, когда я увидел ее, непривычно грустную, даже заплаканную, больную. Она взяла меня за руку, привела в комнату, куда гостей не приглашали; она сквозь слезы неотрывно глядела мне в глаза и твердила: «Приезжай, приезжай, приезжай. Все будет хорошо, да? Ну приезжай – я буду только твоя». Я молчал. Тогда она попросила: «Поцелуй меня». Я повиновался. Она безвольно обвисла в моих объятиях и лишь приняла поцелуй, не ответив на него. Но тихо пообещала: «Поцелуй за мной». Я вышел из комнаты и вскоре покинул дом Гинзбургов – навсегда.
Некоторое время до меня еще доходили какие-то слухи о ней, о том, что до Израиля она не доехала, закрепившись каким-то образом в Италии, что развелась с Гинзбургом, который поначалу очень горевал, но потом связался с одной довольно красивой путаной. Затем слухи заглохли, и мне не хотелось выспрашивать тех, кто мог о ней что-либо знать. Так до сих пор ничего и не слышал о ней…
Я очнулся, когда у входной двери прозвучали голоса вернувшихся Акки и Лены.
– Как, ты до сих пор не подымался?
– Я подымался не один раз, при этом не всегда с постели.
– А где же еще ты валялся?
– Посмотрите на кухонном полу: там должна бы остаться вмятина.
– Ты что, упал? – сильно занервничала Лена.
– Да, споткнулся обо что-то, – соврал я к явному удовольствию слушавшего нас Васьки.
– Но ты успел что-нибудь поесть? – продолжала заботиться жена.
– Да, я нашел сосиски, – успокоил я ее.
– Друг мой, – сказала Акка, – ты в состоянии встать? У меня есть на тебя кой-какие виды. Можешь подойти к компьютеру?
Кряхтя, я вылез из постели и пошел за Аккой в ее комнату.
– Сейчас я покажу тебе один текст, который мне нужно перевести и в котором я не все понимаю. Вот, смотри… Э, любезный друг, куда ты смотришь?
Я действительно смотрел не на монитор, а на фотографию, висевшую над ним на стене. Там была Эмма Гинзбург, какой я не знал – с сединой в черных волосах и в довольно коротком платье – вся повадка какая-то другая, мне незнакомая. Она отличалась и от той, что я видел сегодня. Фотография была снята явно в этой самой квартире.
– А, это ты любуешься Эммкой Ризнич. Ты был с ней знаком?
Пока я думал, что мне отвечать, Акка неожиданно продолжила:
– Као маче?
Я вздрогнул.
– А-а, – довольно протянула Акка, – ты был с ней близко знаком.
– Ты сказала: Ризнич. Это что за имя?
– Как, ты ее хорошо знал и никогда не слышал этого слова?
– Это имя я знаю только из пушкиноведческой литературы, но почему ты так называешь Эмму?
– Потому что это было ее прозвище. Впрочем, не исключаю, что это была ее девичья фамилия. Во всяком случае, она как бы строила свою биографию по образцу той, известной тебе по комментариям к стихам Александра Сергеича.
– Ох, ты даже не представляешь, как много это объясняет. Но что с ней, где она?
– Она умерла года три назад. Жила здесь, во Флоренции, на via Marconi. Это недалеко отсюда. Мы часто встречались.
– Где ее похоронили?
– Этого я не знаю.
– А скажи, пожалуйста, ты повторила слова, которые я часто от нее слышал, не зная их смысла.
– Совершенно случайно я могу ответить на твой вопрос. Как ты знаешь, все русские в той или иной мере интересуются книгами о Пушкине. Недавно мне в руки попалась книга о донжуанском списке Пушкина. Я, естественно, сразу же заглянула в главку об Амалии Ризнич. Так вот, муж Амалии, серб по национальности, предаваясь мемуарам о своей покойной жене, рассказывал о «неудачливом», с его точки зрения, поклоннике своей жены А. С. Пушкине, который увивался за ней, «как котенок» (по-сербски: «као маче»), как, должно быть, и ты, милый друг, за Эммкой, n’est ce pas?
В один из дней мы собирались поехать во Фьезоле. Автобус шел от самого нашего дома. И я уже давно предвкушал, как мы будем с фьезоланских холмов, уже осмотрев древний театр и этрусские развалины, глядеть на лежащую внизу Флоренцию, радостно узнавая храмы, баптистерий, сады и все, с чем мы успели познакомиться вблизи. Такая перемена масштаба и точки зрения помещает укрупненные было детали на надлежащее место, и ты по-настоящему понимаешь, что с чем соседствует, и прозреваешь план, а может быть, и самое идею города. Но не только это подгоняло меня. Дело в том, что, когда я здоров и весел, когда знаю, что вот-вот грянет радость, я твержу про себя стихотворение Михаила Кузмина, которое сейчас с удовольствием произнесу для вас наизусть, – затвердите и вы: счастье – прополоскать рот этими словами.
Если завтра будет солнце,Мы во Фьезоле поедем.Если завтра будет дождик,То карету мы наймем.Если встретим продавщицу,Купим целый ворох лилий.Если мы ее не встретим,За цветами выйдет грум.Если повар наш приедет,Он зажарит нам тетёрок.Если повар не приедет,То к Донелю мы пойдем.Если денег будет много,Мы закажем серенаду.Если денег нам не хватит,Нам из Лондона пришлют.Если ты меня полюбишь,Я тебе с восторгом верю.Если не полюбишь ты,То другую мы найдем.В русской поэзии очень немного таких легких, таких беззаботных, таких беспечальных стихов. И, конечно же, невозможно забыть, что это воспоминание о Флоренции их навеяло. Кузмин эти стихи пел. Сохранились ли ноты? Я, во всяком случае, не слышал об этом, но в тот день, сидя в автобусе (а не в карете – светило солнце, в карете не было нужды, и мы ехали во Фьезоле!), я почти в голос и на собственную мелодию распевал любимые строки. Флоренция в первую мою поездку была для меня совершенно неправдоподобной, она вызвала во мне трепет не только тем, что на улице Данте есть еще и Casa Dante, а рядом церквушка, где похоронена Беатриче, не только тем, что микельанджеловский Давид запросто стоит на площади рядом с другими, такими же знаменитыми скульптурами, а тем, вероятно, что этот город и впрямь стоит на берегу Арно, как об этом, оказалось, правдиво рассказывали многочисленные вруны. Вот только теперь, сидя в автобусе, который через пятнадцать минут прибудет во Фьезоле, я с восторгом верил, наконец, что я во Флоренции, я чувствовал, как она ко мне ласкова, что она, красавица, вовсе не недотрога и позволяет приблизиться, она улыбается и отвечает на вопросы без всякого жеманства.
Я много фотографировал – получалось то же, что запечатлено на многочисленных открытках. Я пытаюсь теперь найти слова для этого города и уже знаю, что не найду их: будет все то же, что в сотнях похожих друг на друга описаниях. Оригинален был разве что Блок, в яростных стихах назвавший Флоренцию блядью, и подозреваю, что главным образом потому, что был истерзан комариными укусами, хотя делал вид, что – приехавший как турист – раздражен многочисленными туристами, а также новостройками и велосипедистами (видел бы он нынешних байкеров!).
Выразить свое чувство к Firenze я мог бы, только представив нежнейшие барельефы одного из ее сыновей – Дезидерио да Сеттиньяно, выставленные во дворце Барджелло. А в остальном – de la musique avant toute chose! И то: из наслаждений жизни одной любви муз'ыка уступает! Скажем тогда так: Флоренция – одно из сильнейших наслаждений жизни. И поставим точку. Dixi.
Мы уже собирались уезжать из Фьезоле, но меня чем-то привлекла улочка, уходящая куда-то вверх. По ней ездили машины в обе стороны, но я не представляю себе, как они могли бы разъехаться, если бы встретились. Мы взобрались на самый верх, но там улица кончалась, упираясь во вход на кладбище. Мы переглянулись: идти ли дальше? Решили посмотреть. Прошли несколько шагов, и я остановился, как вкопанный, так резко, что Лена испугалась.
– Что случилось? – спросила она.
– Смотри, – сказал я, указывая на могильный камень, на котором русскими буквами было выбито: «Эмма Гинзбург», и дата упокоения: апрель 2002 года… – Подожди, пожалуйста, я схожу за цветами.
Я бормотал про себя безумные, нелюбимые слова из Блока:
Умри, Флоренция, Иуда,Исчезни в сумрак вековой!Я в час любви тебя забуду,В час смерти буду не с тобой!О, Bella, смейся над собоюУж не прекрасна больше ты!Гнилой морщиной гробовоюИскажены твои черты!Когда я вернулся с букетом, Лена, стоявшая там, где я ее оставил, вытирала слезы.
Ах, какие странные сближения случаются в этой жизни, господа!
Что русские сделали для своей Флоренции, что Флоренция сделала для чужих русских?
И все-таки еще из Блока:
Флоренция, ты ирис нежный;По ком томился я одинЛюбовью длинной, безнадежной,Весь день в пыли твоих Кашин?О, сладко вспомнить безнадежность:Мечтать и жить в твоей глуши;Уйти в твой древний зной и в нежностьСвоей стареющей души…Но суждено нам разлучиться,И через дальние краяТвой дымный ирис будет сниться,Как юность ранняя моя.Флоренция, октябрь 2004,Франкфурт, март 2005Амаркорд
Моему сыну
Я никогда не был поклонником мемуаров, ни, тем более, мемуаристов. И все же что-то заставляет меня засесть, если не за воспоминания о жизни, то за рассказ об одном эпизоде, который я попытаюсь восстановить со всей доступной мне точностью и полнотой, а также без каких-либо беллетристических прикрас.
Итак, я вспоминаю. Амаркорд…
В 80-е годы я каждое лето возил своего сына в небольшой латвийский поселок на берегу моря. Там ежегодно собиралась московско-ленинградско-рижская компания, в которой приятельствовали все – и дети, и родители. Возраст детей от года до четырнадцати. Дети готовили театральные представления, а взрослые придумывали и разыгрывали для детей шарады. Устраивали походы, раскидывали палатки, играли в футбол (при этом детская команда всегда выигрывала, с минимальным, впрочем, счетом). Сюда приезжали многодетные семьи, которые еще и разрастались из года в год. Здесь были два рыжих мальчика – близнецы, один альбинос, девочка-хромоножка, кто-то заикался, кое-кто обещал стать красавцем или красавицей, или даже (как оказалось из детских показаний) были уже таковыми. Все милы необычайно. Радость и благодать!
Вечером, уложив детей спать, взрослые собирались в одном из снятых домов, чтобы выпить водки и, по примеру детей, поругать советскую власть. Об этой последней страсти родителей в поселке догадывались и потому вполне дружелюбно относились к приезжим. Один старик, которому я помогал по хозяйству, как-то даже решился высказаться в этом же ключе. Он произнес весьма эвфемистическую (почти эвфуистическую) фразу, смысл которой я тем не менее ухватил. Сделав рукой широкий жест и словно бы описывая весь после Ульманиса начавшийся бардак, он сказал: «Это все тимикали, тимикали, тимикали!» Что, безусловно, должно было означать: «Весь этот развал и загнивание – дело рук большевиков».
Я выслушал его с уважением, ценя то доверие ко мне, с которым крамола была высказана, и спросил, как же прежде-то было? – При Ульманисе? – улыбнулся старик, подтверждая тем самым мою догадку, что слово «химикалии» синонимично советской власти. Он много рассказал мне тогда, начав с демонстрации выразительного монумента, который он сам установил на своем участке и который должен был символизировать контрастность настоящего и прошедшего. Это был большой бот, служивший во времена Ульманиса для рыболовецкого дела, а нынче, после запрета большевиков на частный промысел, распадающийся на части, но красивый и горделивый, хотя и несколько нелепый, вросший в землю рядом с кустами смородины.
Про Ульманиса вспоминала и старушка Эрна, находя, что я чем-то напоминаю бывшего президента. Впрочем, еще больше я походил, по ее словам, на какого-то не то боксера, не то штангиста – непобедимого латыша-богатыря, чье имя она позабыла, но утверждала, будто он был знаменит во времена ее молодости.
Я, конечно, не мог не гордиться такими сравнениями и чувствовал себя и славным и могучим, до тех пор, пока не увидел огромного рыбака Эгона, кулаки которого сильно превосходили размерами мою, да и его собственную голову. При первой встрече он только слегка покосился на меня и ничего не сказал. Встретившись со мной вторично, он направился прямо ко мне и, не замечая моего невольно испуганного взгляда, сказал:
– Ты меня извини, милий друг, я сегодня немножко полон, как трамвай.
В дальнейшем он всегда начинал разговор именно этой фразой, потому что и впрямь всегда был полон – не знаю, каким может быть трамвай, наполненный тем же, чем Эгон, – но последний был всегда под завязку.
– Почему не заходишь, милий друг? – спросил он однажды. – У меня есть рыба, яйчики. Вон тот дом, видишь? Ты по-латышски читаешь? Там написано: «Willa Freddy». Заходи!
Когда я разыскал «Виллу Фредди», я несколько минут оторопело разглядывал ее. Она была оформлена, как старинное морское судно. Между первым и вторым этажами был прикреплен огромный штурвал. Над окнами второго этажа действительно было написано готическим шрифтом: «Willa Freddy». Внутри дома все стены были обклеены коробками из-под сигарет заграничного производства. И чисто, как на корабле.
Эгон был в состоянии трамвая, выполняющего свой рейс в часы пик, за что немедленно принес свои глубочайшие извинения. Он провел меня по дому, который никому и никогда не сдавался, но был всегда открыт для тех, кого Эгон называл своими друзьями, каковые могли нагрянуть в любой момент.
Друзья и правда появлялись неожиданно, быстренько становились трамваями и отправлялись в депо. На следующий день они выходили в море за рыбой, обрабатывали пойманное в домашней коптилке, и копченая рыба помогала несколько отсрочить наступление часа пик в трамвайном графике.
Хозяйство Эгон содержал в замечательном порядке. У него были куры, приносившие отличные «яйчики», он выращивал помидоры и клубнику. Женщины рядом с ним не было, и на мой невысказанный вопрос он ответил:
– Я, милий друг, одинокий волк.
Однажды я встретил Эгона недалеко от его дома. Он медленно брел по дороге, и слезы величиной с его собственные кулаки одна за другой стекали по щекам.
– Что случилось? – спросил я у Эгона, впервые не извинившегося за свою переполненность.
– Не спрашивай, милий друг, – сказал он. – Я сейчас в клубе смотрел индийский фильм. – И он зарыдал.
– Хороший фильм?
– Грустный, милий друг, тяжелий.
Здесь я должен рассказать о поселковом клубе, в котором два или три раза в неделю показывали самые разные фильмы, куда допускались даже младенцы, в том числе и на тяжелые индийские и фривольные французские картины, и где сущим удовольствием было смотреть приключенческие фильмы: «Трех мушкетеров» или «Фантомаса». Наслаждение заключалось, впрочем, не в самих картинах, а в наблюдениях за зрителями, большую часть которых составляли дети, получившие от родителей двадцать копеек на билет и свободу на два часа (в обмен на равнозначную, вернее, равно-мерную, изохронную свободу для родителей).
Я почти никогда не пользовался своей свободой, хотя, как мне кажется, не лишал сына его собственной вольницы: он получал свои двадцать копеек, приходил в клуб независимо от меня и садился, где хотел (обычно на подоконнике, подчас срывая занавески, обеспечивавшие в зале полумрак). Я вглядывался в лица детей, ах, что это были за лица: умные, индивидуальные – нигде на всем пространстве Советского Союза невозможно было в те времена увидеть такое скопление ничем не задавленных личностей! Как они хохотали, как шутили!