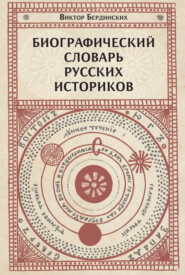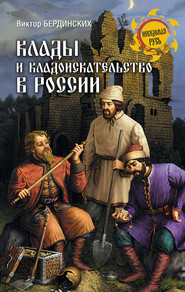По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Рассказы о русской культуре
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Но Спицын все же против списывания провинции со счетов вообще, насаждения упрощенных схем жизни (чудовищных конструкций), кои не отражают реалии России. Одни нити и механизмы исторического процесса. Людей вообще нет. Поэтому, громя в своем письме централизованную историю Руси в «Курсе русской истории» В. Ключевского, он пишет про последнего: «Это не историк правды, трепещущий за каждый факт и ищущий в нем с боязнью, ожиданием, трепетом – истины, это лишь хладнокровный математик, систематик-резонер, все понимающий и ничем не дорожащий… Его ясный курс истории представляется мне какою-то огромною чудовищною сплетней, кто в прошлом видит только каких-то марионеток, которых тасует то так, то иначе и воображает, что такова жизнь. Ключевский играет в историю, а не живет ею…» Сейчас эти игры продвинулись далеко вперед. Но в таком ракурсе зрения на прошлое теряется конкретика жизни, ее вкус и цвет.
Впрочем, в XIX – начале XX века основную часть гона русской жизни взял на себя Петербург, хотя и Москва, как «порфироносная вдова», значила немало. Столица в России последних веков – источник силы, власти и богатства. А также в некоторые эпохи – новой знати. Например, «люди в случае» при Екатерине II или «новые русские» в эпоху Ельцина. Как пелось в одной популярной песне середины 1990?х годов:
Вот господа хорошие,
Крестьянского обличия,
Зато в Версаче с ног до головы;
С раскормленными девками,
Икрою и креветками
Веревки вьют из города Москвы.
Воздух улицы тут очень заметен, точнее – завистливый взгляд городской окраины на центр. А разве не так смотрел нередко в своих песнях В. Высоцкий? И это тоже культура. Культура городского романса, основанная на просторечии говора улицы, а не книжном знании писательской техники. Настоящая книга все же основана не на книге, а на крови реальной жизни нации. Подпитка культуры снизу (из низов общества) шла всегда. Столицы как гигантский пылесос (с разной мощностью в разные века) высасывали все яркое, необычное и мощное из провинции и на этом жировали и матерели.
И все же скорость течения времени в провинции всегда была меньше, чем в столицах. В провинции время малоподвижно, а местами почти неподвижно в течение столетий. Цари, герои, вожди и их присные сменяли друг друга на верхушке властной пирамиды, но русский крестьянин все так же пахал землю, изолируясь от всяких изменений. Мало того что историческое время в столице, провинциальном городе и селе течет по-разному (и дело не только в его скорости); но оно в нашем патриархальном укладе жизни еще и замкнутое, круговое, привязанное к аграрному циклу одних и тех же работ в течение года. Такое время предпочтительнее не только для крестьян, но и для купцов, сапожников, дьячков – чем время линейное.
Но уже в XIX веке, а тем более в XX русские книги полны сюжетов про «нового» человека, разрывающего кольцо старого времени, кующего для себя новое время. Этот герой – то «лишний» человек, как Онегин, Печорин или Григорий Мелихов; то нигилист, как Базаров, то рыцарь без страха и упрека, как Павка Корчагин или Алексей Маресьев. В любом случае – это выскочка, изгой, человек, бегущий впереди паровоза жизни, ускоритель времени, «теин в чаю», «букет цветов в благородном вине».
И в целом вся русская книга стала гигантским и очень мощным ускорителем русской жизни, исторического времени. В XX же веке скорость исторического времени, вырвавшегося из-под контроля человека, настолько увеличилась, что все книги сильно отстали от него, и художественную литературу отнесло на обочину жизни общества – в маргинальную нишу развлечений после трудного дня.
Анна Ахматова справедливо писала в «Беге времени»:
Что войны, что чума? Конец им виден скорый;
Их приговор почти произнесен.
Но как нам быть с тем ужасом, который
Был бегом времени когда-то наречен?
То есть скорость времени не есть хорошо для жизни отдельного человека в России, да и во всем мире, хотя этого джинна из бутылки – назад в нее не затолкаешь. Россия раскрестьянилась… И все же традиции выключенности из городской культуры (один выступает – другие смотрят), политической жизни общества, консерватизма населения в быту и менталитете; одновременно неприязненного и подобострастного отношения к аппарату любой власти – сохранились в российской провинции по сей день. И слава богу! Это и есть традиция чтения настоящей живой бумажной книги прошлых веков.
Сейчас основные читатели книги – женщины. Прорыв произошел в XX веке, когда советская власть выдернула женщину из семьи, поставив ее к станку или усадив в контору. Нехотя патриархальное общество, разрушенное великими войнами и стройками, сдавало свои позиции. Но деваться ему было некуда. А ведь совсем недавно дело обстояло так. Вот любопытная статистика владельческих записей на книгах первой четверти XIX века Вятской губернской библиотеки. По сословиям и полу: чиновники и учителя – 65; священнослужители – 31; купцы – 26; мещане – 8; крестьяне и военные – по 2 человека; женщины – 7. Эпоха разночинцев – главных читателей России второй половины XIX века, еще впереди.
О пользе и вреде многочтения
Действительно, чтение делает человека, обрабатывает его изнутри; но оно же отрывает его от земли, и он ступает уже по облакам, устремляясь в свои мысленные эмпиреи. Это совсем неплохо, если не заканчивается катастрофой. Нужен разумный баланс и сочетание прагматической жизни с жизнью идеальной – книжной. Для каждого человека он, видимо, свой.
Замечательный русский этнограф Дмитрий Константинович Зеленин (1878–1954), сын дьячка из глухого вятского села, в юности учился в Вятской духовной семинарии. В своем дневнике той поры он делал прелюбопытные записи о самом процессе чтения и его последствиях для себя. Великолепный самоанализ! 2 декабря 1896 года вполне зрелый (в ту пору) 18?летний юноша писал: «Вон что я, оказывается. Что бы я ни читал, беллетристику ли, научные ли вещи, один результат. Я воспринимаю (…) читаемое в свою плоть и кровь и наслаждаюсь этим восприятием и работою, самим процессом, мне приятно это движение в мозгах; которое, к слову сказать, я иногда даже и сознаю, ощущаю, я смакую это удовольствие, тем более что в будущем оно грезится мне еще новыми наслаждениями (…) Меня поражает, ошеломляет эта красивая нить мысли (…) Мне так жалко тревожить это прекрасное здание».
В природе и атмосфере чтения молодой семинарист видел прочный якорь своей жизни, несмотря на бурную толчею событий и сумятицу текущих дней. В тот же день он продолжает в дневнике: «Раньше я мечтал быть ученым, жрецом чистой науки, вроде Менделеева или даже Геккеля, и на этом, очевидно, придется остановиться. Здесь ведь приходится работать, а это для меня наслаждение; наблюдать жизнь, которая ускользает как-то от моих близоруких глаз, – не это вечное и беспрестанно движущееся и изменяющееся; а нечто прочное, стойкое, что можно забрать в свои лапы, подвергнуть неумолимому анализу. Итак, да здравствует наука!» И эту линию жизни он честно протянул в XX веке. Несмотря ни на что.
С какой невероятной силой русские разночинцы XIX века втягивали, всасывали в себя книжное знание! Это их ставка на новую жизнь! Мощь этого поглощения книги потрясает по сей день. Вся русская наука XIX–XX веков стоит на этих семинаристах-книгочеях. Для них наука – божество и главная ценность жизни. Для личной жизни человека – это не только плюсы. Тот же Зеленин, фанатично преданный черновой научной работе, которая в советские годы в основном была не востребована, прожил всю жизнь одиноким холостяком-професором Ленинградского ун-та, в окружении своей громадной библиотеки, каждый день занимаясь любимым научным трудом, который в условиях государственной политики той эпохи (раскрестьянивание России) считался вредным и ненужным.
И все же! Книга рождает книгу. Нет ли здесь ухода от реалий малосимпатичной жизни в скорлупу своих внутренних чувств и переживаний, наслаждения своей способностью мыслить? В такой жизни немало своих фобий и комплексов, гордыни и самоуничижения. 28 декабря 1897 г. выпускник семинарии и будущий ученый записал в своем дневнике: «Когда Н. И. высказал мне вчера, что он боится жизни, в которую приходится скоро вступить … (как в тину), то я похвастался (и чистосердечно), что совсем не боюсь, что это слишком мелко и что я выше этого. И это, пожалуй, правда. Я живу в “атмосфере мысли”, которую сам же и создал для себя, и вот это дает мне такую самоуверенность, такую силу относиться с высокомерием и даже с презрением к этим “мелочам”, к этой “серой массе”, дает мне и спокойствие… (…) Даже со своими товарищами, с которыми я так долго живу, я чужд, я не умею говорить задушевно. Ведь не таков же я дома. Совсем не такой!»
Метания растущей души. Книжник-изгой. Но вызревшая твердость духа, прочная природная основа п озволили Зеленину четко тянуть свою линию жизни до конца в людоедском XX веке. Этнография с 1930?х годов была в стране в основном разгромлена. Раскрестьянивание России – главная трагедия нации. А ученый неутомимо как часы делал то, что считал нужным – писал в «стол» научные труды. Не все из них дошли до наших дней.
Умер Зеленин 31 августа 1954 года у себя дома в Ленинграде. Вятский краевед В. Пленков, с ним переписывавшийся, обеспокоился долгим молчанием ученого и попросил свою приятельницу О. Галеркину сходить к нему домой. Свой визит и беседу с соседями она описала краеведу так: «Оказалось, что Д.К. жил один, занимая две комнаты. Комнаты были тесно заставлены книгами, оставался только узкий проход к письменному столу, за которым Д.К. работал до последнего дня. Он никуда не выходил, за исключением бани, и, как говорит дворница, всегда брал веник – очень любил париться, хотя врачи ему и не разрешали.
Так в последний раз сходил он в баню, а потом сел работать у себя в комнате. На следующий день пришла к нему племянница – она приходила два раза в неделю делать уборку, видит – дверь закрыта изнутри. Она подождала немного, думала, Д. К. вышел и забыл навесить наружный замок. Потом позвали управляющего домом, замок взломали и обнаружили, что Д. К. так и сидит за письменным столом, с очками на носу и вечным пером в руке. Рядом на электрической плитке стояла кружечка с водой. К счастью, плитка перегорела, а то мог бы случиться пожар – кругом лежали стопки бумаги. Должно быть, смерть застала Д. К. мгновенно, и остается утешаться только, что конец его был легким».
Жизнь и смерть человека Книги. Поразительный тип русского разночинца – подвижника науки и Читателя с большой буквы, выкованный XIX веком России.
* * *
Есть ли люди, в коих многочтение приглушает природные способности? Наверное, есть. Полный отрыв от реалий жизни, социума, семьи… Парение в воздухе. Но у большинства людей уход в мир книжных фантазий протекает более робко и кратко. В рассказе Чехова «Мальчики» двое совсем маленьких гимназистиков, начитавшись Майн Рида и Фенимора Купера, задумали бежать в Америку. Вот их план: «Сначала в Пермь… – тихо говорил Чечевицын, – потом в Тюмень… потом Томск… потом… в Камчатку… Отсюда самоеды перевезут на лодках через Берингов пролив… Вот тебе и Америка… Тут много пушных зверей.
– А Калифорния? – спросил Володя.
– А Калифорния ниже… Лишь бы в Америку попасть. Калифорния не за горами. Добывать же себе пропитание можно охотой и грабежом. (…)
– Знаете, кто я? – Господин Чечевицын. – Нет. Я Монтигомо, Ястребиный Коготь, вождь непобедимых. (…)
И Чечевицын, чтобы уговорить Володю, хвалил Америку, рычал как тигр, изображал пароход, бранился, обещал отдать Володе всю слоновую кость и все львиные и тигровые шкуры.
И этот худенький смуглый мальчик с щетинистыми волосами и веснушками казался девочкам необыкновенным, замечательным. Это был герой, решительный, неустрашимый человек, и рычал он так, что, стоя за дверями, в самом деле можно было подумать, что это тигр или лев. (…)
Мальчиков задержали в городе, в Гостином дворе (там они ходили и спрашивали, где продается порох)».
Столкновение книжных грез с реалиями жизни бывает ужасно жестоким и для детей и для взрослых. Момент отрезвления может полностью перевернуть жизнь человека. Но некоторым людям проще и легче не выходить из этого мира, отмахиваясь от практик жизни, как от надоедливых мух.
Один мой знакомый молодой инженер в Петербурге 1990?е годы читал ночами фэнтези (их тогда много наиздавали). Днем ходил на работу. Прибить гардину к стене ему было непосильно. Это делала жена. И подруга жены, в ужасе глядя на хилую фигуру мужа, спрашивала свою бывшую одноклассницу: «Ну зачем тебе такой муж?» Любовь к книгам становилась все горячее, нити, связывающие с людьми, все тоньше…
На моей памяти многих способных ребят (девочкам, как ни странно, это не грозит) погубило многочтение. «Объевшись» интересными, увлекательными книгами, они теряли свою оригинальность, уникальность стиля мысли, невольно подстраиваясь под других. Теряли тот единственный камень внутри себя, на коем могли выстроить что-то свое, на чем выращивается талант, судьба, карьера.
Обращение сразу ко всему, а значит, ни к чему конкретно вело к потере воли для движения вперед, разрыва стереотипов современной жизни. В плену банальностей, стереотипов, общих мест и трюизмов жить легче. Можно возразить, что полным-полно людей, у которых никаких особых талантов вообще нет. Середнячки! Но ведь надо же отделять зерно от плевел.
Детство многих подростков раньше было отмечено таким «запойным» дурманящим голову чтением. «Зачитался», – укоризненно говорили старухи, глядя на этих детей. Обломовщина – на лежаке из книг. Это, естественно, было характерно только для 1960?х – 1980?х годов – эпохи массового советского книголюбства и многочтения всего и вся. Другие формы культурного массового досуга почти отсутствовали.
Но все же и сейчас для многих людей беспорядочно широкий хаотичный спектр чтения способен заглушать природные творческие способности. Все здесь, впрочем, разнообразно и индивидуально. Что одному здорово – то другому смерть! Но какую-то странную мысль о вреде книги поэт Николай Гумилев уловил все же верно.
У меня не живут цветы,
Красотой их на миг я обманут,
Постоят день-другой и завянут,
У меня не живут цветы.
Да и птицы здесь не живут,
Только хохлятся скорбно и глухо,
А наутро – комочек из пуха…
Даже птицы здесь не живут.
Только книги в восемь рядов,
Молчаливые, грузные томы,
Сторожат вековые истомы,
Словно зубы в восемь рядов.
Мне продавший их букинист,
Помню, был и горбатым, и нищим…
…Торговал за проклятым кладбищем
Мне продавший их букинист.
Писатели-книголюбы и русские книжники
1950?е – 1 970?е годы – время расцвета писателей-библиофилов. Тех, кто фанатично любил книгу больше жизни, собирал долгие годы свою библиотеку – страстно, исступленно. Книга для них намного больше автора, читателя, эпохи… Ко всему этому люди шли от книги, считая сие вторичным. Всю свою душу, все свободные средства, весь жар сердца и все свободное время эти люди вкладывали в личную библиотеку. Семье оставалось не так много. Ко всему в жизни эти люди шли через книгу.
Как всегда в широком движении, здесь были звезды первой величины (всесоюзного масштаба), региональные лидеры и районные титаны. К первым можно отнести прежде всего таких известных и характерных деятелей книжного фронта, как Николай Петрович Смирнов-Сокольский (1898–1962), Владимир Германович Лидин (1894–1979), Евгений Дмитриевич Петряев (1913–1987).
Впрочем, в XIX – начале XX века основную часть гона русской жизни взял на себя Петербург, хотя и Москва, как «порфироносная вдова», значила немало. Столица в России последних веков – источник силы, власти и богатства. А также в некоторые эпохи – новой знати. Например, «люди в случае» при Екатерине II или «новые русские» в эпоху Ельцина. Как пелось в одной популярной песне середины 1990?х годов:
Вот господа хорошие,
Крестьянского обличия,
Зато в Версаче с ног до головы;
С раскормленными девками,
Икрою и креветками
Веревки вьют из города Москвы.
Воздух улицы тут очень заметен, точнее – завистливый взгляд городской окраины на центр. А разве не так смотрел нередко в своих песнях В. Высоцкий? И это тоже культура. Культура городского романса, основанная на просторечии говора улицы, а не книжном знании писательской техники. Настоящая книга все же основана не на книге, а на крови реальной жизни нации. Подпитка культуры снизу (из низов общества) шла всегда. Столицы как гигантский пылесос (с разной мощностью в разные века) высасывали все яркое, необычное и мощное из провинции и на этом жировали и матерели.
И все же скорость течения времени в провинции всегда была меньше, чем в столицах. В провинции время малоподвижно, а местами почти неподвижно в течение столетий. Цари, герои, вожди и их присные сменяли друг друга на верхушке властной пирамиды, но русский крестьянин все так же пахал землю, изолируясь от всяких изменений. Мало того что историческое время в столице, провинциальном городе и селе течет по-разному (и дело не только в его скорости); но оно в нашем патриархальном укладе жизни еще и замкнутое, круговое, привязанное к аграрному циклу одних и тех же работ в течение года. Такое время предпочтительнее не только для крестьян, но и для купцов, сапожников, дьячков – чем время линейное.
Но уже в XIX веке, а тем более в XX русские книги полны сюжетов про «нового» человека, разрывающего кольцо старого времени, кующего для себя новое время. Этот герой – то «лишний» человек, как Онегин, Печорин или Григорий Мелихов; то нигилист, как Базаров, то рыцарь без страха и упрека, как Павка Корчагин или Алексей Маресьев. В любом случае – это выскочка, изгой, человек, бегущий впереди паровоза жизни, ускоритель времени, «теин в чаю», «букет цветов в благородном вине».
И в целом вся русская книга стала гигантским и очень мощным ускорителем русской жизни, исторического времени. В XX же веке скорость исторического времени, вырвавшегося из-под контроля человека, настолько увеличилась, что все книги сильно отстали от него, и художественную литературу отнесло на обочину жизни общества – в маргинальную нишу развлечений после трудного дня.
Анна Ахматова справедливо писала в «Беге времени»:
Что войны, что чума? Конец им виден скорый;
Их приговор почти произнесен.
Но как нам быть с тем ужасом, который
Был бегом времени когда-то наречен?
То есть скорость времени не есть хорошо для жизни отдельного человека в России, да и во всем мире, хотя этого джинна из бутылки – назад в нее не затолкаешь. Россия раскрестьянилась… И все же традиции выключенности из городской культуры (один выступает – другие смотрят), политической жизни общества, консерватизма населения в быту и менталитете; одновременно неприязненного и подобострастного отношения к аппарату любой власти – сохранились в российской провинции по сей день. И слава богу! Это и есть традиция чтения настоящей живой бумажной книги прошлых веков.
Сейчас основные читатели книги – женщины. Прорыв произошел в XX веке, когда советская власть выдернула женщину из семьи, поставив ее к станку или усадив в контору. Нехотя патриархальное общество, разрушенное великими войнами и стройками, сдавало свои позиции. Но деваться ему было некуда. А ведь совсем недавно дело обстояло так. Вот любопытная статистика владельческих записей на книгах первой четверти XIX века Вятской губернской библиотеки. По сословиям и полу: чиновники и учителя – 65; священнослужители – 31; купцы – 26; мещане – 8; крестьяне и военные – по 2 человека; женщины – 7. Эпоха разночинцев – главных читателей России второй половины XIX века, еще впереди.
О пользе и вреде многочтения
Действительно, чтение делает человека, обрабатывает его изнутри; но оно же отрывает его от земли, и он ступает уже по облакам, устремляясь в свои мысленные эмпиреи. Это совсем неплохо, если не заканчивается катастрофой. Нужен разумный баланс и сочетание прагматической жизни с жизнью идеальной – книжной. Для каждого человека он, видимо, свой.
Замечательный русский этнограф Дмитрий Константинович Зеленин (1878–1954), сын дьячка из глухого вятского села, в юности учился в Вятской духовной семинарии. В своем дневнике той поры он делал прелюбопытные записи о самом процессе чтения и его последствиях для себя. Великолепный самоанализ! 2 декабря 1896 года вполне зрелый (в ту пору) 18?летний юноша писал: «Вон что я, оказывается. Что бы я ни читал, беллетристику ли, научные ли вещи, один результат. Я воспринимаю (…) читаемое в свою плоть и кровь и наслаждаюсь этим восприятием и работою, самим процессом, мне приятно это движение в мозгах; которое, к слову сказать, я иногда даже и сознаю, ощущаю, я смакую это удовольствие, тем более что в будущем оно грезится мне еще новыми наслаждениями (…) Меня поражает, ошеломляет эта красивая нить мысли (…) Мне так жалко тревожить это прекрасное здание».
В природе и атмосфере чтения молодой семинарист видел прочный якорь своей жизни, несмотря на бурную толчею событий и сумятицу текущих дней. В тот же день он продолжает в дневнике: «Раньше я мечтал быть ученым, жрецом чистой науки, вроде Менделеева или даже Геккеля, и на этом, очевидно, придется остановиться. Здесь ведь приходится работать, а это для меня наслаждение; наблюдать жизнь, которая ускользает как-то от моих близоруких глаз, – не это вечное и беспрестанно движущееся и изменяющееся; а нечто прочное, стойкое, что можно забрать в свои лапы, подвергнуть неумолимому анализу. Итак, да здравствует наука!» И эту линию жизни он честно протянул в XX веке. Несмотря ни на что.
С какой невероятной силой русские разночинцы XIX века втягивали, всасывали в себя книжное знание! Это их ставка на новую жизнь! Мощь этого поглощения книги потрясает по сей день. Вся русская наука XIX–XX веков стоит на этих семинаристах-книгочеях. Для них наука – божество и главная ценность жизни. Для личной жизни человека – это не только плюсы. Тот же Зеленин, фанатично преданный черновой научной работе, которая в советские годы в основном была не востребована, прожил всю жизнь одиноким холостяком-професором Ленинградского ун-та, в окружении своей громадной библиотеки, каждый день занимаясь любимым научным трудом, который в условиях государственной политики той эпохи (раскрестьянивание России) считался вредным и ненужным.
И все же! Книга рождает книгу. Нет ли здесь ухода от реалий малосимпатичной жизни в скорлупу своих внутренних чувств и переживаний, наслаждения своей способностью мыслить? В такой жизни немало своих фобий и комплексов, гордыни и самоуничижения. 28 декабря 1897 г. выпускник семинарии и будущий ученый записал в своем дневнике: «Когда Н. И. высказал мне вчера, что он боится жизни, в которую приходится скоро вступить … (как в тину), то я похвастался (и чистосердечно), что совсем не боюсь, что это слишком мелко и что я выше этого. И это, пожалуй, правда. Я живу в “атмосфере мысли”, которую сам же и создал для себя, и вот это дает мне такую самоуверенность, такую силу относиться с высокомерием и даже с презрением к этим “мелочам”, к этой “серой массе”, дает мне и спокойствие… (…) Даже со своими товарищами, с которыми я так долго живу, я чужд, я не умею говорить задушевно. Ведь не таков же я дома. Совсем не такой!»
Метания растущей души. Книжник-изгой. Но вызревшая твердость духа, прочная природная основа п озволили Зеленину четко тянуть свою линию жизни до конца в людоедском XX веке. Этнография с 1930?х годов была в стране в основном разгромлена. Раскрестьянивание России – главная трагедия нации. А ученый неутомимо как часы делал то, что считал нужным – писал в «стол» научные труды. Не все из них дошли до наших дней.
Умер Зеленин 31 августа 1954 года у себя дома в Ленинграде. Вятский краевед В. Пленков, с ним переписывавшийся, обеспокоился долгим молчанием ученого и попросил свою приятельницу О. Галеркину сходить к нему домой. Свой визит и беседу с соседями она описала краеведу так: «Оказалось, что Д.К. жил один, занимая две комнаты. Комнаты были тесно заставлены книгами, оставался только узкий проход к письменному столу, за которым Д.К. работал до последнего дня. Он никуда не выходил, за исключением бани, и, как говорит дворница, всегда брал веник – очень любил париться, хотя врачи ему и не разрешали.
Так в последний раз сходил он в баню, а потом сел работать у себя в комнате. На следующий день пришла к нему племянница – она приходила два раза в неделю делать уборку, видит – дверь закрыта изнутри. Она подождала немного, думала, Д. К. вышел и забыл навесить наружный замок. Потом позвали управляющего домом, замок взломали и обнаружили, что Д. К. так и сидит за письменным столом, с очками на носу и вечным пером в руке. Рядом на электрической плитке стояла кружечка с водой. К счастью, плитка перегорела, а то мог бы случиться пожар – кругом лежали стопки бумаги. Должно быть, смерть застала Д. К. мгновенно, и остается утешаться только, что конец его был легким».
Жизнь и смерть человека Книги. Поразительный тип русского разночинца – подвижника науки и Читателя с большой буквы, выкованный XIX веком России.
* * *
Есть ли люди, в коих многочтение приглушает природные способности? Наверное, есть. Полный отрыв от реалий жизни, социума, семьи… Парение в воздухе. Но у большинства людей уход в мир книжных фантазий протекает более робко и кратко. В рассказе Чехова «Мальчики» двое совсем маленьких гимназистиков, начитавшись Майн Рида и Фенимора Купера, задумали бежать в Америку. Вот их план: «Сначала в Пермь… – тихо говорил Чечевицын, – потом в Тюмень… потом Томск… потом… в Камчатку… Отсюда самоеды перевезут на лодках через Берингов пролив… Вот тебе и Америка… Тут много пушных зверей.
– А Калифорния? – спросил Володя.
– А Калифорния ниже… Лишь бы в Америку попасть. Калифорния не за горами. Добывать же себе пропитание можно охотой и грабежом. (…)
– Знаете, кто я? – Господин Чечевицын. – Нет. Я Монтигомо, Ястребиный Коготь, вождь непобедимых. (…)
И Чечевицын, чтобы уговорить Володю, хвалил Америку, рычал как тигр, изображал пароход, бранился, обещал отдать Володе всю слоновую кость и все львиные и тигровые шкуры.
И этот худенький смуглый мальчик с щетинистыми волосами и веснушками казался девочкам необыкновенным, замечательным. Это был герой, решительный, неустрашимый человек, и рычал он так, что, стоя за дверями, в самом деле можно было подумать, что это тигр или лев. (…)
Мальчиков задержали в городе, в Гостином дворе (там они ходили и спрашивали, где продается порох)».
Столкновение книжных грез с реалиями жизни бывает ужасно жестоким и для детей и для взрослых. Момент отрезвления может полностью перевернуть жизнь человека. Но некоторым людям проще и легче не выходить из этого мира, отмахиваясь от практик жизни, как от надоедливых мух.
Один мой знакомый молодой инженер в Петербурге 1990?е годы читал ночами фэнтези (их тогда много наиздавали). Днем ходил на работу. Прибить гардину к стене ему было непосильно. Это делала жена. И подруга жены, в ужасе глядя на хилую фигуру мужа, спрашивала свою бывшую одноклассницу: «Ну зачем тебе такой муж?» Любовь к книгам становилась все горячее, нити, связывающие с людьми, все тоньше…
На моей памяти многих способных ребят (девочкам, как ни странно, это не грозит) погубило многочтение. «Объевшись» интересными, увлекательными книгами, они теряли свою оригинальность, уникальность стиля мысли, невольно подстраиваясь под других. Теряли тот единственный камень внутри себя, на коем могли выстроить что-то свое, на чем выращивается талант, судьба, карьера.
Обращение сразу ко всему, а значит, ни к чему конкретно вело к потере воли для движения вперед, разрыва стереотипов современной жизни. В плену банальностей, стереотипов, общих мест и трюизмов жить легче. Можно возразить, что полным-полно людей, у которых никаких особых талантов вообще нет. Середнячки! Но ведь надо же отделять зерно от плевел.
Детство многих подростков раньше было отмечено таким «запойным» дурманящим голову чтением. «Зачитался», – укоризненно говорили старухи, глядя на этих детей. Обломовщина – на лежаке из книг. Это, естественно, было характерно только для 1960?х – 1980?х годов – эпохи массового советского книголюбства и многочтения всего и вся. Другие формы культурного массового досуга почти отсутствовали.
Но все же и сейчас для многих людей беспорядочно широкий хаотичный спектр чтения способен заглушать природные творческие способности. Все здесь, впрочем, разнообразно и индивидуально. Что одному здорово – то другому смерть! Но какую-то странную мысль о вреде книги поэт Николай Гумилев уловил все же верно.
У меня не живут цветы,
Красотой их на миг я обманут,
Постоят день-другой и завянут,
У меня не живут цветы.
Да и птицы здесь не живут,
Только хохлятся скорбно и глухо,
А наутро – комочек из пуха…
Даже птицы здесь не живут.
Только книги в восемь рядов,
Молчаливые, грузные томы,
Сторожат вековые истомы,
Словно зубы в восемь рядов.
Мне продавший их букинист,
Помню, был и горбатым, и нищим…
…Торговал за проклятым кладбищем
Мне продавший их букинист.
Писатели-книголюбы и русские книжники
1950?е – 1 970?е годы – время расцвета писателей-библиофилов. Тех, кто фанатично любил книгу больше жизни, собирал долгие годы свою библиотеку – страстно, исступленно. Книга для них намного больше автора, читателя, эпохи… Ко всему этому люди шли от книги, считая сие вторичным. Всю свою душу, все свободные средства, весь жар сердца и все свободное время эти люди вкладывали в личную библиотеку. Семье оставалось не так много. Ко всему в жизни эти люди шли через книгу.
Как всегда в широком движении, здесь были звезды первой величины (всесоюзного масштаба), региональные лидеры и районные титаны. К первым можно отнести прежде всего таких известных и характерных деятелей книжного фронта, как Николай Петрович Смирнов-Сокольский (1898–1962), Владимир Германович Лидин (1894–1979), Евгений Дмитриевич Петряев (1913–1987).