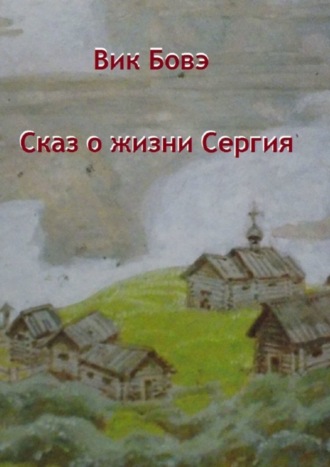
Сказ о жизни Сергия
Недолго рядили и о люде мастеровом. Были среди будущих посадских, которых набралось числом двадцать, плотники, кузнецы и один гончар. По мере того, как новый кремник станет расти, обещал пронский князь людей подсылать. К тому же, под команду нового воеводы были отряжены пятьдесят конных, дабы стоять им в поле в верстах сорока от наново возводимого городища сменной заставой. Те же из них, кому глянется жительство в новом краю, могли и себе ставить хоромы. Таких ратников князь разрешил наделять землёй и холопами.
Не хотел поначалу Кирилла Афанасьевич брать с собой в неведомый край жену свою Марию, двух младших сынов и дочь. Но глянула супружница на мужа кротким взглядом, погладила по руке, и сердце боярина растаяло. Вместе, если Бог тому попустит, и смерть не страшна. Потом же, и там, у Дикого поля, люди живут, а значит и она с детьми сможет. Тем более что сыны уже все в силу вошли, отцу помощники достойные. Что старший Стефан, то и самый младший Петр – давно уже на конях скачут, саблей и копьём владеют не хуже любых опытных ратников. Что же касаемо Варфоломея, то глядишь, Бог даст, и он в новых условиях себя найдёт. Словом тихим, взглядом нежным и уговорила боярыня мужа, а тот и поддался.
Когда объявили всем домочадцам о решении главы, то вдруг выяснилось, что Стефан из Пронска ехать-то и не стремится. Из Рязани уезжал с тяжелым сердцем, а уж из Пронска и вовсе запротивился. Мать начала догадываться о сердечной склонности старшего сына ещё тогда, когда стояли постоем на дворе вдовой боярыни Анастасии. Да и как тут было не додуматься, ежели Стефан от тринадцатилетней Аннушки не отходил ни на шаг.
– Когда мы сами гонимые и не знаем своей собственной судьбы наперёд, то и как же возможем чужую жизнь в зависимость от нашей ставить, – так сказывала боярыня Мария Стефану, и тем смогла убедить сына.
Теперь же, когда проявлялась ясность, то высказал Стефан твёрдое желание жениться на Анне. Мать с отцом порешали – порешали, да и согласились: счастье, оно в любви и согласие, но не в богатстве, а потому надо сватать. О том Стефану и сказали, а он с первой оказией отправил грамотку на двор боярыни Анастасии. Там же в Пронске и ответ получить успели. Не против вдовая боярыня отдать дочь свою за старшего сына Кириллы Афанасьевича, одна лишь беда – приданого за Анной нет. К тому же, какой-то неистовый отряд ордынцев с Мещеры залетел, да опять бед много наделал: что было последнего и то погорело. Так что живут они нынче на пепелище, а потому ежели не пугает такая невеста Варницких, то пускай приезжают, да и берут. Стефан отцу с матерью в ноги кинулся и молил их снова в Рязань ехать. Ну а так как година выдалась лихой, то дело обошлось без длинных разговоров и свадебного пира. Посидели молодые на черном пепелище, сходили в соборную церковь, да и поехали в Пронск.
Вот по причине той, что не мог противостоять уговорам любимой жены боярин Кирилла Афанасьевич, то перебрались они на жительство в Александровское городище всем своим возросшим семейством. Усадьба в старом кремнике для воеводы стояла пустой и в ней, хоть с великим трудом, но вместились новые владетели и челядь их.
Пока Мария с двумя Аннами и двумя младшими сынами занималась обустройством, новый воевода с сыном и десятником объезжали владения, которые должны были отойти в надел боярину Кириллу Афанасьевичу. Продираясь по мало приметным тропам вдоль речки, поднялись к селищу Верхдерев. Спрятанное в глубине лесной чащобы, оно вместило в себя около двадцати дворов, в коих проживало двести шестнадцать душ. Об этом поведал староста Василий, избранный миром для слежения за порядком. Каким манером обитатели прознали о приближение Кирилла Афанасьевича, того даже десятник не ведал, но встречали их всем обществом. На опушке леса, от которой до селища было рукой подать, собрались и стар, и млад. Глядели на нового воеводу с опасением, но кланялись усердно. Староста общины и иерей Леонтий повели приехавших важных особ в самую большую избу, где уже был накрыт стол. Пока Кирилл Афанасьевич со Стефаном и десятником Иваном Чириковым пили-ели, разговор шёл о делах не особо значащих. Это уже потом, когда по желанию Кирилла Афанасьевича вновь вышли во двор, то речь зашла о делах, волнующих всех без исключения членов общины.
– Оставят ли лесные, луговые и речные угодья за миром? Будет ли положен каковой новый оброк, али воевода разрешит платить по-старому? Куда следует нынче привозить рожь, мед, меха, и рыбу? Восхочет ли новый владетель добавить каковые другие повинности? – задавал, и довольно быстро, вопросы Василий.
И много ещё чего поспрошал у Кирилла Афанасьевича выборный староста. Но прежде, чем давать ответы, воевода обошёл все дворы, заходил в избы, смотрел в пристройки. Смерды жили не особо богато, но той бедности, что повидал боярин под Рязанью, не было. У многих было не по одной корове, свиньи с поросятами, паслись овцы. Удивительным для боярина Кириллы Афанасьевича показалось то, что не видать кур.
– С ними одна беда, – ответствовал староста Василий. – То ласка душит, то лисы таскают, то тетеревятник бьёт. К тому ж, петух, это первый изменник. Другой раз орать принимается, так его татарва за десять вёрст слышит. Вот и перевели их от греха подальше.
Спросил воевода об урожаях:
– Много ли собираете зерна?
– Родит земля, слава Богу! Одна незадача, настолько ртов маловато его. А вот на Дикое поле, хоть и пашня там богатая, выходить страшимся. Как татарин пшеничку али рожь заприметит, так начнет рыскать в окрест, да всенепременно тогда и выйдет на селище. Вот и таимся. По лесным полянам сеем, да помалу корчуем дерева, а на более у нас силы не достаёт.
От зернового оброка боярин Кирилл общество освободил. Сказал, чтобы семена копили на следующую весну. Когда поставят новую крепость у Красного городка, то станут давать наделы в трех верстах от неё, где будет защита от Дикого поля.
Староста Василий будто и не удивился такому известию, но воеводу благодарил и сказал:
– Что же, то дело доброе. Ежели хлебопашца от мира отрывать не станут, то желающих выезжать в поле на сезонность найдётся предостаточно.
Еще новый воевода освободил мир от пушного оброка на один год. Разрешил менять соболей и лисиц у проезжающих гостей на кому что в хозяйстве потребное. Однако же, на этот год увеличил рыбную дань и по мёду оброк; прибывших холопов и мастеровых, занятых на крепости, требовалось кормить усердно. Такое постановление старосте показалось не обременительным, и даже крайне выгодным, а потому он дал согласие с лёгким сердцем. Тем более, что боярин Кирилла Афанасьевич разрешил бортничество и рыбалку на своих отдаленных пока ещё пустующих угодьях.
Спросил воевода у старосты и мужиков для рубки дубов, обещая за таких не брать с мира оброка за целых два года.
И это показалось смотрителю порядка любым, но без общества такого обещания он дать не мог, за что у боярина испросил прощения.
– Вот повезем через пять дён провизию в новый детинец, тогда и ответ скажем. Уж не обессудь за таковые слова, – сказал староста Василий.
Когда уже ехали обратной дорогой, то довелось боярину Кириллу Афанасьевичу увидать птицу чудную, доселе им не виданную. Тихо скользя над речной гладью, летела громадина с крылами, чуть ли не в сажень. Потом вдруг, подломив хвост, устремилась к воде, ударила когтистыми лапами по гладкой поверхности и выхватила большую рыбину. Два резких взмаха, и взвившись, птица скрылась в лесной чаще.
Десятник Иван Чириков, по прозвищу Вислый, жил в здешних краях уже давно. Ещё двенадцатилетним отроком, оставшись после татарского набега сиротой, прибился он к Красному городку и попал к сторожу, которая несла дозор на Диком Поле. Сначала он смотрел за лошадьми, а когда малость подрос, стал ходить дозорным в степь. И надо было такому случиться, что в первом же своем карауле наткнулись они на татарскую рать, что шла на Пронск с Рязанью. Вёл то войско ордынский князь Елторай. Вот тогда Чириков своё прозвище – Вислый, и заработал. Почти всю сторожу, которая несла службу, татары побили. Остались лишь десятник – Никита Моховой, его помощник – Пётр Прищура, да Ванька. Татарская стрела попала отроку в плечо, а потому, потеряв поводья, вцепился тот в гриву кобылы, которая его и вынесла. Когда трое дозорных оторвались от татар, да в чаще укрылись, отрок едва висел на конской шее. С тех пор и осталось за ним Вислый да Вислый. Время шло, Иван окреп, стал уже сам водить десятку дозорных в Дикое поле, проживая там по два-три, а то и более месяцев. Не заметил Иван Чириков как годы ушли. Своей семьёй обзавелся лишь только тогда, когда перевалило за сорок годов. Сошёлся с вдовой из Секиринских починок, успел нажить двух дочерей, которых вместе со своей женой перевёз в Александровское городище. Чтобы перебраться в какие другие места, Иван Чириков не помышлял. С одной стороны, он уже не мог представить своей жизни вне Дикого Поля. С другой стороны, полюбились ему эти места, про которые знал множество всяческих чудных историй.
– Кабы обучен был грамоте, то обязательно память об сих местах сохранил, – не раз говорил своей жене Иван, любивший при любом удобном случае, ведомые ему байки пересказывать.
Знал Вислый, и очень даже хорошо, про всех здешних обитателях лесов и рек. Ведал повадки зверья и птиц. Не раз доводилось видеть ему рыбную ловлю речного охотника, а потому с превеликим удовольствием принялся сказывать.
– Птицу, что видывали, тутошние обитатели прозывают ломихвостом. Энта, каковая нынче пролетела, ещё мала. А вот бывают таковые, что крылами избу покрыть возмогут. Через величину таковую необыкновенную, плетут про ломихвоста не бог весть что. Родители для острастки страшат энтой птицей малых детей. Хотя впрямь, имеются и самые настоящие дурни, кои взаправду помышляют, что та питается человеческим младым мясом. Токмо всё сие враки. Мне доподлинно известно, так как слышал я от старых людей, каковые жительствовали здесь ещё до верходеревцев, что сия птица питается лишь единственно рыбой. Было дело, не верилось мне, да сам не один год из засады выслеживал.
И поведал Иван Чириков отцу с сыном, как ранней весной, поздней осенью и зимой, в дождь, снег и стужу, хоронился он в ветвях высоких деревьев где-нибудь рядом с гнездом и отслеживал, какую добычу приносит ломихвост. Столько перевидал разной рыбы, какую птица приносила своим птенцам и сама склевывала, что хватило бы жителям Верходрева на одну голодную зиму. При силе своей добывал ломихвост в иные дни и сома, и щуку, и голавля до одного пуда весом. Но ни единого раза не видал Вислый, чтобы ломихвост питался, чем другим. Потому и имел твердую веру десятник к словам старых людей, которые птицу считали оберегом своего древнего рода. А еще прознал Иван Чириков, что настоящее имя у птицы не ломихвост, а скопа.
Охота невиданной птицы потрясла Стефана до глубины души. Когда же он услышал рассказ десятника, то и совсем предался длительным раздумьям. Только когда возвращались и до городища оставалось совсем немного, старший сын спросил у отца:
– Отец, как ты мыслишь, может статься нам уж следует поискать новое прозвание для крепости, каковую ставить намереваемся.
– Вот уж чем моя голова ещё не болела, – улыбнувшись, ответил Кирилла Афанасьевич. – Надобно сперва возвести, а уж затем думам предаваться.
– А отчего бы нам не наречь её Скопой!? – спросил Стефан и, глянув на улыбнувшегося десятника, сделался пунцовым словно отрок.
– А ты, Иван, как мнишь? – вопросил у Чирикова воевода.
Не переставая улыбаться, старый вояка отозвался:
– Что же, птица красивая и отважная, к тому же уже пребывала оберегом в здешних краях, а следственно и нам подмогой может обернуться. Да и крепость звучать будет мужественно. Скопа! Доброе прозвание.
– Ну и пребывать посему, – добродушно произнёс боярин Кирилла Афанасьевич.
Глава пятая
В глубь лесной чащобы, вдоль звонкого ручья, впадавшего в Вёрду, вел Иван Чириков воеводу с сыном по ведомым лишь ему тропам к заимке старого Демьяна. Сначала ехали верхом, потом пришлось спешиться и вести коней в повод, а уж под конец, оставив лошадей на поляне, и вовсе шли своим ходом.
– Не зря мы ладим побежку, Кирилла Афанасьевич, не сумлевайся. Повидаете чудо дивное, кое в наших местах, да почитай по всему княжеству Рязанскому не сыскать.
От малой лесной прогалины, где оставили коней, до избы Демьяна оставалось пол версты, а потому Вислый успел досказать отцу с сыном про одинокого старца, жившего в лесу безвыходно.
Попал Демьянка в татарский полон совсем ещё ребятёнком, не достигнув даже отроческого возраста. Привезли его в Орду, и продали на невольническом рынке. Мать мальчишки тож продали на том же рынке, но другому хозяину и увезли неведомо куда. Отца же убили ещё раньше. А купил мальчонку гончарных дел мастер, которому стребовался подсобник для приготовления глины и другой хозяйской службы. Так как за Демьянку просили мало, а гляделся он не по годам рослым, то и прельстился на него горшечник. Тот гончар, что купил мальчишку, сам был из греческой стороны, но сидел уж не один год в Сарае со всею своей семьёй по собственному желанию. Так как шла у него здесь добрая торговля, то труда было много и работать мальцу приходилось с утра и до поздней ночи. Но при всём при том грек оказался не злым, и обращался с Демьянкой по-доброму. Одинокому существу многого не надо. Сказали ему ласковое слово, дали одёжу справную, кормили, не отделяя от своих родных детей, вот и привязался Демьянка к семье гончарника очень быстро. В делах был оголец расторопен, науку схватывал быстро, через другой месяц говорил отдельные слова, а уж за единое лето и вовсе язык перенял. И не только по-татарски, но и по-гречески выучился говорить. Ту же сообразительность проявил мальчонка и по гончарству. Помимо урока производить разные глиняные смеси, а для каждой домашней утвари требовалось свой замес, выучился он круг крутить, а на нём разные кувшины, банки, чашки-миски вытягивать. Дивился старый грек такой проворности, хвалил Демьянку и совсем к нему душой прикипел. Однако, когда гончар помер, то брат его, который в деле горшечном смыслил мало, мастерскую закрыл, а уже подросшего Демьянку за долги забрал и отправил на свою родину – в Грецию. И там отроку пришлось гончарством заниматься, только уже совсем не таким, коему у старого греческого горшечника выучился. Да и отношение к нему было – не как у первого хозяина. Хоть и работал так же – денно и нощно, но кормили плохо. Помимо горшков, приспособили его к возведению домов, кои были не только из глины, но и каменные. Отдыха в ту пору Демьянка не знал вовсе. В новом для себя деле, отрок оказался таким же спорым, как и в до прежнем. Через год-другой, хозяин его препоручил ему артель таких же невольников, как и сам Демьян, кои творили жилища в самых богатых городских кварталах.
Как-то выпал случай Демьяну, уже вошедшему в двадцатилетие, возводить дом для одного знатного вельможи. По вечерней поре, а артельники от постройки не отходили пока не довершали её и кровлей хитромудрой не закрывали, лепил глиняные свистульки, кои ещё у грека выучился. Налепил разных невиданных мелких зверушек и, представляя разный птичий свист, тем хозяйских детей забавлял. Вельможа тот, увидев такое умение, учинил Демьяну спрос, что тот ещё может. Демьян сказывал. А так как у того вельможи ещё и гончарня своя имелась, повёл туда парня.
Когда же Демьянка единым махом из куска глины сосуд винный вытянул в добрых две ведерные ёмкости, тут уж не только вельможа дивился, но и опытные мастера. Они такую посудину из двух кусков могли лишь составить.
Пошёл вельможа к хозяину Демьянки, да и выкупил того за большие деньги. А потом парню обещанье дал, что как тот те деньги отработаем, так даст он ему вольную. Трудился Демьянка на вельможу долго. Других учил, сам ещё большему учился. Оженился в тех краях, а так как девка, кою за себя брал, была рабыней того же вельможи, то жить им разрешили одним домом. Когда Демьян уже совсем возрос в мастерстве и денег имел в достатке, то себя и жену с сыном выкупил. Упрашивал его вельможа остаться в краях тех навсегда и даже предлагал в дар гончарную мастерскую. Одно лишь условие ставил, чтобы Демьянка все изделия какие собственноручно производил, только ему одному продавал. Но уж больно сильно хотелось повзрослевшему Демьяну попасть на родную сторону, где надеялся сыскать кого из родни. Была у него и тайная надежда: повстречаться хоть единый раз по божьему соизволению с матерью своей. Вот потому-то от теплого житья на родную сторону и собрались. Но когда ехал Демьян со всем своим семейством, то угодил на татарский разъезд и сызнова очутился в полоне. С женой и сыном его попытались разлучить, а когда за них вступался, то самого саблями посекли. Думая, что мужик уж не выживет, бросили его поганые в степи на съедение волкам. Но Демьян был телом и духом силён, люди добрые помогли, и он оклемался. Потом уже, через какое-то время вышел к Елецкому княжеству, а оттуда добрался до родной стороны.
Тепереча, когда ему уже под шестьдесят годов, живёт Демьян в глубине леса, от всякого люда вдалеке. За то, что лепит он различные нелепые безделушки и по деревням их разносит, то слывёт он среди люда за юродивого. А за то, что Демьян не обзавёлся семьей, живёт без супружницы и за свои поделки денег не спрашивает, многие бабы почитают его за святого, который разные женские болезни своими амулетами вылечивает. Вот потому-то как в какую избу не глянешь, то в одной, то в другой поделки старого Демьяна завсегда сыскать можно. Кувшин ли глиняный чудной в виде птицы заморской. Посудница витая, кою не стыдно в боярской трапезной на столе иметь. А иная женка демьяновские амулеты на груди с другими украшениями носит. Что же касаемо никчемных зверушечьих свистулек, то такого добра у каждого ребятёнка в округе имеется не по одной штуке. Дуют в хвост какой-нибудь диковинной птице, а из той вода со свистом брызжет в разные стороны, тем детвора и забавляется.
Домик, какой стоял на лесной прогалине для пашенных нужд мало пригодной, сразу бросился в глаза Кириллу Афанасьевичу своей дивностью. По этой причине ничего другого вокруг него поначалу не приметил.
А удивила боярина в первый черёд крыша, крытая не разобрать чем. И была кровля маленького дворца, а простой избой жильё Демьяна даже в мыслях своих боярин Кирилл не мог назвать – так хорошо смотрелось строение, ни соломенной, ни тесовой, и даже не из деревянных плашек, коими в больших городах ещё и дороги устилали перед княжьими теремами. Крыша теремка блестела на солнце ярко-красным огнем, который отражался от чего-то блестящего, что даже глазам делось нестерпимо. Вот потому на какой-то миг подумалось воеводе, что сие есть или медь, или даже вызолоченное червонным золотом тесина. Но и сам же без подсказки понимал, что не может быть такого богатства у простого старого отшельника. Хоть своего восхищения Кирилла Афанасьевич не скрывал, но поглядев на лукаво улыбающегося десятника, со спросом обращаться не стал.
В следующий черёд уж дивился боярин на стены домика, которые были не из брёвен. Про кирпич Кирилла Афанасьевич и слышал, и видел его. В Полоцке, Суздале, Новгороде, да и в самом Ростове стояли церкви, возведённые из глиняных квадратов. Но там кирпич был белый, а стены домика, что стояли перед глазами, радовали своим многоцветием. По самому низу шли несколько красных рядов. За красными рядами следовали белые, но со встроенными в них синими цветами. И уж под самую крышу выходила, словно весенние небеса, голубая кайма.
Такими же блестящими плитками, что на крыше, но не красными, а черно-синими устилался небольшой двор перед домиком. Но не весь целиком и не как попало, а в строгой определённой направленности. Вели те плитки от домика к неказистой после погляда на жильё, придомовой постройке. Но в отличие от виденных у смердов закутов, имевших одностворчатые двери, у пристройки Демьяна стояли ворота, да такие, что впору на телеге въезжать. От постройки шла такая же иссиня-черная дорожка за домик, а ещё к погребцу, который в землю был врыт прямо перед резным крыльцом.
В отворенные створы постройки можно было разглядеть печь. Так как большая часть у неё сидела в земле, то огня воевода не видел. Но то, что она топиться угадывалось по сильному жару из ворот и по трубе, которая, пробив крышу, уходила высоко в небо и испускала волны горячего воздуха.
Ещё поразился новый воевода, глаза которого разбегались от увиденного по разным сторонам, медведю, что сидел над построечными воротами. Разуметь разумел, что был тот игрушкой, но вот из дерева ли вырезанным или из глины слепленным, сообразить с простого погляда не мог. Не удержавшись, потянулся Кирилла Афанасьевич к чудной зверине и в руки взял. Только по тяжести забавного зверя понял, что не из дерева. Постучал перстнем и звук вышел звонкий и гулкий, как от пустого кувшина.
Вот на этот звук и выглянул из-за стены седой старец в белой рубахе, на которой были видны следы от глины. Гостям своим нежданным хозяин не удивился, и позвал в дом. Как не хотелось воеводе вот так сразу с дивного подворья уходить, но пошёл вслед за сыном и десятников в стариковское жильё.
Глядя на дом снаружи, удивлялся Кирилла Афанасьевич, а внутри чудес оказалось ещё больше, чем на дворе успел разглядеть. В чистой горнице было тепло, светло и просторно. Такой свободы и широты в других хатах у смердов видеть Кириллу Афанасьевичу не доводилось. Попервоначалу не разобрался воевода, какая на то причина, но через кой-какое время сообразил, что нет в горнице печки. Как такое могло случиться, что тепло есть, а печки нет, боярин Кирилла не понимал, но сразу же расспрашивать про то посовестился.
Старый отшельник, в отличие от Вислого, разговорчивостью не отличался. Усадив своих гостей на лавку под образа, доставал жбан с квасом и кружки, ставил на стол. Что квасная банка, что крышка на ней, что питейные кружки – все были они леплены из глины. Причудливые узоры в виде зверей и птиц, сплетённых воедино, разных лесных и полевых растений, заставляли вглядываться в глиняную посуду с большим вниманием. Кружки были такого же цвета, что и жбан – темно-зеленого с синим отливом. По своей гладкости они напоминали круглую гальку-голыш, которая долгое время пролежала в быстром ручье. И так руке были приятна кружка на ощупь, что та сама её против воли постоянно оглаживала. Прав был десятник Иван Чириков когда говорил, что посуду, которую делает старый Демьян, не стыдно и в боярской трапезной иметь.
Лишь после того, как выпили не одну кружку терпкого кваса, и десятник успел поведать о другой близлежащей заимке, на которой жила семья, состоящая почти из одних баб и славившаяся тем, что разводила горностаев, спросил Кирилла Афанасьевич про тепло в горнице. Старый Демьян, живший по больше части в одиночестве, в речи был медлительным и на слова скуп. За всё то врем, что сидели за столом, он не произнёс не единого слова. Услышав вопрос боярина, он молча подошёл к простенку и отдёрнул холстину.
Небольшим выступом от кирпичной стены, выходила другая стенка, которая была выложена изразцовыми плитками. Может статься, что и не совсем такими, но печь боярина Кирилла в его варницком имение была обложена похожими изразцами. Вот тут до Кирилла Афанасьевича и дошло, что виденные им на крыши домика плитки и есть изразцы. Только те красные, а здесь тёмно-синего цвета, что дворовая плитка.
В этой тонкой изразцовой стенке имелась квадратная прорезь, похожая на бойницу в сторожевой башне. На полке в той прорези стояли разные горшки, и хорошо было видно, как в них закипает всяческий взвар. Не удержался боярин Кирилл, поднялся с места и подошёл к стенке. Но лишь едва притронулся рукой, как тут же отдёрнул и замотал; изразцы оказались огненно-горячими. Старец беззвучно засмеялся.
– Легче надобно, а то недолго и обвариться, – произнёс он, и это были его первые слова за всё время.
– Как же такое может быть? – подивился Кирилла Афанасьевич. – Разумею, что печь, но огня не вижу, топки для дров нет. Может статься в подвале она стоит или снаружи дома дрова забрасываются?
– А ты сбоку глянь, – посоветовал старый Демьян и больше отодвинул холстину.
Оказалось, что уступ из плит, отстоит от стенки дома всего на пол локтя, и сам имеет ширину два локтя в боковине. Сбоку уступа углядел боярин два отверстия: в одном горели дрова, а самый низ пустым стоял. Зачем такое приспособление потребно, воевода понять не мог, а потому снова спросил.
Хоть и продолжал старый Демьян хранить молчание, но было видно, что интерес боярина к его домовнице ему люб. Взяв длинную лучину, старец запалил её от огня и поднёс к нижнему отверстию. Тут же язык пламени вытянулся и устремился вглубь.
– Огонь дых любит, а потому от низу его отрывать надобно, и воздух подпускать, – охотно стал пояснять он. И уже не дожидаясь новых вопросов, сам стал показывать.
– Хоть топка маленькая, но на один раз дров помещается охапка. Над ними имается бронна, али жалезна плита, закрытая глинным слоем. Она быстро греется, и легче тепло отдаёт, а потому на ей всё вмиг взваривается. Так как огню есть ход на двор через боковую трубу, то дыма-гари в горнице нет. Дабы теплу не быстро уходить, ход не прямой, а с коленами. Одно, на углу поворота имеется, другое колено ищо на другом углу, ну а конечное, перед самой трубой, что на двор идёт.

