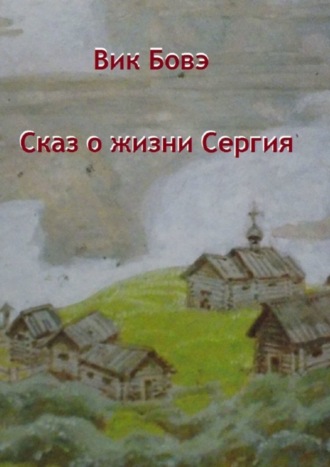
Сказ о жизни Сергия
Ярость туманила голову Ивана Даниловича, мешала спать, а потому и приказ отдавал:
– Срочно звать Кочева! Доставить хоть среди дня, хоть среди ночи, но немедля!
Важный гонец, посланный из ближних бояр, тоже запаздывал уже не на один день.
«Небось, ростовским добром прельстился и тоже мешки седельные загружает», – думал Иван Данилович.
Было вокруг московского князя ворья не мало. Что без таковых ловчил не обойтись в делах, свершающихся не по писанию Божьему, владимирский и московский князь Иван Данилович понимал, а оттого и дополнительную тяготу на сердце имел, какую снять уже никому не было возможно. Даже разумной жене, которая, оставив его в этой ночи одного, безмятежно спала.
Дверь в опочивальню тихо приотворилась. В небольшой проём заглянул постельничий, за коим маячила фигура дворского. Иван Данилович уразумел, что прибыл-таки боярин Кочев. Кивнул головой, мол, пусть ждёт, скоро выйду. Дверь затворилась.
Иван Данилович посмотрел на жену, та от проникшего холодного воздуха спрятала руку под одеяло, но не проснулась. Как ни хотелось скорее узнать, с чем прибыл Кочев, Иван Данилович себя унять возмог. Посидев на кровати ещё довольно длительное время, взял светильник и вышел из опочивальни. Постельничий уже стоял с одежей наготове. Одевался Иван Данилович как никогда медленно.
«Надобно выдержать татя энтого, – помышлял он, – тогда злодей прытче покается в содеянном. Правды, без сомнения, не добиться, но хоть близко к ней приблизиться возможно станет».
И еще неотвязно крутилось в мыслях: «Собрали или не собрали требуемый бор московские бояре? Коли взяли, то и за всё второе можно было не взыскивать. Главное бы собрали!».
Когда выходил Иван Данилович к Кочеву, думал, что боярин Василий уже сомлеть бы должен, а тот, собачий сын, сидел на лавке и в ус не дул. Завидев князя, поднялся и степенно, как показалось Ивану Даниловичу, с чувством не смущённого достоинства поклонился.
«Вот ведь тать, и не выговоришь, что злодейства чинил, добро в свой удел отправил», – с чувством невольного уважения подумал великий князь. А то, что Кочев отправил, Иван Данилович не усомнился ни на одно мгновенье.
С хмурым выражением великий владимирский и московский князь остановился напротив боярина. Тот поднял глаза. Ещё какое-то время стояла тишина, и когда Иван Данилович её нарушил, то вымолвил лишь единственно:
– Ну?
– Сделано всё, как ты и повелел великий государь, – весело и с нескрываемым торжеством произнёс боярин Василий.
«Сколь же энтот сучий сын себе свёз, коли радостно ему так?!», – с удивлением помыслил Иван Данилович, который давно и хорошо знал Кочева. – «Чтобы таковым ликующим пребывать требовалось полной мерой черпать и немало на свой двор свезти. Но ежели себе схватил до умомрачности, то и бор справить должен полным пределом.
И снова лишь едино слово слетело с уст князя:
– Ну?
– Пришлось, однако, ростовских-то поприжать так, дабы мало им, сучим детям, не показалось. Но ведь иначе бы серебра бы и не дали.
– Аверкия почто до смерти забили?
– Да кто же его забивал?! Дали по пяткам лишь для острастки совсем немного, и с десяток не набралось. Это за тот случай, каковой кобенился через всяк край. Уже опосля он и отдал Богу душу, но там без наших молитв обошлось. Ты, Иван Данилович, сам посуди, как можно было не присудить его к палкам, ежели никакого уважения к Москве и в помине не проглядывалось, одна едина хула да брань. Дали б воли, нас бы сызнова и побили. Они уж и свойских кметей вдосталь насобирали и по всему видать, готовыми обретались. Мы ж их единственно упредили. Как ихней тысяцкий в петле заболтался вверх тормашки, так все прочие бояре разбежались. Холопам же их то в забаву даже получилось, а потому и препятствий боле ни от кого не возникало. Сбирали по всем дворам уж боле без принуждения.
– Как так без принуждения, коли бояре, с насиженных мест подались, кто куда?
– А и беды в том нету. Кому нынче те общипанные кочета потребны станут. За ими ить даже холопы не подались, а все на твои земли запросились. За мной в след таковым скопом движут, точно слово моё, что удовлетворён останешься, Иван Данилович.
Московский князь вновь устремил безмолвный взгляд в лицо боярина, точно так же, как это дел хан Узбек: холодный, ничего не выражающий и не вопрошающий, но проникающий во все потаённые мысли.
Боярин же Василий и его выдержал с легкой радостной улыбкой на лице.
«Сколь же энтот шельма доставил, раз таковым молодцом себя держит?!», – удивленно помыслил Иван Данилович.
– Донесли верные люди и о том, как боярина Варницкого – Кирилла, что Аверкию зятем доводится, тож обижали сильно. Брали без меры, оставили без припасов, и что ушёл он с домочадцами то ли в Рязань, то ли ещё куда. Правда, ли то?
И опять Иван Данилович не торопился заводить разговора о выходе. Давал понять боярину Василию, что о ростовских обдирах наслышан довольно, а потому говорить неправды ему, великому князю, нельзя. Может выйти себе дороже.
В единый раз за весь разговор сбледнел лицом Кочев, но голос при ответе не вздрогнул.
– У большого боярина Кирилла поимели много. Может статься, чего-то записать и не успели, так то от поспешания. Ведь ты сам, Иван Данилович, прислал с наказом строгим, коей нас и поторапливал. Ежели даже и записи про что нету, однако в телегах всё до единой вещицы подвезли. Спроси хоть кого хотишь, хоть у тех же верных людей, – произнёс с легкой обидой в голосе боярин Василий, не отводя ясных глаз от московского князя.
«Хорош подлая душа! Врёт, по всему видать, что врёт, а в глазах горькая обида за оговор и напраслину», – подумал Иван Данилович, и вслух примирительно выговорил:
– Ну, будет! Сказывай сколь забрал. Что я велел, взяли?
– Чуть поболе, – лукаво проговорил боярин Василий.
– Полно терпенье моё пытать. Поболе то сколь? В пол раз, раз, али два?
Теперь Василий Кочев выдержал паузу, и лишь затем торжественно отчеканил:
– От того, что ты, великий государь, наказывал, в три раза поболе собрали.
На какое-то мгновенье Иван Данилович обмер, но потом с восторгом и восхищением прижал к груди своего такового верного слугу.
Глава третья
Не стала Рязань новым домом для семьи боярина Варницкого. На постоялый княжеский двор их не пустили. Сказали, что нынче приехал из Пронского удела князь Александр Михайлович с боярами, а потому для гостей места не осталось. Дворский, что беседовал с Кириллом Афанасьевичем, посоветовал ему доехать до усадьбы боярыни Анастасии, вдовствующей с последнего татарского набега. Двор у неё, конечно, не тот, что прежде, но живёт та с двумя детьми, а потому место для постояльцев знатных сыскать сможет.
Боярыня Анастасия, была женщиной богобоязненной, заповеди чтила, а потому нуждающимся беглецам не отказала и за постой платы не стребовала. У вдовицы, по годам ещё не старой, оказалось двое детей. Старшей дочери Анне исполнилось тринадцать годов, и она была матери за помощницу; уже приглядывала за дворней. Сыну Андрею шёл седьмой год, а потому любил он больше на дворе быть, да стрелы из лука пускать в березовые чурбаны. Как какая стрела в цель попадала, так и кричал юный боярин: «Это тому поганому татарину, что отца моего убил». При этих словах, вдовица украдкой слезу смахивала и со двора быстро уходила в дом, где принималась плакать. Было видно, что ещё не зажила сердечная рана о погибшем муже.
Боярыни между собой сдружились быстро, и проводили много времени на женской половине.
Между всеми делами не забыл боярин Кирилл Афанасьевич со своей семьёй и новыми знакомыми сходить в соборную церковь Бориса и Глеба. Благодарили Бога за счастливое избавление от тягот прошлых, за помощь в длинной дороге, какая добром завершилась, молили о новой поддержке.
Неделя прошла, а рязанский князь Иван Иванович не спешил принимать новоявленного боярина Кирилла Афанасьевича. Правда, Александр Михайлович Пронский всё ещё в Рязани находился, да о каких-то своих делах беседы вёл. Но ведь не целый же день, и при желании могла найтись свободная минута у великого князя, чтобы боярина на службу взять и надел ему определить.
Как-то шёл Кирилл Афанасьевич после очередного отказа думного дьяка и столкнулся нос к носу с высоким статным господином в дорогих одеждах в окружении служивых людей. Те было попытались боярина Кирилла в грудь ударить и отпихнуть, да тот двинул одного так, что летел кметь на пять шагов. Второй было за саблю схватился, но господин его строго остановил и выговорил:
– Прежде чем людей пихать взашей, смотреть надобно, кого толкаешь. Не видишь, что воин перед тобой доблестный?! – и уже совсем не строго спросил у Кирилла. – У тебя ко мне просьба имеется?
Боярин Кирилл учтиво склонил голову и ответил:
– Ежели ты не государь, великий князь Иван Иванович, то извини, что обеспокоил.
Богатый господин внимательно глянул в лицо боярина. Задумался на какое-то мгновение, а потом произнёс:
– А я ведь тебя, пожалуй, знаю, – сказал он с удивлением в голосе. – Не был ли ты в улусе татарском у хана Узбека, когда дядю моего Василия жизни лишили?
Кирилл Афанасьевич поднял глаза. Он догадался кто перед ним, а потому поклонился ещё учтивей, но достоинства своего не теряя.
– Твоя правда, князь Александр Михайлович, довелось мне в те года, находится в Орде при князе моей Михаиле Ярославовиче Тверском. Только уехать прежде пришлось, чем то горе приключилось с Василием Константиновичем. Мы ведь с ним дружбу водили, – сказал боярин Кирилл.
– И про сие мне ведомо, – качая головой, подтвердил пронский князь. – А тут, с каковою надобностью?
– Не знаю, слышал ли ты, как московский князь обошёлся с людьми ростовскими? – вопросил бывший воевода.
– Да про сие уж слух и до нас дошёл.
– Ну вот, по причине таковой, пришлось уйти из родного дома. Сюда же приехал службы искать, да всё никак до государя Ивана Ивановича не дойду. Занят он.
Александр Михайлович бросил взгляд на дубовый терем рязанского князя, а потом сказал:
– Быть мне сейчас у брата своего двоюродного, и ежели пожелаешь, за тебя спрошу. А ты потом зайди ко мне на подворье. Там и ответ тебе дам.
Когда боярин Кирилл в знак согласие голову наклонил, кивнул ему и князь пронский, а потом быстро направился в гридницу, где уж ожидал его великий князь рязанский Иван Иванович.
Ближе к вечеру того же дня пришёл Кирилл Афанасьевич на подворье пронского князя и велел доложить о себе. А ещё через минуту, отрок вёл его по переходам недавно отстроенного большого терема, где ещё пахло сосновой смолой.
Князь Александр Михайлович сидел в комнате со многими оконцами, а потому было не темно. На столе перед ним во множестве лежали различные грамоты, которые он просматривал. Увидев входящего боярина, поднялся навстречу, приобнял и посадил рядом.
– Вижу ты, Кирилла Афанасьевич, меня не признаешь, а был я тогда отроком малым и находился в Орде при дяде моем Василии. Ведь не вспомнишь меня?
– Не прогневай, княже, не могу тебя припомнить. В те дни народу в Орде пребывало много, да и мне не столько годов было с тем, дабы внимательно за всем наблюдать.
– О чём ты, боярин, речешь?! Нет у меня на тебя гнева, просто вспомнилась жизнь у татар и радость, что удалось живым оттуда уйти. Могли ведь, как и князя Василия удавить, кто помешал бы.
Боярин Кирилл вздохнул.
– Да, тяжела жизнь наша, и тогда, и сейчас, – сказал он. – Существуем и не знаем, когда и где конец придёт. На всё воля Божья.
– Твоя правда, Кирилла Афанасьевич, твоя, – тихо вымолвил князь Александр и встал. Поднялся и бывший ростовский боярин.
– Переговорил я с братом о твоём деле. Плести не стану, скажу прямо: не восхотел тебя Коротопол на службу брать. Боится. Сам как год сел на княжеский рязанский стол и нынче опасается отношение портить с Москвой. К тому же, есть у него договор, в коем величается он младшим братом. Отсюда выходит, что в воле он нового великого владимирского и московского князя Ивана Калиты.
Боярин Кирилл с удивлением посмотрел на князя. Тот взгляд понял.
– Так народ прозвал Ивана Даниловича. То ли за руки его загребущие, всё под себя затягивающие. Возможно, что и за сумку денежную, кою московит при себе всегда носит с денежкой мелкой да нищему люду подаёт. Вот и ответствовал мне братец двоюродный, что тверских и ростовский бояр на службу принимать не станет, так как всем им велено в Радонеже быть. Про то ему доподлинно известно, так как сия грамота из Москвы совсем недавно доставлена была.
– Спаси бог тебя, Александр Михайлович, что озаботился моими делами, – сказал боярин Кирилл, вставая.
Пронский князь снова его усадил.
– Как нынче мыслишь устраивать свою судьбу? – вопросил он.
– Пока не ведаю. Видать придется ехать в Радонеж, как и было велено московским наместником. Ежели, может статься, у тебя, княже, что для меня найдется?
– Ведомо ли тебе, зачем я нынче в Рязани уже вторую неделю сижу? – спросил князь Александр Михайлович.
– Нет, мне про то неведомо.
– А разве люд на посаде ни о чем речей не ведёт?
– Может статься, и ведут речи, да я мало прислушиваюсь. Своих забот хватает.
– Так оно даже лучше, – сказал князь пронский и подвёл боярина к столу. – Вот все сии грамоты говорят о праве моем на землю Пронскую, как отчину мою. Они дают мне право безраздельно править землями этими по собственному своему разумению. Но вожделеет мой двоюродный брат Иван Иванович сделать Пронск уделом своим, меня же принудить платить выход ему, а не в Орду. На карте сей видно, что все городища и селища до реки Прони, а от Прони до самого Красного городка на Вёрде, а от Вёрды и до Дону, были в воле Олега Ингваревича. Затем все сии земли от него перешли к прадеду моему Роману Святому, каковой за веру пострадал и смерть в Орде принял, но не опоганился. Однако Иван Коротопол выслушивать меня не желает, и приневоливает жить по его правде. И ещё возникло у него вожделение на моих землях садить своих вотчинников. Токмо не бывать сему! Даже ежели придётся мне за оружие взяться.
Князь Пронский посмотрел на боярина Кирилла, который слушал внимательно, вопросами не останавливал. Александру Михайловичу пришлось по нраву и то, что не увидал он в Кирилле Афанасьевиче испуга. Нынче многие вздрагивали от слов пронского князя, трусливо пряча глаза. Бывший воевода смотрел твёрдо и прямо.
– Давно мысль во мне зародилась, но для исполнения задуманного подходящего человека не отыскивалось, – продолжил говорить пронский князь. – Вот ежели бы ты отважился, то тебе бы препоручил. Дело сие многотрудное, но и награда станется немалой.
Снова пронский князь глядел на боярина, и снова тот молча слушал окончание мысли…
«Выдержки у боярина вдосталь, не суетен», – помыслил Александр Михайлович и взял со стола свиток, на котором был начертан план земли Пронского княжества. С ним пошёл к широкой лавке, что стояла у окна, и развернул на всю длину.
– Давай-ка мы с тобой вот на светлом месте пристроимся да побеседуем. Разговор будет не кратким, а в ногах правды, как речётся, мало.
Боярин Кирилл сел и бросил взор на чудно выписанные синие и зелёные узоры.
– Грамоту разумеешь? – поинтересовался Александр Михайлович.
Кирилла Афанасьевич утвердительно покивал головой.
– То радостно для меня и в удивление. В нынешние времена трудно сыскать грамотея, а потому вижу в том знак добрый. Глянь сюда. Сие есть моя земля.
Князь обвёл рукой по большой черной полосе. Потом показал на квадрат, чуть ли не на середине. Это был город Пронск, который стоял на реке Проне. Главный город княжества находился на высоком холме, что в купе с речной преградой делало его надежно защищенным от нападения с Дикого поля. Правда с тех пор, как татары пришли на Русь южные соседи откочевали в другие места, и уже мало беспокоили. Но очень часто на Пронск с плохо обороняемой стороны делали набеги голодные татарские орды. Хорошо, когда сторожа успевали замечать приближающиеся отряды, и тогда ворота закрывались, мосты поднимались, и город превращался в неприступную крепость. Но бывало и так, что туман, поднимавшийся над водой и не растекающийся до полудня, мешал обозревать происходящее за рекой, и тогда могла случиться беда.
Вот и надумал князь Александр Михайлович в верстах сорока от своего главного города заложить сторожевую крепость. А для этой цели облюбовал он Красное городище на реке Вёрде. В самом городище не было настоящего кремника, способного выдерживать хотя бы временную небольшую осаду, а потому уже не раз подвергалось оно разграблению от проходящих татарских отрядов. В первый раз, когда Батый на Рязань шёл. Отдельные его тумены через пронские земли прошли, пожгли и пограбили многие селища и городища, были среди них окрайние – Красный городок и Александровское городище. Потом уже случались самовольные набеги разных диких орд, которые для своего пропитания и удовольствия часто грабили незащищённые поселения.
Может статься, и восстанавливать их никто бы не взялся, да места, на которых находились вотчины пронского князя, были весьма удобными. Над всей низменной равниной, которая простиралась до самого Дона, возвышались две горы. Огибая их, бежала небольшая, но довольно глубокая речка Вёрда. Были поблизости леса сосновые и дубравы с вековыми деревами, а потому строить было из чего. К тому же, пролегала рядом с двумя городищами караванная дорога, которая от Красного городка, сразу же за Вёрдой, растекалась на три стороны. Бессчётное количество купцов, стоявших ночным постоем в обоих городищах, платили не скупо, да и нужным товаром снабжали. Вот потому-то после каждого нового пожарища, люди пересидев в соседнем лесу, вновь возвращались на обжитые места, возводили избы.
По мысли пронского князя в крепости, которую надобно было ставить добротной и вместительной, могли бы укрываться в случае небольших набегов и торговый люд, и смерды с окрестных сел и деревень. При большой же опасности, когда на Пронское княжество вдруг шли бы татарские полки, то следовало бы загодя отправлять гонцов в Пронск с предупреждением, посадскому и ремесленному люду в леса уходить, а крепости, насколько бы сил хватило, татей сдерживать.
В связи со строительством крепости, и ещё одна задумка имелась у Александра Михайловича – приращения пахотных земель за счёт степного простора. В самом Пронске и в стороне между ним и Рязанью, пашня была худой, больше песка с глиной. А вот за Вёрдой – к рекам Воронеж и Дон, лежали тучные плодородные земли. Как было бы выгодно посадить там своих людей, собирать богатые урожаи, а потом продавать их в ту же Рязань или Коломну. Давно уже был готов пронский князь сажать на землю смердов, но из-за частных татарских набегов всё ждал подходящего случая.
Вот потому-то и нужен был князю Александру Михайловичу боярин, который бы смог поставить сторожевую крепость, знал бы ратную службу, загодя оповещал бы о приближающемся враге, умел давать отпор татарским отрядам. Когда выход платили исправно, то хан Золотой Орды гнева не держал на то, что русские города сами отбивались, да ещё брали в полон дикие отряды, вышедшие из повиновения сараевского владыки. Сел бы тот боярин-воевода на те земли своим наделом, но волю пронского князя воплощал, как свою.
Вот за такую службу обещал пронский князь боярину Кириллу Афанасьевичу великие блага и послабления. Давал со своих земель холопов и смердов числом до пятисот. Снабжал на год провизией. Обещал послать с боярином добрых мастеровых, способных по делу плотницкому, гончарному, кузнечному. Сулил не брать дани для своей казны пять лет, а лишь один татарский выход. И такое послабление было обещано для всех вновь приходящим под руку Кирилла Афанасьевича. А ещё разрешал столько земли взять в надел, сколько сможет, хоть до Ельца. К тому же, обещался платить ему ещё и как воеводе того края.
– Ну и как, по нраву тебя, боярин, такая служба?
Кирилла Афанасьевич хотел было подняться, но князь его удержал за рукав.
– Так ответствуй, – повелел он. – И знай, что за любое слово, сказанное тобой, не будет тебе от меня обиды.
– Вчера ещё пребывал я и без земли, и без места, так как всё отнял у меня Иван Данилович. А тут нежданно-негаданно по милости божьей и по твоей, князь Александр Михайлович, выпадает мне такое великолепие. Одного боюсь, княже, подвести тебя. Ведь я воин и крепостей не возводил, а лишь разрушал. А ежели что и доводилось возводить, так это собственные хоромы вместе с другими постройками на своей усадьбе.
Пронский князь засмеялся, сгреб в охапку боярина, и, хлопая его по спине, произнёс:
– Воин лучше знает, каковым должен стоять кремник, дабы врагу сложнее было его захватить. Ну а мастеров, знающих да умеющих, я тебе тож выищу. Мои разбирательства на завтра заканчиваются в Рязани, а тотчас же на другой день мыслю отбытие в Пронск. Славно бы и тебе со мной отъехать. Коней, и всё что надо для дороги спроси, тебе будет.
Глава четвертая
Боярин Кирилл Афанасьевич стоял на вершине холма и не мог оторвать взгляда, от уходящей к линии горизонта, зелёной равнины. Впрочем, это была не совсем гладкая поверхность. Прямо у подножья склона начиналось болото. Прогалины синеватой воды, на которых плавали круглые листья с жёлтыми цветами, чередовались с бугорками, заросшими мелким кустарником, ольхой, ивой. Где заканчивалась трясина и начиналась река, отсюда сверху угадать было сложно; низкий берег Вёрды утопал в жёлто-зелёном коридоре камыша и осоки. На противоположном берегу, который спускался к реке отлогими уступами, начинались луга. Одинокие копёнки жались ближе к левому краю равнины, а большая часть разнотравья стояла нетронутой.
По краю луга с правой стороны угадывалась дорога, один конец которой обрывался у реки, а другой – терялся среди невысоких пологих пригорков с негустыми рощицами берез, сосен, дубов. И лишь только после этих взгорий начиналась ровная, как стол, степь – Дикое поле, а уж где-то там, совсем даже недалеко, был Дон и Елец. На колесах можно было перетаскивать струги из Дона в Волгу, а там, и до столицы Золотой Орды – Сарая, оставалось немного. Тогда, в годы своей молодости, бывал в ней Кирилла Афанасьевич с князем своим Михаилом Ярославовичем. Правда, тогда плыли они в стругах и насадах по Волге от Ростова. Путь длинный, но не такой утомительный.
Нынче же вот тут, у него под ногами лежала сакма, которой татарская Орда приходила на Русь. Этим же путем пользовались и купцы, которые направлялись в Царьград. Для них, как объяснял десятник, были во множестве поставлены, прямо за дорогой – ближе к речной переправе, избы. Невысокие срубы, которые возводились довольно часто, ибо татары их жгли постоянно, крылись соломой, сидели так низко, что казались вросшими в землю чуть ли не под самую стреху.
Теперь всё это – луга со стогами сена, река с болотами, земля с лесами, степь с дорогой, стали его вотчиной, вотчиной боярина и воеводы Кирилла Афанасьевича.
Вот уже и одна неделя миновала с того дня, как обосновался он со своим семейством на новом месте. До Александровского городища добирались целый день. Выезжали, когда солнце ещё не поднялось, а въезжали в подобие дубового кремника, когда на небе сияло ночное светило. Десятник Иван Чириков, распоряжавшийся конным отрядом сторожи, уже ведал о новом воеводе, а потому не удивился появлению большого поездного обоза из телег, возков и пешцев.
Для начала обжития и поднятия стен крепости пронский князь Александр Михайлович дал своему боярину-воеводе, смердов и холопов числом сто. Одних для работ на пашне, других – для заготовки вековых деревьев.
Какой должна была встать новая крепость, обсуждали Кирилла Афанасьевич с князем самым доскональным образом. Тут ратный опыт боярина Кирилла оказался очень даже полезным.
С тем, что крепость над рекой должна быть таким размером, который может позволить сам холм, с этим сговорились сразу. Ещё предлагал Кирилла Афанасьевич одну сторону нового кремника, которая к полю обращена лицом, ставить каменной. На это пронский князь согласиться не захотел. Камня в тех краях не водилось, а на то, чтобы возить, времени не было. Пытался, было, новый воевода настаивать на своём, но Александр Михайлович резонно заметил:
– Давай первоначально поставим кремник из дубовых стен, а уж опосля, Бог даст, и камнем обложим.
Дубовые стены решили ставить числом две, а промеж них сыпать песок и землю, с наружи обмазывать глиной. Стена, таким образом, должна выйти в ширине один сажень. Высоту кремнику определяли никак не меньше шести сажень. Лишь при таком возвышении стен возможно было удачно отбиваться от многочисленных врагов. По углам крепости, так решили без споров, необходимо ставить башни. Ежели длина стены выйдет больше тридцати сажень, то тогда ещё одну башню следовало возвести по середине. То, что над въездными воротами должны стоять две башни, а не одна и вовсе обсуждению не подлежало.

