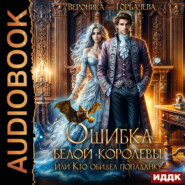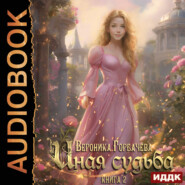По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Когда возвращается радуга. Книга 2
Год написания книги
2019
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Это тебе, слышишь? Прими-и! Пойра-аз! Прими, Борей!
«Солнцеподобный» вновь зарылся носом в волну, пол каюты накренился… и драгоценности, подарки любимого эфенди за все три года, проведённые вместе, легко скользнули из недр, уже наполовину заполненных дождевой водой, вниз, в пучину, посыпались цветными огоньками и кольца, и серьги, и броши-стрекозы, броши тюльпаны, и нежнейший розовый перламутр, освобождённый от скрепляющей его шёлковой нити, и чёрные кораллы… А вдогонку им – полетел и сам ларчик. Вымокшая с головы до ног, дрожащая Ирис тупо смотрела вслед угасающим в глубине огонькам. Напрасно. Всё напрасно… Ветер не принял жертву. Она не угадала имя.
Заплакав, как дитя, размазывая слёзы бесполезным мокрым рукавом, она опустилась на пол. Ей уже было всё равно, что иллюминатор распахнут, что вокруг на ковёр натекла лужа, что кафтан и шаровары прилипли к телу, сотрясающемуся от холода… Она всхлипывала, не замечая, что качка, наконец, прекратилась. Оконце в тучах раздалось во все стороны, расширилось, вот уже не одиночный луч, а целый сноп упал на спокойную водную гладь. И сразу стало ясно, что день – в разгаре, жизнь продолжается, и, возможно, не так уж она плоха, если бури всё-таки проходят…
… А где-то, на островке, не столь отдалённом от потрёпанного стихиями каравана, сидели на скалистом утёсе двое. Могучий старик с кудлатой седой гривой, развевающейся при полном безветрии – и нежноокая сирена с бело-розовой кожей, с чудесным изумрудно-золотым чешуйчатым хвостом. Ахая и восторгаясь, дева перебирала цветные камушки, постанывала в восхищении, цепляя к сиренево-зелёным прядям то драгоценную стрекозу, то дивный гранатовый тюльпан, перебирала розовый жемчуг и всё норовила полюбоваться на себя в лужицу-озерцо, натёкшую в углублении скалы. Старец морщил губы, стараясь сдержать довольную улыбку, и поглядывал то на неё, то на горизонт, где, словно в нерешительности, не веря, что всё страшное позади, замерли людские кораблики, один побольше, пять поменьше. И уже взлетали в засиневших водах веретёнца дельфинов, спешащих на помощь одиноким человечкам, цепляющимся за щепочки-доски.
***
Ох, Назар попал, ну и попал…
В жизни не подумал бы, что всё может быть настолько плохо. Когда мать хоронили, так и не разродившуюся последним младенцем – молчал, слезами давился, но горю воли не давал. Когда поколачивали старшие братья – не за воровство, а за то, что пойман, а случался с вечно голодным отроком такой грех: стянуть то чурек у уличного торговца, то рыбку – терпел. За грех нужно отвечать. Оно же и наука впрок шла: день-другой хлопец и не мыслил заглядывать в обжорные ряды, хоть потом пустое брюхо надумывало планы куда изобретательнее, чем пустая голова… Ни на рабском рынке не отчаивался, когда продавали его, вертели голого, будто какое неживое пугало, ни когда получал плетей за первый побег – а всыпали ему знатно, не то, что братья-жалельщики. Ни когда в яму попал, «для науки», как выразился злобный хозяин, чьего поганого имени Назарка так и не запомнил, больно заковыристое, язык сломаешь…
Что бы ни случилось страшного или горького – всё думал: авось обойдётся. Не может такого быть, чтобы не обошлось. Батька вон, когда с семьёй в полон угодил, решил – всё, жизни конец; ан нет – не конец. Купил один добрый человек крымского раба вместе с жёнкой и тремя мальцами, обращался хорошо, и не только с ними, христианами, но и с прочими рабами и слугами, что у него давно почти наравне с семейными свободно по дому ходили, и с одного стола ели-пили, и не обноски нашивали. При нём батька с мамкой иной раз забывали, что несвободны, да ещё новых детишек нарожали. А когда ислам приняли – написал хозяин их семейству вольную, да и оставил при себе. И то сказать, куда бывшим рабам деваться? В далёком бывшем отечестве шла война, и ежели бы не полон – задушили бы семью податями: к тому времени долг на их деревне висел немереный…
После мамкиной смерти жизнь стала какая-то серая. И хозяин вскорости тоже помер, снесли его под завывание плакальщиц на кладбище, усадили в яму под гладкий камень и водрузили на плиту зелёный тюрбан – ибо успел уважаемый Нашх-ад-Дин за полгода до кончины посетить Святой Город и стал прозываться Ходжой. Семейство Назара осталось без куска хлеба, а потом и вовсе на улице. И пошло-поехало: рабский ошейник, плети, один хозяин-мучитель, другой… А всё почему? К тем, кто обращался в «истинную», как здесь называли, веру, отношение-то было мягче, но вот не хотел Назарка ислам принимать. Даже когда к заднице прислонили кол, смазанный бараньим салом, и пригрозили, что вот сейчас на него, как на вертел, и нанижут, ежели не скажет заветных слов – «Ля иляхэ иллял-лах, мухаммадун расулюл-лах» (Нет бога, кроме Аллаха, и Мохаммед – пророк Его!) – визжал, как нечестивый поросёнок, но не сдался. Уж что за дурацкое упрямство на него нашло? А может, и не упрямство, а просто помнил Назар, как мать ночами тайком крестилась и бормотала молитвы Богородице и Животворящему Кресту, и… отчего-то пустая и легкомысленная голова, когда вспоминала материнский шёпот, не слушала ни пустого брюха, ни поротой спины, ни набитой пинками задницы. А хозяев, видать, досада брала, не хотелось из-за строптивого сопляка в убыток входить. Вот Назарку и перепродавали один другому, нехристи.
Пока однажды в вонючем зиндане, где он в очередной раз отсиживался, не появился старец, похожий на святого. Хоть и в местном халате, и в тюрбане, и при чётках – а всё чудилось Назарке вокруг его головы дивное сияние, как от настоящего святого, что на мамкиной нательной иконке был. Старец негромко выговаривал стражникам, те багровели, бледнели, торопливо приносили для заключённых баклажки со свежей водой, почти свежие лепёшки и рис… А лекарь, оказав помощь болящим, велел перевезти двоих в городскую больницу, поручившись, что не убегут от правосудия, а потом… глянул на забившегося в угол тощего мальчишку – и покачал головой.
– Чем провинился этот отрок? Не маловат ли он, чтобы взыскивать с него со всей строгостью закона? – Выслушав ответ почтительно склонившегося стража, кивнул. – Значит, от него отказались… Что ж, я забираю этого ребёнка. Моему садовнику нужен помощник. А если бывший хозяин передумает – пришлите его ко мне, и я напомню, что переход в истинную веру должен свершаться добровольно, без угроз и принуждения. Будет возражать – пусть прихватит с собой кади, а уж мы с ним поговорим, как знатоки законов…
С тех пор у Назара появились Господин и Госпожа, светлые-пресветлые… Это он сам их так мысленно назвал, потому что не только у Аслан-бея, но и у его ласковой и доброй жены над головой так и сияло лёгкое золотое облачко. Отрок давно за собой знал такое свойство – видеть в людях или темень, или свет, и поначалу думал, что все так видят, но потом раскусил – ан не все! Да ещё и побьют, ежели ляпнешь, что, мол, чудится что-то… А вот доброму эфенди однажды проболтался. Не выдержал. Тот лишь улыбнулся и ответил спокойно: «Я знаю, юноша. Но твоему дивному дару ещё рано оживать. Подожди, будет и у тебя когда-нибудь Наставник, он и научит, и одарит светом мудрости».
Добрая Госпожа Ирис была ласкова, дарила подарки, закармливала вкусностями, заступалась за него перед суровым Али… и Назар, считая себя последней скотиной, не заслуживающей подобного обращения, даже перестал воровать на кухне, тем более что, наконец, наелся; и вскорости со всем усердием сбивал пятки на мостовых столицы, бегая по её поручениям, и старался угодить, угадать малейшие желания, успеть…
А потом оказалось, что умирают даже Светлые.
Значит, Госпожу, ставшую вдовой, нужно оберегать ещё сильнее.
Зачем, зачем ей понадобилось уезжать? Да ещё за море, да ещё, наверняка, навсегда… Да ещё без него: ты, мол, маленький… Остаёшься под приглядом Айлин-ханум, а потом пойдёшь в школу, ведь ты теперь не раб, а вольный, можешь стать учёным или ещё кем-нибудь… Умом-то отрок всё понимал, а вот сердце бунтовало. И теперь оно, вступив в коварный сговор с уже далеко не пустой головой, взяло верх над Назаром. Приказало ему следить за сборами наследства эфенди, сопровождать лари и ящики до самого корабля, следить за погрузкой – якобы, чтобы затем подтвердить Ирис-ханум, что сокровища её мужа перевозятся с соблюдением всех предосторожностей. Голова высматривала укромные местечки в трюме, а сердце подсказывало, что вон там, в уже заставленном углу, есть место между ящиками, куда можно натаскать в несколько приёмов запасы еды и воды, а потом втиснуться самому, перед отплытием. За день до отхода, говорят, на кораблях затевается такая суматоха и бесконечные проверки того-сего, что никто и не заметит, как примелькавшийся всем парень в очередной раз сунется в грузовой отсек, да так из него и не выйдет.
Ну, не хотел он оставаться в этой стране, не хотел!
…Или просто желал быть рядом с Госпожой. Вот что.
За три года сытого жития в доме Аслан-бея Назар изрядно раздобрел, как ему самому казалось. Рёбра уже не торчали, скулы не выпирали, руки-ноги обросли мышцами – недаром Али заставлял приседать с мешками на плечах, наполненными песком, и гонял каждое утро с деревянным мечом! Но сейчас тело привычно включилось в полуголодный режим. Ибо съестного, украдкой добытого на хозяйской кухне, хватило бы дней на семь-десять, а сколько продлится плавание – кто его знает. Малец собирался явиться к Госпоже и покаяться на третий-четвёртый день пути, не раньше, не высадят же его никуда в открытом море! Но уже в первую же ночь, решив тишком выбраться на палубу и осмотреться, не сумел приподнять крышку люка – и понял, что заперт. Приходилось терпеть. Ждать. И оборонять свои скудные припасы от корабельных крыс.
Через три дня у него не осталось свечей, а масло в лампе закончилось. За это время он успел «обжиться», запомнить стратегически нужные места – особенно место для сна, поверх целого ряда сундуков, обитых гладкой от краски пробкой. Должно быть, краска была непростая: крысам не нравился её запах, а потому – Назар спал спокойно. Ещё через четыре дня он готов был завыть от тоски и безделья, и совсем уже решился себя обнаружить при первом удобном случае: услышит, что возле люка кто-то проходит – сразу заорёт и сдастся, пусть делают с ним, что хотят, не убьют же, в конце концов.
А потом, на восьмой день, корабль вдруг стало раскачивать совсем не так, как раньше, и с каждым часом всё сильнее. Назар слушал, как в темноте скрипят от натуги крепёжные тросы, трутся о деревянные поверхности ящиков верёвки, скрежещут в скобах железные крюки, и понимал, что если хоть один из тросов не выдержит тяжести, либо очередного толчка в борт – вся эта махина размелет его в кашу из мяса и костей. Нет, сперва сломает трап, на самой верхотуре которого, упершись головой в люк, он сидел, как петух на насесте. А потом размажет…
И вот теперь ему стало страшно, как никогда.
Казалось, он сидит тут целую вечность, судорожно цепляясь за поручни, стараясь не слететь при очередном крене вправо, влево… Куда-то подевалась вся недолгая жизнь: мир сократился до нескольких деревянных ступеней с жёсткими рёбрами, и кокона темноты, в которой всё громче и злораднее скрипела, стонала и подбиралась ближе незримая Смерть. И когда в этот угрожающий шелест неожиданно пробились людские голоса – он поначалу не поверил. Мало ли что со страху почудится.
И когда распахнулся люк – зажмурился от ослепительного, как показалось, света и кулем свалился вниз, к подножию трапа. Голоса слились в один сплошной гул. Его выволокли наружу, полуослепшего, полуоглохшего, надавали затрещин… Удивительно действенное средство для оживления полупокойников! И поставили перед взбешённым капитаном.
Джафара-агу легко можно было понять. От ударов волн, в Средиземном море куда более крутых, чем в Атлантике, «Солнцеликий» трещал по швам. Ценный груз, репутация капитана, жизни – его, команды, прекрасной пассажирки – висели на волоске. А тут… как какой-то шайтан, выскакивает из грузового люка очумелый мальчишка…
– Это парень госпожи, – услышал он неожиданное. И не сразу понял.
– Что? Чей? Кто?
– Я говорю, что этот паршивец – слуга Ирис-ханум, капитан. – Только сейчас Джафар-паша сообразил, что к нему обращается чернокожий Али. – Ишь, не захотел оставаться дома, увязался с нами.… Позвольте, капитан, я его выпорю. После того, как всё закончится. А пока – поставлю к помпам, он только с виду хлипкий, но жилистый, долго потянет.
«К помпам…»
Не время творить расправу. Каждый человек пригодится, даже этот жалкий трюмный крысёныш.
– Приставь, живо. Потом спустишь с него шкуру и доложишь, – рубанул капитан, позабыв, что Али взят в команду только временно.
И тут затрещала под очередным шквалистым порывом ветра мачта – и стало не до сопляка, взявшегося невесть откуда.
Назар пыхтел над рычагом помпы вместе с десятком дюжих матросов, откачивая воду из очередного трюма. Ладони дымились от натираемых мозолей, всё тело ломило, его, лёгкого как пёрышко, по-прежнему мотало качкой из стороны в сторону, и даже хорошо, что рядом был тяжёлый насос, за который можно было держаться. Ничего, пусть выпорют, у него спина крепкая, главное – он теперь не один. И Али здесь, и добрая Ирис-ханум… Пусть ругается, он отслужит, отработает. Спина заживёт.
А Франкия и Госпожа останутся.
***
Нет-нет, голова уже не шла кругом от свалившихся разом дел, не то, что при сборах в дорогу… Ирис просто не успела понять и порадоваться тому, что её задумка удалась. Ещё недавно она, съёжившись и дрожа от холода, вытирала слёзы, сидя на полу – до того было жалко пропавшие зря безделушки – и вдруг понимает, что вокруг тихо, спокойно, почти как раньше, в штиль, и пол под ногами не пляшет, и через хлопающий створкой иллюминатор в каюту пробивается солнце. Только шумов снаружи больше обычного: помимо команд и топота матросов слышны какие-то нервные окрики, и звуки, будто волоком тащат что-то тяжёлое. Потом – стук топоров, визжание пил…
Потом забежал Бомарше с полубезумными глазами, налетел на «крестницу», закутал, мокрую, в одеяло, сдёрнутое с постели, зачастил, что всё хорошо, не надо больше бояться, буря закончилось, и теперь остаётся навести порядок, подлечить раненых, проверить, все ли целы в караване – и идти себе дальше, до самых берегов родной Франкии… Пусть крошка Ирис поскучает ещё немного в одиночестве, а ещё лучше – заглянет в дорожные закрома, не найдётся ли у неё обезболивающих и кровоостанавливающих средств, потому что у судового лекаря, Серхата ибн Селима, они, конечно, есть, но то, что заготовлено её собственными ручками, намного действенней. А он никому не проговорится, что это эликсиры его маленькой Кекем, пусть думают, что от самого Аслан-бея остались в запасе…
Время сорвалось с места и полетело стремительно, как стрела, выпущенная из лука степняка. День наполнился привычной работой: составлением лечебных составов и зелий, усилением их толикой магии, розыском новых секретов в дневниках эфенди. Ирис уже успела в дороге соскучиться по этим простым действиям. Да ещё, пока Мэг спала, пришлось самой немного прибраться в каюте, расставить на места всё упавшее, собрать рассыпанное, выкинуть разбитое, притереть лужи. Когда она занялась, наконец, делом – пропал и страх перед новым возможным штормом, и перед неизвестностью, что поджидала впереди, в чужой стране, и перед возможным новым замужеством и угрозами Хромца. Словно вместе с выкупом море поглотило её заботы: и те, что действительно стоили внимания, и надуманные. Живи, как сподобит Аллах, радуйся, что выжила, что люди рядом с тобой уцелели – и ничего не бойся. «Солнцеподобный» вышел из бури целёхонек, лишь половину ограждений снесло да сломалась одна из мачт – вот и хорошо! Матроса, угодившего под обломок, не раздавило и не пропороло, только покалечило руку – тоже хорошо, потому что умелый лекарь собрал предплечье по косточкам, зашил, положил в лубок; срастётся! Главное, что молодой мужчина жив, да скоро вернётся домой, на полный пансион из казны, а когда рана заживёт – подыщет себе занятие по силам.
Корабли из сопровождения, пусть не совсем целы, но все на плаву, вот что замечательно! Под удар шебеки во время шторма попал какой-то чужак; но потерпевших крушение христиан, цепляющихся за доски от разбитого судна, раскиданные волнами, выловили. Среди них даже оказалась женщина с ребёнком, сынишкой лет шести-семи. Вот уж и впрямь чудо – выжить в такую бурю, в волнах, и совершенно случайно быть замеченными и спасёнными не кем иным, как иноверцами… Разумеется, ни о каком пленении этих двоих и речи быть не могло, ибо говорили они на франкском наречии, и консул Бомарше немедленно простёр над соотечественниками защиту и покровительство державы, столь дружественной Османии. А вот остальных семерых, явно бриттанцев, хоть и обогрели, и накормили, но на всякий случай заперли в трюме. До дальнейшего разбирательства, после улаживания капитаном первоочередных дел.
По настоянию Ирис, в её каюте добавилось ещё одно ложе, на котором сейчас спали, погружённые в целительный сон, мать и дитя. Говорят, женщина, едва её подняли на борт, прошептала: «Спасите сына… его хотели… О, мой маленький Анри!..» Похоже, крошечная семья избежала не только гибели в волнах, но и ещё каких-то неведомых пока несчастий.
И, как ещё одно чудо, ближе к ночи Али притащил к ней Назарку: изрядно отощавшего, да, вдобавок, искровянившего руки почти до локтей, так уж усердно он откачивал воду вместе с другими матросами. За что капитан смягчил ему наказание. А как без плетей, коли пробрался тайком на военное судно? Но внял мольбам «прекрасной Ирис», и, хоть порку не отменил, но назначил всего пять ударов вполсилы. Больше для порядка. И, как ни странно, довольны остались почти все: капитан – из-за того, что и закон соблюл, и проявил снисходительность, Али, который, похоже, успел соскучиться по мальчишке-егозе, и уже готовил мишень для метания кинжалов, грозясь, что, как только заживут у отрока руки, так и начнётся новое обучение. Даже слегка поротый Назарка сиял, как новенький дирхем. Ведь теперь он вновь рядом с Госпожой, да ещё плывёт навстречу новой жизни… а что наказали – так справедливо же! Заслужил. Зато теперь совесть чиста.
В каморке Али оказалось достаточно места для такого «крысёныша», как теперь частенько в шутку называли его матросы. Малец готов был ночевать и на коврике у порога, но для него повесили отличный гамак: хоть и не шикарное ложе, зато спать в нём можно было в любую качку.
Всё это свалилось на Ирис разом и вдруг, а потому – некогда было подумать о том, что произошло совсем недавно, когда она, высунувшись почти наполовину из иллюминатора, пыталась докричаться до Северного Ветра. Она бы долго ещё не вспомнила о той минуте, если бы вскоре не напомнила Мэгги.
Сонные капли были хороши, доза отмерена точно, и ровно через сутки нянюшка проснулась, шустро поднялась на ноги – без всяких признаков вялости – и принялась хлопотать. Кизилка – тот, потянувшись и зевнув во всю пасть, клацнул зубами и лишь повернулся на другой бок, едва не свалившись с подушки. И продолжил почивать, как и полагается настоящему коту; а вот неугомонная ирландка, набравшись сил во время сна, и, возможно, немного стыдясь, что, уснула, оставив свою голубку одну, теперь проявляла чудеса ловкости. Помогла удобнее обустроить «спящую красавицу», как с ходу окрестила молоденькую мать, даже во сне не отпускающую ребёнка; проследила, чтобы Ирис, наконец, поела, хоть и тюрьки из сухарей, пока на камбузе не было горячей пищи; относила всё новые запасы снадобий в лазарет… Ей-то, немолодой, да ещё и прислуге, допускалось проходить мимо работающих на палубе мужчин, и не в чадре, а просто в хиджабе, главное – сохраняя скромность и глядя в пол…
Наверное, почтенный лекарь Серхат ибн Селим, был поначалу не слишком доволен вмешательством в свою работу; однако от эликсиров и мазей из кладовых «самого» Аслан-бея не отказался. Да и вдова с каждой очередной партией лекарств передавала извинения за то, что, дескать, отрывает его от забот, но во имя светлой памяти покойного супруга просила принять сии скромные дары.
А нянюшка Мэг, ничуть не устав после дневной беготни, загорелась идеей подобрать «спящей красавице» что-нибудь попроще из вещей своей голубки, да принялась разбирать сундуки. Не ходить же бедняге-француженке в тех обносках, в которых её выловили! Возможно, когда-то это бесформенное нечто, что сейчас просушивалось рядом с жаровенкой, могло сойти за вполне приличное платье; но, изодранное в клочья, уже никак не годилось для того, чтобы его носила богатая дама. А что женщина не из простого сословья – догадаться не составляло труда, по одному взгляду на маленькие белые ручки, явно не знавшие грязной работы, шёлковому чулку, единственному, оставшемуся на ножке – второй утонул вместе с обувью… А в какой превосходный камзольчик был наряжен мальчик! Башмачки-то он тоже потерял, но рубашка на нём была тонкая, батистовая, с вышивкой и кружевным воротником, пуговки позолоченные, штанишки бархатные… К счастью, досталось ему во время шторма куда меньше, чем матери: должно быть, именно её заботливые руки обвязали его поверх одежды поясом из широких пластин пробки, да и в воде малыш не цеплялся за доску, как все прочие, а был уложен, как на плотик, на вышибленную створку от двери,
Ирис разбирала сухие травы в нескольких холщовых мешочках и, устав за день, погрузилась в свои думы, а потому не сразу поняла, чем так расстроена её нянюшка. А та, перерыв основательно рундук, побледнела, и села растерянно прямо на крышку.
– Ох, голубка…
Нерешительно глянула на названую дочку.
– Да не перепрятала ли ты свой ларчик с добром? С подарками нашего эфенди? Что-то я его не вижу.