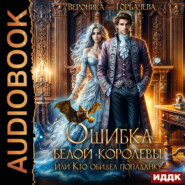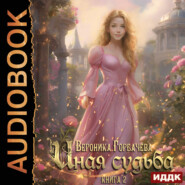По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Сороковник. Книга 1
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Всё, в тепле к утру упреет.
– Ты ж городская, – говорит Ян вроде бы невпопад. – И руки-то у тебя… Белые ручки-то, не в мозолях, к работе тяжёлой непривычны. Откуда про печь знаешь?
Это мне как похвалу понимать, что ли?
– В детстве часто у бабушки гостила, так у неё такая же печка, разве что поменьше. Вот я и научилась кое-чему.
Ян с каким-то удовлетворением кивает.
– Из нашенских ты всё-таки. Не зря Гала тебя к нам привела. – Снимает с пояса полотенце, которым подпоясывался вместо фартука, пока мыл посуду. – Раз ничего не нужно – пошёл я. Доброй ночи, Ванесса.
– И тебе доброй ночи, Ян. Спасибо.
Для него день, наконец, закончен, пора и мне в свою светлицу.
Но долго я ещё сижу на подоконнике, вглядываясь в ночь и думая горькие думы.
… А ну-ка спать, Ваня. Утро вечера мудренее.
Ладони вдруг сами собой складываются в давно забытом молитвенном жесте. Божечка, если ты здесь есть… или хотя бы слышишь… Помоги мне вернуться. Не отдавай на растерзание своему конкуренту. И не оставь без меня детей моих.
***
Просыпаюсь неожиданно и вдруг, будто кто-то тряхнул за плечо. Полная луна заглядывает в окошко и в комнате светло на удивление, я даже могу сосчитать петли на вязаном покрывале. Нора похрапывает на коврике; а я даже не помню, когда это она успела просочиться ко мне? Тяжко, душно. Потерев ноющие виски, вижу в лунном свете свои руки: бледные, с голубизной, как у какого-то умертвия. Такие же, только с побелевшими лунками ногтей, были у девочки, выпавшей из пасти раптора, и бесполезно было пытаться нащупать на них пульс.
Меня вдруг заливает волной лунного сияния, и вот уже я вся – такого же синюшного оттенка. Леденеют, как от недостатка крови, кончики пальцев и ступни. Хорошее воображение играет скверную шутку: кажется, что это у меня самой вспорота клыками грудь, прокушены лёгкие, просто я ещё не чувствую боли, но вот-вот начну захлёбываться кровью, булькать и хрипеть, как та маленькая воительница. Каково это, когда тело зажато в зубастых тисках? Когда весь мир ужался до тебя и этих челюстей? Последнее смыкание, хруст – и…
Накатившая иллюзия настолько совершенна, что я едва успеваю зажать рот руками, сдерживая крик, и глушу его в подушке. Только сейчас мне ясно, как близка Смерть. Она выжидает, она держит паузу, уверенная, что я никуда не денусь…
Я не пройду этот Сороковник. Не смогу. Спекусь при первой же опасности, даже не поняв, случайная она или квестовая, и не вернусь домой, и девочки мои останутся сиротами. Все эти уверения окружающих, подбадривание, самоуговоры – чушь, ерунда… Не пройду! Что же мне теперь делать?
Долго во мне накапливался этот плач – и, наконец, прорвался. Рыдаю до икоты и, тщетно пытаясь остановиться, прикусываю угол подушки. Встревоженная Нора скулит и пару раз гавкает.
В дверь стучат, и, не дожидаясь ответа, входят. Я спешно прячу зареванное лицо в подушку. Судя по тяжкой поступи, это Васюта. Он подсовывает мне под щеку полотенце, подсаживается рядом, приминая перину, гладит мне затылок, плечи.
– Ничего, поплачь. Не держи в себе. Мужики и то на первых порах орут, так их ломает. Плачь, легче будет.
И, словно нужно было его разрешение, я отпускаю себя. До ломоты в висках, до заложенного носа. Скоро становится легче. Высмаркиваюсь и стыдливо сую под подушку мокрое полотенце.
– Иди-ка ты умойся, – советует Васюта. – А я чайник поставлю. Посидим, поговорим. Да не прячься, что я, баб зарёванных не видел? Иди-иди…
И сам встаёт, чтобы дать мне подняться.
В ванной комнате долго умываюсь холодной водой, но чувствую, что глаза всё равно опухшие. Плевать. Кое-как приглаживаю волосы. Потом спохватываюсь, что из одежды на мне – длинная рубаха, а под ней, кроме меня, почти ничего и нет, нехорошо… Осторожно выглядываю. Пока Васюта зажигает свечу и ставит на стол у окна, успеваю мышкой шмыгнуть к себе.
Беседовать ни о чём не хочется, но оставаться одной страшно. На кухне же светло, уютно… мерцают две больших свечи, ждёт горячий чай. Не поднимая глаз, беру чашку, обжигаюсь и поспешно ставлю назад.
– Ишь, нежная какая. – Васюта не насмехается, просто констатирует. – Домашняя, мягкая. Одно слово: лапушка.
Уши мои загораются.
– Такой не броньку носить, – продолжает он, – а сарафаны да платья, да платки узорчатые, да пряниками её кормить. А ей вместо пряника – засапожник. Да ещё учить надо, как с ним работать. Страшно?
– Страшно, – признаюсь.
– Все боятся. И стыдного в этом нет. Только одни хорохорятся да на рожон лезут; так тем сразу рога отшибают. А видел я новичков вроде тебя… – Вертит чашку, что в его лапищах смотрится напёрстком. – Баб, правда, не было. Но вьюноши встречались, да и мужи твоих лет, сами хлипкие на вид, пальцем ткнёшь – уже помирают. Ну, думаешь, повезёт такому, если быстро отмучается…
– И что?
– И то. Кого-то… – Выразительно чиркает большим пальцем по горлу. – А другой, глядишь, и выжил. И откуда чего берётся! Испугается своего зверя так, что взбрыкнёт, наподдаст тому по печени – и жив! Трясётся, а сам гордый, трофеи подбирает… Так что, лапушка, бояться можно. Главное при этом головы не терять.
Я молчу.
– Смотрю на тебя и думаю, что ты как раз из тех, слабеньких, да удаленьких. Вроде и вежлива, и терпелива, а стержень в тебе есть. Давеча ведь могла спокойно в дому отсидеться, так нет, за мной побежала, за парня новенького просить. Семеро мужиков во дворе собрались, небось, как-нибудь управились бы. Почему не пряталась?
Опускаю глаза.
– Я ведь неспроста тебе показал, как отрок «уходит». Ты этот миг помни, даже если совсем худо станет. Помирать плохо, но если уж и придётся – сразу домой перенесёшься.
– Домой… А как же Финал? – спохватываюсь. – В Финале уж… навсегда.
Не могу сказать «погибну».
– А до Финала ты, Ванечка, совсем другой дойдёшь, – спокойно говорит Васюта. – Ты ведь и так уже другая. Мудрее. Стойчее. С каждым квестом человек мужает.
Я… как-то не чувствую себя другой. Вздыхаю. Делаю глоток – и чай растекается огнём по жилам, изгоняя остатки ночного кошмара.
– У тебя в семье воевал кто-нибудь? – неожиданно спрашивает Васюта.
– Деды
– Оба живые пришли?
– Оба. Правда, один без руки, другой без лёгкого, но вернулись
– Видишь, вернулись. Рассказывала Гала о вашей страшной войне, помню. Думаешь, там твоим дедам легче было? И не сорок дней, а четыре долгих года?
Задумавшись, я отставляю чашку.
«…Самое страшное, что я видел в жизни – чёрное солнце над Днепром. Два дня чёрное от порохового дыма солнце, и два дня наш Днепр тёк горячей кровью», – вспоминал один дед Павел, мамин отец.
«…И вот волочёт меня эта медсестра-пигалица, меня, мужика весом под центнер, да с автоматом, да со скаткой, а у меня рука за землю цепляется и висит на одних сухожилиях, мешает тащить. Так она эту руку зубами отгрызла, потому как нож-то потеряла. Всё равно в госпитале отрезали бы…» – рассказывал как-то второй дед Павел, папин отец.
Люди четыре года ходили под смертью, в глаза ей глядели и – переглядели. Им было куда хуже, чем мне. Четыре года. У меня – всего лишь Сороковник. Фигня какая.
– Молодец, – говорит Васюта и, перегнувшись через стол, осторожно пожимает мне свободную руку. – Думай. Всегда помни, чьих ты корней, и предков своих не позорь. Всегда иди до конца, до точки.
– Ох, – нервно вцепляюсь в волосы. – Васюта, я вот ещё что спрошу. Ты почему сейчас так быстро появился? Не подумай, что я на что-то намекаю, но ты будто дежурил за дверью с этим полотенцем, дожидался…