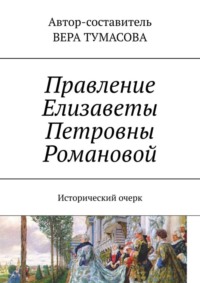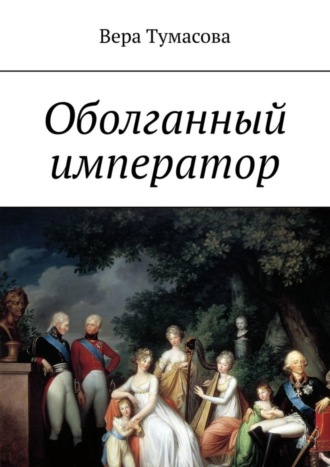
Оболганный император
С самого детства он не знал родительской любви и ласки, не был изнеженным, оставался одиноким и замкнутым, и потому легко влюблялся в людей. Любознательный и смышленый холерик был очень непоседлив, чем вызывал постоянное недовольство своих воспитателей и обслуги. Павел вставал уже в пять часов утра, и камердинеры были вынуждены одевать его в то время, когда все ещё спали. О торопился есть, гулять, дочитать книгу и лечь спать, чтобы снова рано встать. Несмотря на то, что еду ему подавали по расписанию, воспитатели не смогли перебороть его постоянное нетерпение. Порошин упоминал о болезненном переживании при малейших отклонениях от дневного расписания. В записках Порошина от 7 декабря 1764 года можно прочесть: «У Его Высочества ужасная привычка, чтоб спешить во всем: спешить вставать, спешить кушать, спешить опочивать ложиться…». 34).
Шильдер писал о нежном обращении Екатерины с сыном, который был возле неё на больших и на малых собраниях при дворе, сопровождая её на прогулках, манёврах и охоте. Она радовалась его успехам на экзаменах и говорила ему, что, «когда его высочество возмужаетъ, то она изволитъ тогда по утрамъ призывать его къ себе для слушания делъ, дабы къ тому привыкнуть». 44). У него постоянно бывали самые приближённые лица (Орловы, Чернышевы), оказывая ему почтительное внимание. К его столу приглашались известные люди, иностранцы, губернаторы, генералы. Тогда ещё Екатерина, отметил Шильдер, старалась подготовить достойного преемника. Порошин наблюдал у Павла холодность и недоверчивость к матери, скуку и нетерпение в её присутствии. Он даже ему сказал, что «при самых наилучшихъ намеренияхъ, вы заставите себя ненавидеть». 44).
Порошин рано заметил у Павла пунктуальность, математический склад ума – логичность, точность суждений, обусловленность умозаключений. Он всё старался «разложить по полочкам», объяснить, сформулировать задания и установить правила. И позднее всегда стремился, во что быто ни стало добиваться результатов. Отсюда его стремление преобразовывать страну через распоряжения и указы на основе законодательного регулирования всех укладов в Империи. Порошин написал в своём дневнике: «В учении – особенно в математике – он делает успехи, несмотря на рассеянность… Если бы Его Высочество человек был партикулярный (частный) и мог совсем предаться одному только математическому учению, то бы по остроте своей весьма удобно быть мог нашим российским Паскалем. … когда его высочество не ленится, то проводимые с ним часы в учении приносят истинное наслаждение». 34).
Порошин отмечал в «Записках», что, по большей части, Павел Петрович учился с большим желанием, но когда на Пасху, наследника на неделю освободили от занятий, то «радость была превеликая». 34). Это характерно для детей всех поколений. «Мальчик с удовольствием играл на бильярде, в воланы и шахматы, ставил опыты с электричеством, «забавлялся» у токарного станка. А после Пасхи в 1765 года «попрыгивал и яйцами бился и катал в спальне»». 34). Большую часть времени цесаревич проводил в Зимнем дворце, наблюдая жизнь из окон или с балкона, любил прогуливаться вокруг дворца. Павел, как любой ребёнок, был легко внушаем, но до конца жизни сохранил способность признавать свои ошибки. В частности, воспитателям Павла удалось-таки преодолеть в Павле сложившееся из-за негативных отзывов окружения отрицательное мнение к Ломоносову68. Порошин прочёл Павлу похвальные слова Ломоносова: «Ты едина истинная наследница, Ты Дщерь моего Просветителя». «И как я оное выговорил, – написал Порошин, – то Его Высочество, смеючись, изволил сказать: – «Это, конечно, уже из сочинениев дурака Ломоносова». Хотя он сие и шутя изволил сказать, однако же говорил я ему на то: «Желательно, Милостивой Государь, чтобы много таких дураков у нас было. … Вы Великой Князь Российской. Надобно вам быть и покровителем Муз российских. Какое для молодых учащихся Россиян будет ободрение, когда они приметят или услышат, что уже человек таких великих дарований, как Ломоносов, пренебрегается?» Его Высочество, выслушавши, изволил говорить, что это, конечно, справедливо и что он пошутил только». 34). 5 апреля 1765 года Порошин рассказал Цесаревичу о смерти Ломоносова. На что он ответил: «Что о дураке жалеть, казну только разорял и ничего не сделал». Приехавший Платон сожалел о Ломоносове, «возбуждая к тому и Великого Князя…». 34)., а уже 20 октября 1765 года «… Читал я Государю Цесаревичу наизусть последние строфы в пятой оде покойного Ломоносова. Очень внимательно изволил Его Высочество слушать и сказать мне: – «Ужасть как хорошо! Это наш Волтер61». 34).
Порошин замечал также и неправильные поступки ребёнка. Например, его сердило, если в партере публика начинала аплодировать раньше его и более многократно. 28 февраля 1765 года Павел рассердился на тафельдекера (подавальщика), за то, что на столе не оказалось масла и сыра. Он решил, что продуктов не было оттого, что их воруют слуги для себя. Или его мог рассердить отказ в каком-либо блюде за столом. После каждого недостойного поступка его выводили из-за стола, объясняли наедине непристойность его поступка и оставляли с дежурным кавалером, не обращая внимания на его слёзы и негодование. Порошин писал, что после подобных неприятностей мальчик раскаивался в своих поступках и уверял его, что впредь постарается их не совершать, но ему это плохо удавалось. Воспитатели Павла так и не смогли преодолеть нетерпение Павла к отказам в исполнении неблагоразумных его желаний.
Отметил Порошин и такой недостаток, как некоторое пренебрежение к близкому окружению, например, к Куракину66, которое не всегда пресекалось воспитателями, хотя по требованию Екатерины II, наследника воспитывали в строгости. 31).
В воспитательном процессе великого князя Екатерина II предусмотрела кроме чтения и трудовое воспитание. В покоях наследника был установлен токарный станок. Традиция обучения царских отпрысков работе на токарном станке с большим или меньшим успехом реализовывалась вплоть до Александра III69. Стандартный режим для наследника в стенах Зимнего дворца включал в себя подъем в шесть часов утра, туалет, завтрак и занятия до часу дня. Потом следовали обед, небольшой отдых и снова занятия. Этот режим часто нарушался обязательными представительскими обязанностями в вечерние часы и болезнями.
Апартаменты матери и сына располагались в разных концах Зимнего дворца, но, как правило, вечером, цесаревич приходил на половину матери. В комнатах императрицы он играл в различные игры, шалил с молодыми фрейлинами. Павел посещал придворные спектакли, и даже сам иногда выступал на сцене придворного театра в юго-западном ризалите Зимнего дворца.
Порошин отметил, что, находясь в окружении взрослых Павел Петрович очень серьезно относился ко всем своим обязанностям. Вольно или невольно в кругу Павла нередко возникали разговоры об обыденной жизни народа за стенами Зимнего дворца, о жизни наших крестьян, об их увеселениях и разных обрядах, какие мальчик с интересом поддерживал. 9 декабря 1764 года взрослые рассуждали о добродушии и основательности нашего народа и что от него можно добиться всего, чего пожелаешь. На что Павел сказал: «А что ж, разве это худо, что наш народ таков, каким хочешь, чтоб был он? В этом мне кажется худобы еще нет. Поэтому и стало, что все от тово только зависит, чтоб те хороши были, коим хотетъ-та надобно, чтоб он был таков или инаков. … Главное, чтоб были хороши те, кто желает им управлять». 34).
Он жадно улавливал и то, что для его ушей не предназначалось, когда за столом возникал приватный обмен мнениями, самого Павла отсылали из-за стола. По этому поводу Порошин записал 9 октября 1764 года. «Часто случается, что Великий князь, стоя в углу, чем-нибудь своим упражнён и, кажется, совсем не слушает, что в другом углу говорят: со всем тем бывает, что недели через три и более, когда к речи придёт, окажется, что он всё то слышал, в чём тогда казалось, что никакого не принимал участия… Все разговоры, кои он слышит, мало-помалу, и ему самому нечувствительно, в основание собственных его рассуждений входят, что неоднократно мною примечено». 34).
Если в раннем детстве Павел Петрович сторонился людей, испытывая страх перед незнакомцами, то к десяти годам, ему стали интересны люди особенно те, о которых он слышал за столом. Никита Панин38 часто приглашал за стол к Цесаревичу сановников и известных в Петербурге лиц. Эти обеды отличались интересными беседами, хорошей кухней и изысканными заграничными винами. Там много судачили о разном, и эти разговоры жадно впитывал юный Павел, особенно, если разговор касался воинской службы и ношения военной формы.
Панину не нравилась его склонность к военной науке, но Павел продолжал грезить о военном поприще. Порошин41 написал: «Давно уже давно, т. е. в 1762 году, представлялося ему, что двести человек дворян набрано, кои все служили на конях. В сем корпусе был он в воображении своем сперва ефрейт-капралом, потом вахмистром (унтер-офицер (общее название старших солдатских званий (капрал, вахмистр, фельдфебель, урядник) в кавалерии)) … Из оного корпуса сделался пехотной корпус в шестистах, потом в семистах человеках. В оном Его Высочество был будто прапорщик (младший офицерский чин (14-го класса) по Табели о рангах)). Сей корпус превратился в целой полк дворян, из 1200 состоящий. Его Высочество (форма обращения к детям, внукам царствующей особы – великим князьям и княгиням) был порутчиком и на ординации (должность посыльного (ординарца, адъютанта) при командире) у генерала кн. Александра Голицына70. Отселе попал он в гвардию в Измайловский полк в сержанты и был при турецком посланнике. Потом очутился в сухопутном кадетском корпусе кадетом. Оттуда выпущен в Новгородский карабинерной полк порутчиком; теперь в том же полку ротмистром (кавалерийский чин 9-го класса по Табели о рангах (то же, что капитан в пехоте)). Таким образом, Его Высочество, в воображении своем, переходя из состояния в состояние, отправляет разные должности и тем в праздное время себя иногда забавляет». 34).
Песков отмечает, ссылаясь на Порошина, что граф Панин38 был занят и министерскими делами, и был склонен к гуляниям, а Императрица никогда сама не занималась сыном. «Однако, присутствующие на обедах Цесаревича, графы Захар71 и Иван72 Григорьевичи Чернышёвы, его превосходительство (форма обращения к чиновным особам 5-го класса) Пётр Иванович Панин73, вице-канцлер князь Александр Михайлович Голицын70, Михаил Михайлович Философов74, сенатор Александр Фёдорович Талызин ((1734 – 1787) участник переворота 1762 г.) и князь Петр Васильевич Хованский75 часто говорили о военной силе Российского государства, о методах ведения войны, о последней прусской войне и о бывшей в то время экспедиции на Берлин, под предводительством графа Захара Григорьевича. Все разговоры были наполнены его основательными рассуждениями, пусть и с насмешкой, о точности покойного прусского короля в отправлении военной службы, о большом повиновении и подобострастии немцев. Однако многие находили в прусских порядках „примеръ для подражания его высочеству“. „Все оные разговоры такого роду были, и столь основательными наполнены рассуждениями, что я внутренне несказанно радовался, что в присутствии Его Высочества из уст российских, на языке российском, текло остроумие и обширное знание“». 34).
Порошин41 обрисовал особенный, созданный воображением цесаревича военный мир и отмечал, что 27 июля 1765 года прислал Захар Григорьевич Чернышёв к Его Высочеству книжку «Описание и изображение всех здешних мундиров», которую тот много раз перечитывал. Павел долго готовился к роли преобразователя, призванного поддержать расшатанное, по его мнению, правительственное здание. Шильдер19 относил это явление к наследственному дару, перешедшему от отца к сыну. По замечанию законоучителя цесаревича, Платона63, «великий князь был особо склонен к военной науке». 44).
За обеденным столом у Павла часто были, кроме графа Захара Григорьевича Чернышева, тайный советник граф Миних76 и Иван Перфильевич Елагин77, где возникали разговоры о военных действиях русской армии. Порошин отмечал, что рассказы собеседников слишком влияют на формирование интереса мальчика к военному делу. Он полагал излишним для государя вникать «в офицерские мелкости», а «надобно влагать в мысли его такие сведения, кои составляют великого полководца, а не исправного капитана или прапорщика (младший офицерский чин (14-го класса) по Табели о рангах)». 31). И всё это несмотря на то, что ни Екатерина, ни Никита Панин38 не приветствовали пристрастие Цесаревича к военным наукам, у которого была неудержимая природная страсть к военной службе и с возрастом стала проявляться всё сильнее.
Напротив, Пётр Иванович Панин73, который постоянно посещал великого князя до отъезда в армию в 1769 году, старался развить военные наклонности в наследнике. Он критически относился к современным военным порядкам Императрицы Екатерины, что не прошло для цесаревича без последствий, но Никита Иванович38 не считал нужным, пресекать влияние брата на наследника престола.
Неизгладимые впечатления на Цесаревича произвела лагерная жизнь при красносельских манёврах, состоявшихся в июне 1765 года и в которых принимал участие цесаревич в качестве полковника Кирасирского полка (тяжелая кавалерия: на голове каски, на корпусе тела – кираса (две металлические пластины на груди и спине). В последующие годы Павел Петрович получил хорошую военную подготовку. В 1772 года в 18 лет, он начал исполнять обязанности генерал-адмирала (флотский чин 1-го класса по Табели о рангах) и фактически командовал Кирасирским полком, полковником которого являлся с 1762 года.
Интерес Павла I к военному делу передался по наследству вплоть до Николая II78.
Порошин41 отмечал, что его воспитывали «на французский манер», и взрослые не стеснялись обсуждать в его присутствии собственные любовные приключения и совершенно справедливо считал это недопустимым. Он упоминал, что Павел Петрович влюбился во фрейлину Екатерины II Веру Николаевну Чоглокову79, которая была лишь двумя годами старше. Задавал мальчик вопросы и о недавнем прошлом. Иногда речь заходила о жестоких и страшных временах при государе Петре Великом, о его отце – императоре Петре III Федоровиче. Зашла речь и о Тайной канцелярии. 8 октября 1764 года Павел, посмотрев указ из адмиралтейской коллегии, бросил его Порошину, на что тот, шутя, сказал ему, что в старину за это «слово и дело»80 крикивали. На вопрос Павла, что это такое? Порошин, не входя в подробности, рассказал ученику, что от Тайной Канцелярии пострадало много людей. На что Великий Князь спросил: «Где же теперь эта Тайная Канцелярия?», а Порошин ответил, что отменена она Государем Петром Третьим. Павел сказал: – «Так поэтому покойный Государь очень хорошее дело сделал, что отменил ее». 34).
Для взрослеющего мальчика история гибели его отца, шёпотом рассказанная ему «доброжелателями», не могла не стать для него душевной травмой и не испортить отношения между матерью и сыном. Неудивительно, что, не имея друзей, и с детства понимая, что его окружают преимущественно чужие люди, которые не желают ему добра, Павел Петрович научился скрывать свои мысли и жить в своём, закрытом от посторонних, мире.
Мальтийский орден, о котором десятилетний мальчик впервые услышал 28 февраля 1765 года от Порошина, послужил, считал Шильдер19, предметом игры для воображения будущего великого магистра. Порошин читал будущему императору Вертотову Историю об Ордене Мальтийских кавалеров. «Изволил он, потом забавляться и, привязав к кавалерии своей флаг адмиральской, представлять себя кавалером Мальтийским». 34). Увлечение привело его не только к тому, что император стал гроссмейстером Мальтийского ордена, но и к личной встрече с папой Римским. 31).
Порошин писал, что необходимость присутствия мальчика на длинных и скучных званых приёмах в присутствии иностранных дипломатов у Императрицы вынуждала его реагировать чисто по-детски. Он начинал плакать или жаловаться на боль в животе, чтобы «поскорее улизнуть из-за стола, что вызывало гнев императрицы и внушений Панина38, требуя от того „соблюдения приличий“» 34). Павел плакал, давал обещания, но подобные эпизоды повторялись вновь.
С 13 июля 1765 года Павла начали учить геометрии. По воскресеньям Его Высочество уже принимал рапорты от морских господ флагманов.
Шильдер19 утверждал, что Павел был воспитан в общественной и умственной среде, пусть и не по возрасту, но в среде, «способной развить его умъ, просветить его душу и дать ему серьёзное, практическое и вполне национальное направление, знакомившей его съ лучшими людьми страны, ставившей въ соприкосновение со всеми дарованиями и выдающимися талантами эпохи, – однимъ словом, в среде, способной привязать его ко всемъ нравственным силамъ страны, въ которой онъ будетъ некогда государемъ». 44).
Соловьёв Сергей Михайлович ((1820 – 1879) – русский историк) обратил внимание на то, что с самого начала своего царствования Екатерина начала государственные преобразования с Сената, но «виднейший ее советник Н. И. Панин38, один из умнейших людей той эпохи, подал императрице обстоятельно мотивированный проект учреждений императорского совета (1762 года), в котором, доказывая несовершенства прежнего управления, допускавшего широкое влияние фаворитизма на дела, настаивал на учреждении „верховного места“, совета из немногих лиц с законодательными функциями». 41). Он предлагал изменить функции существующего Верховного тайного совета (орган государственного управления из нескольких наиболее влиятельных персон при Екатерине I и Петре II (1726—30)) и Кабинета. Екатерина даже подписала поданный ей проект, но стала колебаться, и собрала мнения государственных людей о нём. Ей даже высказали (Вильбуа), отметил Соловьёв, что Панин38 «тонким образом склоняется более к аристократическому правлению; обязательный и государственным законом, установленный императорский совет (при Екатерине II и Павле I собрание главных должностных лиц государства, созываемое для регулярных совещаний; персональный состав совета назначался царствующей особой) и влиятельные его члены могут с течением времени подняться до значения соправителей». Екатерине указали, что предлагаемая административная реформа может превратить Россию из самодержавной монархии в монархию, управляемую олигархическим советом чиновной аристократии. Екатерина надорвала проект, а Панин не сумел внедрить в Россию знакомые ему формы шведского управления.
В различных источниках отмечено, что для изучения положение дел, Екатерина предприняла ряд поездок по государству: в 1763 году ездила из Москвы в Ростов и Ярославль, а 20 июня 1764 года государыня выехала из Петербурга в Ревель и Ригу, а на время её отсутствия цесаревич с Паниным поселились в Царском Селе. «После Петра Великого Екатерина была первая государыня, которая предпринимала путешествия по России с правительственными целями». 41).
Ещё до отъезда императрицы в Петербурге стали распространяться слухи о какой-то ожидаемой катастрофе, и появились подметные письма с упоминанием Шлиссельбурга. Екатерина узнала о разыгравшейся в ночь с 4 на 5 июля Шлиссельбургской трагедии 9 июля в Риге от курьера, присланного Паниным. Общеизвестно о бунте подпоручика Смоленского пехотного полка Мировича42, решившего освободить содержавшегося в крепости «безъименнаго колодника81». Во время бунта Власьев и Чекин закололи своего узника, в точности исполнив инструкцию Екатерины, заранее предусмотревшей такую возможность. Ворвавшийся в каземат Мирович увидел бездыханный труп бывшего императора Иоанна VI81. Так кровавая развязка завершила беззаконие 1741 года. Екатерина посетила 13 июля Митаву, где царствовал в то время поставленный ей герцог Бирон82, и только 25 июля возвратилась в Петербург, чем в очередной раз показала свойственную ей силу духа и самообладание.
Порошин41 мельком рассказал о поручике (военный чин 11-го класса по Табели о рангах) Смоленского пехотного полка Василии Яковлевиче Мировиче Павлу, а Никита Панин с присущей ему «французской лёгкостью», лично знавший Мировича, дополнил происшествие своим рассказом. У Порошина по этому поводу записано; «Его превосходительство (форма обращения к чиновным особам 5-го класса) Никита Иванович изволил сказывать о смешных и нелепых обещаниях, какие оный Мирович делал Святым Угодникам, если намерение его кончится удачно». 34). Все много смеялись, кроме Павла. Эти ужасы производили на него гнетущее впечатление, а после таких рассказов он плохо спал и иногда кричал во сне.
К 12—13 годам Павел Петрович уже свободно владел французским и немецким языками; чуть позже – польским. Пристрастившись к чтению в юношеские годы, Павел к своему совершеннолетию знал не только сочинения Сумарокова83, Ломоносова68, Державина84, но и европейских авторов: Расина85, Корнеля86, Мольера87. Особенно его увлек огромный роман испанца Сервантеса58 «Дон-Кихот», который долго был его любимой книгой. Конечно, ему и в голову не могло прийти, что некоторые из потомков именно его будут называть «русским Дон-Кихотом». 4).
Государыня решила реформировать страну через пересмотр, упорядочение и обновление существующего законодательства. Для этой цели Екатерина создала знаменитую «Комиссию для сочинения проекта нового Уложения»88.
Комиссия должна была провести подготовительную редакционную работу, а к «слушанию» составляемого кодекса призывались земские люди, нуждам которых должны были удовлетворить новые законы, а не европейские мечты.
Не доверяя чиновничеству, выросшему на старых законах и знающему лишь правительственную практику, Екатерина сама решила установить принципы будущего кодекса.
Шильдер писал, что с 1765 года она работала над изложением законодательных принципов, не говоря никому о содержании своего труда. «Два года я читала и писала, не говоря о том полтора года ни слова, – сообщала сама императрица. – Предуспев, по мнению моему, довольно в сей работе, я начала казать по частям статьи, мною заготовленныя, людям разным, всякому по его способностям». 44). Она использовала известные сочинение итальянца Беккариа89 «О преступлениях и наказаниях», Монтескье53 «Дух законов», установив свои принципы нового русского законодательства, заимствовав их в современной ей европейской литературе. Её работа стала известным Наказом90 в его первоначальной редакции. Содержание Наказа было в высшей степени либеральным и не соответствовало национальному быту. Продолжив после Петра Великого введение европейских обычаев, Екатерина решила внести в русские законы общеевропейские начала.
Она находила самодержавие единственно возможной для России формой власти, мотивируя обширностью страны, поскольку народу трудно повиноваться многим господам. По её мнению, древняя Россия жила с чуждыми нравами и их следует переделать на европейский лад, потому что Россия – страна европейская. Наказ90 возбудил массу возражений со стороны приближенных лиц, что заставило её зачеркнуть, разорвать и сжечь «больше половины» написанного. Шильдер отметил, что перед изданием Екатерина отдала сокращенную редакцию Наказа в Коломенское, и позволила «вельми разномыслящим» людям «чернить и вымарать все, что хотели». 44). По словам Екатерины, напечатано было менее четверти того, что она составила.
Из сохранившихся рукописей императрицы, писал Платонов91, можно увидеть, что возражения избранных ею цензоров направлены были против либеральных утверждений и того, что не соответствовало русским нравам.
В первые годы своего правления Екатерина проявляла некоторую уступчивость в силу высокой степени зависимости императрицы от окружающей её придворной среды, тем более, что её личные мнения сильно отличались от официальных высказываний. Екатерина, воспитавшаяся на освободительных теориях XVIII века, не сочувствовала крепостному праву и мечтала об освобождении крестьян. По словам Платонова, в её личных бумагах были найдены проекты постепенного уничтожения крепостной зависимости через освобождение крестьян в отдельных имениях при их купле-продаже, но она изменила своё мнение из-за консервативных взглядов своих советников. В результате, крепостное право достигло апогея своего развития именно в царствование Екатерины.
Платонов отметил содержание напечатанного Наказа, содержавшего 20 глав (две главы: 21 и 22 – о полиции и о государственном хозяйстве, Екатерина приписала к Наказу уже в 1768 году) и более 500 параграфов, или кратких статей. Содержание их касалось всех главнейших вопросов законодательства. Кроме общих рассуждений об особенностях России как государства, и о русском государственном правлении в частности, обсуждалось положение сословий, задачи законодательства, вопрос о преступлениях и наказаниях, судопроизводство, предметы гражданского права, целый ряд вопросов государственной жизни и политики, включая рассуждение о признаках разрушения государства. Наказ довольно полно охватывал сферу тех вопросов, какие представляются законодателю, но он только наметил их, трактуя их отвлеченно и не мог служить практическим руководством для законодателя.