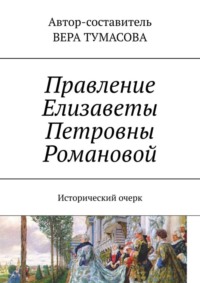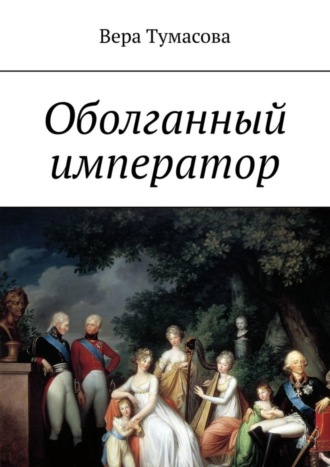
Оболганный император
Хотя в Берлине Павел Петрович обратил на себя общее внимание своей вежливостью, но Фридрих II37 привёл мнение опытных людей о характере великого князя. Он показался им гордым и высокомерным, что заставило тех, которые знали Россию, опасаться, что он не без труда удержится на престоле, будучи призванным, управлять народом избалованным мягким управлением нескольких женщин. Эти черты характера Павла Петровича, замеченные Фридрихом, проявились во время его пребывания в Риге, где, по его словам, он нашёл в военном ведомстве страшные беспорядки, которые, рано или поздно, привели бы к весьма дурным последствиям и о которых он тогда же донёс Екатерине. Объясняя это, Цесаревич откровенно говорил, что «если бы мне надобно было образовать себе политическую партию, я могъ бы умолчать о подобныхъ безпорядкахъ, чтобы пощадить известныхъ лицъ; но будучи темъ, что я есмь, для меня не существуетъ ни партий, ни интересовъ, кроме интересовъ государства, а при моемъ характере, мне тяжело видеть, что дела идутъ вкривь и вкось, и что причиною тому небрежность и личные виды. Я желаю лучше быть ненавидимымъ за правое дело, чемъ любимымъ за дело неправое». 21).
Боханов отмечает, что Фридрих Великий почти за две недели постоянного общения неплохо изучил Цесаревича. Он напоминал ему Императора Петра III. Позднее высказал предчувствие, ставшее пророчеством. «Мы не можем обойти молчанием суждение, высказанное знатоками относительно характера этого молодого принца. Он показался гордым, высокомерным и резким, что заставило тех, которые знают Россию, опасаться, чтобы ему не было трудно удержаться на престоле, на котором, будучи призван управлять народом грубым и диким, избалованным к тому же мягким управлением нескольких императриц, он может подвергнуться участи, одинаковой с участью его несчастного отца». 4).
Фридриху, будучи тонким дипломатом, было нетрудно убедить молодого Павла в том, что его единственным искренним желанием являются союзнические отношения с Россией, но для этого необходимо разрушить союз России с Австрией. Цесаревич пришёл в восторг от Фридриха и прусских порядков, которые позднее внедрил в своих поместьях, а после его смерти он заключил дружеский клятвенный союз с наследником Фридриха.
Александр, унаследовавший пропрусские симпатии, в отличие от отца, у которого старая клятва не сказывалась на внешней политике России, превратил свои симпатии в ориентир для политики России. С 1805 года, когда на могиле Фридриха Великого в Потсдаме Александр I и Фридрих-Вильгельм III137 поклялись в вечной дружбе, русская внешняя политика строилась с учётом интересов Пруссии.
Для Екатерины II Австрия была союзником, но она беспокоилась по поводу мнения Павла. В письме Цесаревичу она указала, что «заимствуя у других, не всегда сходственно пользе своей поступаем». Визит Павла Петровича в Берлин, благодаря оказанному ему приёму, убедил его в своём царственном будущем, несмотря на дискредитацию его в России. София Доротея130 с родителями остались в Рейнсберге до 1 августа, куда скоро вернулся и хозяин, очарованный своей внучкой и довольный результатом своих забот. Его отношение к Софии Доротее было полно нежности; она обязана была ему положением, которое льстило его воображению и, казалось, обещало ей счастливую супружескую жизнь. Её уже публично встречали как невесту великого князя. Камергер Рекке назначен был состоять при ней, и проводить её до Митавы. Вечером 1 августа, вместе с родителями, принцом Фердинандом и его женой, она приехала она в замок Шведт, где жил тогда последний представитель этого рода, её дед маркграф бранденбург-шведский Фридрих Генрих, который выказал свою радость свидания с родственниками и блестящей будущностью, ожидавшей принцессу.
В Мемеле, 17 августа, их уже ожидала графиня Румянцева и русский посланник в Митаве Смолин, которому было поручено проводить невесту до Риги. Здесь родители принцессы расстались с дочерью.
Герцог курляндский послал в Мемель, для встречи виртембергского семейства, фон Мирбаха и Клопмана, а сам выехал навстречу Софии Доротеи в Доблен, чтобы представиться ей и затем вернулся в Митаву, дабы торжественно встретить её у ворот своей столицы. На верху парадной лестницы герцогского замка, София Доротея была принята вдовствующей герцогиней, верной подругой Бирона82, делившей с мужем и радости и горе его бурной жизни. Екатерина пригласила герцогиню прибыть в Петербург на бракосочетание Павла Петровича. Она послала будущей невестке в Мемель бывшего суб-информатора при Павле Петровиче, Пастухова, который служил ей переводчиком и должен был начать с ней в дороге занятия русским языком, так как ещё в Берлине она выучила русскую азбуку, и вероисповедание.
Павел Петрович, излучавший радость, выехал навстречу своей невесте в Ямбург и 31 августа 1776 года они вместе прибыли в Царское Село.
Перед свадьбой сына Екатерина оплатила все долги покойной невестки113: «О заплате по шести счетам долгов по комнатам Его Императорского Высочества и покойной великой княгини 200 250 р. 36 к. и 400 червонных» (1 мая 1776 г.)». 31). Также она распорядилась о ремонте апартаментов сына в Зимнем дворце: «Об отпуске на позолоту столовой Его Высочества. 1746 р.» (16 августа 1776 г.). 31).
Павел Петрович возвратился из Берлина пруссофилом, с опорой на дружбу Фридриха II37 и поддержкой невесты. Екатерина проигнорировала их настроение. Невеста с первой встречи понравилась Екатерине. Поскольку очень спешили с бракосочетанием, уже 2 сентября архиепископ Платон62 начал преподавание Софии Доротеи130 православного закона, 8 сентября, во время обедни, он объяснял ей, по-французски, значение литургии, 14 сентября совершили миропомазание, на котором София Доротея была наречена Марией Фёдоровной, 15 провели обручение, а 26 сентября 1776 года торжественно, с обычной роскошью, была отпразднована свадьба, в присутствии герцогини курляндской и всего двора, очарованного миловидностью и любезностью новой великой княгини. О свадьбе оповестили некоторые иностранные дворы. Все были довольны и счастливы.
Великая княгиня Мария Фёдоровна прибыла в Петербург в самую блестящую эпоху царствования Екатерины (конец 1776 года). Первый раздел Польши103 и первая война с Турцией124 высоко подняли значение России в Европе. Имя Императрицы, покровительницы философии, науки и искусства, не сходило с языка Вольтера60 и его литературных друзей, господствовавших тогда в области умственного движения. По усмирению пугачевского мятежа119 Екатерина вновь обратилась к законодательной деятельности и делам внутреннего управления. Но была и тёмная сторона – фаворитизм, возведенный почти в государственное учреждение в пользу лиц, близость которых к Императрице составляла как бы должность. Иностранные посланники доносили своим государям о распущенности нравов и беспорядке при русском дворе, которые с годами делались более сильными, и что добрые качества Екатерины были преувеличены, а недостатки – умаляемы. 21).
26 сентября 1776 года их высочества были обвенчаны. У Павла началась вторая семейная жизнь. Принцесса Вюртембергская сразу влюбилась в своего будущего мужа. Она коренным образом отличалась от порывистой и самовольной Натальи Алексеевны113. Новая великая княгиня имела мягкие черты лица, плавность движений, скромность, умеренность, тихость, аккуратность, сентиментальность, верность мужу, семье и престолу, простоту помыслов и обыкновенность женских интересов к устройству домашнего быта. «Ах, Ланель! – писала она своей вюртембергской наперснице – баронессе Оберкирх136 на третьем месяце супружества. – Как я рада, что ты не знаешь моего прелестнейшего из мужей. Ты влюбилась бы в него, а я бы ревновала моего ангела, моего бесценного супруга. Я без ума от него». 31). Французский посланник в Петербурге Корберон сообщал своему правительству: «Ее ум и характер не соответствуют ее сану. Тесный круг ее понятий всегда будет удерживать ее в пределах домашнего очага. Вюртембергская принцесса, великая княгиня, даже если она будет императрицей, все равно останется не более чем женщиной». 31).
Песков9 отмечает, что она проживет долгую и равномерную жизнь, став для своих подданных образцом кротости, невмешательства, чадородия и оставив нам дворцово-парковый ансамбль, названный в честь мужа Павловском, где всё в Павловске носит на себе печать томной женственности Марии Фёдоровны. 31).
Валишевский24, как это ему свойственно, в бочку мёда обязательно добавит ложку дёгтя. Он писал, что несмотря на то, что «… из нее обещала выйти прекрасная жена и безупречная принцесса: при ее основательном образовании, разнообразных талантах и прочих добродетелях у нее было только несколько маленьких недостатков», 7). часть из которых, были вывезены ею ещё из дома и сохранились в России, а другие были благоприобретённые. «… она была до того бережлива, что, если верить Корберону, не колеблясь присвоила себе все старые платья, оставшиеся от первой жены Павла, и не стеснялась требовать у камеристок даже башмаки покойной». 7). При всём притом, «… она любила до страсти пышность, внешний блеск, церемониальные празднества и торжества, но также и мелкие придворные интриги». 7). Корберон предполагал, что она «… в качестве великой княгини или императрицы, будет только женщиной и ничем больше». 7). Валишевский считал, что Корберон ошибся: «В известной мере, – насколько ей это позволял ее ум, бесспорно не большой, – вторая София имела притязания на более видную роль. Во-первых, и прежде всего, она старалась быть на высоте своего положения, не зная в этом отношении ни минуты отдыха. Она с утра до вечера была затянута в парадное, церемониальное платье, принуждая к тому же всех своих приближенных: она не забывала об этом требовании по отношению к себе и другим даже при самых интимных подробностях своей домашней жизни». 7). «То, что утомляет других женщин, – писал Головкин157, – ей нипочем. Даже во время беременности она не снимает с себя парадного платья, и между обедом и балом, когда другие женщины надевают капот, она, неизменно затянутая в корсет, занимается перепиской, вышиванием и иногда работает даже с медальером Лампрехтом»». 9).
Современники самым восторженным образом отзывались о высоконравственной жизни молодой Великокняжеской Четы.
«Великая княгиня Мария Феодоровна», – писал Шильдер19, – «вообще – то не вмешивалась в политику, если это не касалось её братьев и сестер. Она простирала свою заботливость и на Пруссию с высоко чтимым и любимым ею своим благодетелем Фридрихом II37. Она не упускала случая воспользоваться своим влиянием на цесаревича, если Пруссии грозило с чьей-либо стороны недоброжелательное отношение. Впрочем, в этом вопросе между супругами царило полное единомыслие. Так летом 1777 года шведский король Густав III138 будучи в Петербурге, попробовал восстановить Павла Петровича против Фридриха Великого и его политики и встретил со стороны цесаревича резкий отпор». 44).
Никита Иванович Панин38 и после второй женитьбы Павла Петровича пользовался дружбой и доверием не только цесаревича, но и великой княгини. Павел сообщил своему бывшему воспитателю и о своем разговоре со шведским королем. Возможно лишь Панину38, Павел Петрович мог посетовать по поводу правления Екатерины.
В действительности, действия малого двора не были так невинны. Екатерина уже думала разорвать союз с Фридрихом II и заключить новый – с Австрией. Граф Панин сообщал цесаревичу тайком обо всех депешах, а тот, в свою очередь, морально поддерживал прусского короля.
Шумигорский29 считал, что было бы несправедливо утверждать, что главною целью братьев Паниных было только возбудить Великого Князя против матери. Они лишь были убежденными противниками правительственной системы Екатерины и стремились провести в жизнь государства иные политическая начала, положить в основание государственной машины новые правовые институты. Павел Петрович должен был, по их мнению, изменить основы государственности. Под их влиянием Павел Петрович пришел к убеждению о необходимости, придя к власти, издать, прежде всего, закон о престолонаследии. Цесаревич понимал, что от матери его, занявшей престол через заговор, невозможно ожидать изменения порядка престолонаследия. Для начала он решил изучить положение дел в Российской армии, поскольку он считал, что Россия истощена беспрерывным рекрутингом, а государство беднеет от постоянных войн. Он не видел возможности изменений без военной реформы. Особенно Павел был возмущён уклонением дворян от службы, от их главнейшей обязанности – заниматься «обороной государственной». Этим основным началом управления и стал руководствоваться Павел 17 лет спустя по вступлении на престол. Чувство законного равенства и дисциплины, стремление к законности и порядку, проявляется у Павла Петровича одновременно со строгим и просвещённым взглядом на „ свободу, какъ на первое сокровище всякаго человека», прямое понятие о которой «не инымъ приобретается, какъ воспитаниемъ». Целью его государственной деятельности, направленной исключительно на создание «фундаментальныхъ законовъ», без которых страна не может нормально развиваться. Этой программе Павел Петрович оставался верен до конца своей жизни. Однако всё оставалось мечтой. 44).
В преддверии рождения первенца, летом 1777 года Екатерина подарила невестке землю поблизости от Царского Села, на которой начал строиться Павловск. В связи с предстоящими родами великий князь с супругой вынуждены были переехать в город. Они выехали из Царского Села 9 сентября 1777 года. По неизвестной ей тогда причине, Марию Фёдоровну130 беспокоило предстоящее событие, но не из-за здоровья или скверного настроения она умирала от страха. Едва цесаревич с великой княгиней успели прибыть в Зимний дворец, как вечером 9 сентября началось страшное наводнение 1777 года, которое на другой день, 10 сентября, угрожало гибелью населения столицы. 42).
Императрица весьма ревниво относилась не только к сыну, но и к великой княгине. Кобеко34 считал, что главной причиной было влияние фаворитов. Если в юные дни Павла Петровича это был Орлов48, то в описываемое время уже Потёмкин47 держал её в постоянном страхе от великого князя. Он старался убедить её в том, что только он – Потёмкин – может вовремя открыть замысел со стороны сына. Кроме этой причины, Кобеко34 объяснял охлаждение между матерью и сыном появлением внука, великого князя Александра Павловича6 на которого Екатерина перенесла всю свою родительскую любовь. Ещё одной из причин Кобеко видел в перемене во внешней политике Екатерины, которая нашла нужным сблизиться с Австрией и удалиться от Пруссии, а Павел Петрович, оставался приверженцем союза с Пруссией и не разделял её мнения относительно расширения пределов империи.
Кобеко приводил слова камер-юнкера (с сентября 1777 года) князя Голицына: “ Прискорбно было всемъ видеть сие неискреннее обхождение и ни малейшей горячности и любви между сими двумя августейшими особами. Великий же князь къ родительнице своей всегда былъ почтителенъ и послушенъ». 21).
Великое событие, с нетерпением ожидавшееся двором и населением столицы, совершилось 12 (23) декабря 1777 года, когда великая княгиня Мария Фёдоровна130 разрешилась от бремени сыном в Зимнем дворце, которому императрица дала имя Александр6. Любящая бабушка немедленно заказала серебряную ванночку для младенца. Павел нетерпеливо ждал первенца, готовясь отдать себя безраздельно воспитанию сына. Однако, признавая сына и невестку неспособными воспитать будущего русского государя, Екатерина сочла своим правом и обязанностью взять на себя заботы о воспитании внука. Тотчас же после его рождения она взяла ребенка на руки и после того как его обмыли, понесла его в другую комнату и передала на попечение генеральши Бенкендорф135. Его поместили в назначенных ему покоях. Также она поступила 27 апреля 1779 года при рождении великого князя Константина Павловича30, который, как и Александр остался на попечении бабушки. 44).
Валишевский24 писал, что Екатерина допустила ошибку, помешав сыну самому заниматься воспитанием своего сына. От того, что она сама пострадала когда-то, став жертвой злоупотребления властью со стороны Елизаветы12, она пожелала отнять теперь у Павла его ребенка под тем же предлогом. Она думала, что сумеет воспитать его лучше. Но это привело лишь к новому обострению отношений между ней и Павлом, поскольку бабушка хотела воспитывать их сына по системе Локка, а родители были против. Результатом стало то, что сын их, будущий император Александр I, стал совершенно глух на одно ухо и плохо слышал на другое, поскольку Екатерина хотела, чтобы он с самого раннего детства приучился к грохоту пушек! Взятый ею в учителя Александра и его младшего брата Константина швейцарский якобинец, Цезарь Лагарп126, тоже не нравился родителям. Во главе воспитателей был поставлен Николай Салтыков123, к которому родители относились благосклонно. «В 1761 году он храбро сражался под Кольбергом; в 1812 г. он содержал на свой счет целый полк. Он был приверженцем сильной власти и самого неограниченного самодержавия и имел на своего воспитанника влияние, которое часто брало верх над совершенно противоположным влиянием Лагарпа, что и объясняет множество противоречий в жизни Александра. … Александр же с самых ранних лет был в нравственном отношении совершенно сбит с толку, очутившись в руках Салтыкова и Лагарпа. Впрочем, не это было худшим последствием воспитания, данного Екатериной двум старшим великим князьям, а то, что они стали столь же чужды своему отцу, как сам Павел был всегда чужд своей матери». 7). Зато Екатерина предоставила Павлу и его супруге воспитание их младших детей и ограничилась лишь тем, что назначила воспитательницей их дочерям – превосходную Шарлотту Ливен118, благородство ума и сердца которой обезоруживало Марию Федоровну.
Императрица в отличие от Елизаветы не допустила полного отчуждения детей от родителей, но Шильдер19 справедливо считал, что детям повредили противоречивые требования бабушки и родителей, и это невыгодно отразилось на характере детей, особенно вредно повлияло на великого князя Александра Павловича6. Семейный мир разрушился. 44).
Кобеко отметил, что именно Александра Самодержица видела своим преемником. Павел, скорее всего, понимал это, но, не столько из боязни подвергнуться опале или даже гибели, а в силу своих убеждений, «выдержки и железного характера не позволил спровоцировать себя» на какой-либо «мятеж» или «выпады против матери даже в своей тайной переписке с близкими» людьми, где обсуждал многие государственные вопросы. Тем не менее, писал Кобеко, «началось полное, но скрытое „отчуждение“ между Павлом и Марией, с одной стороны, и Екатериной – с другой», и с восьмидесятых годов «начинается целенаправленная кампания по шельмованию Цесаревича и его супруги». 21).
В первые годы супружества несмотря ни на что молодая семья довольно беззаботно и весело проводила свой досуг. В летнее время они жили на Каменном острове или в Павловске. Каменный остров – бывшая собственность канцлера (чин 1-го класса по Табели о рангах; присваивался руководителям Коллегии иностранных дел) графа А. П. Бестужева-Рюмина32 и отошедшая в казну после его ссылки в счёт числившегося на нем казенного долга. Бестужев затратил на его украшение большие суммы: осушил, проведя поперек острова рвы, выложенные камнем, и развёл сад. В 1765 году был подарен Цесаревичу.
Светская жизнь великокняжеской четы била ключом, когда они по понедельникам устраивали балы и ужины, а по субботам – великолепные праздники с очень оживлённым балом, разговорами после спектакля и с ужином в театре – в зале – за большим столом, а в ложах – за маленькими, на которых Мария Федоровна ревновала мужа к часто сменяющимся хорошеньким фрейлинам. После ужина бал продолжался и заканчивался очень поздно.
В этих двух местах группировался около Павла Петровича и Марии Фёдоровны небольшой кружок преданных им лиц. То были граф Панин38, Салтыков, граф Н. П. Румянцев139, князь Куракин66, Лафермьер98, Николаи97 и несколько позднее – Вадковский140 и Плещеев104.
Фёдор Фёдорович Вадковский, которого Павел Петрович знал ещё с детства, пожалованный 28 июня 1778 года камер-юнкером, тогда же был определён к цесаревичу.
Сергей Иванович Плещеев поступил на службу мичманом в 1764 году, служил в английском флоте, совершил путешествие в Америку, по возвращению откуда отправился в 1770 году с русской эскадрой в Архипелаг. Там, в чине лейтенанта, служил на корабле «Ростиславъ» с главнокомандующим графом А. Г. Орловым116. Сопровождая посланца египетского владельца Алибея на родину, Плещеев совершил путешествие в Сирию и Иерусалим. Из этой поездки вернулся на флот в ноябре 1772 года. В 1773 году был отправлен на судне «Быстрый» в Любек, а в 1775—1776 годах состоял при константинопольском посольств князя Репнина127. Как опытный моряк, Плещеев был назначен состоять при Павле Петровиче в звании генерал-адмирала (флотский чин 1-го класса по Табели о рангах) в Павловск. (Очеркъ истории и описание. Составлено по поручению Его Императорскаго Высочества Великаго Князя Константина Николаевича. Спб, 1877).
В этом кружке царила светлая личность Марии Фёдоровны130. При ней не было назначено особой гофмейстерины. Графиня Румянцева, сопровождавшая её в Петербурге, вскоре после её бракосочетания, оставила двор и удалилась в Москву. Фрейлинами молодой великой княгини были первоначально Алымова и Молчанова, а затем с августа 1777 года, Борщова и Нелидова133. Но самой близкой и доверенной ей особой была подруга детства, баронесса Шиллинг фон-Канштадт136, приехавшая вслед за ней в Россию и в 1780 году вступившая в брак с подполковнииком Христофором Ивановичем Бенкендорфом.
Приехав в Россию, Мария Фёдоровна изучала русский язык под руководством Пастухова, брала уроки музыки, повторяла с Эпинусом64 математику и физику, читала «Обозрение Российской Империи» Плещеева.
«Великая княгиня, – писал Валишевский24, – занималась искусством, – вернее всеми искусствами или почти всеми, – без большого успеха, но ревностно, и работы ее бывали довольно милы. Она не пренебрегала шитьем и вышиванием… По примеру родителей, она устроила в Павловске литературный кружок, и так как Павел обожал театр, то исполняла кстати, и обязанности импресарио. Тут же, в Павловске, она возводила постройки, разбивала сады в подражание идиллии родительского дома. Сверх того, она умудрялась уделять много времени благотворительным и воспитательным учреждениям, которые до сих пор носят ее имя, что дало повод Карамзину141 сказать, что она была бы превосходным министром народного просвещения. … Однако она невольно проявляла при этом мелочность, придирчивость и бестактность своего ограниченного ума, а также свой пылкий, хлопотливый и крайне беспокойный характер, заставлявший ее постоянно вмешиваться в вопросы, в которых она понимала еще меньше, чем в правописании и в грамматике. Вследствие этого, несмотря на большие свои достоинства, она часто становилась невыносимой – даже самым близким ей людям». 7).
В 1780 году приехал в Петербург известный немецкий писатель Фёдор Иванович Клингер, друг Лафатера, Клопштока и Гёте142 был назначен состоять при Цесаревиче, в качестве лектора, сопровождал его в заграничном путешествии, затем долгое время служил по учебному ведомству.
Во время пребывания молодых супругов на даче, большая часть посвящалась чтению. У Павла Петровича, как уже упоминалось, была обширная библиотека, для которой около 1785 года был отдан особый дом (где до того помещались пажи), находившийся между Мойкой и Луговой (Миллионной) улицей.
Павел Петрович предпочитал тихую супружескую жизнь, но не чуждался и общественных развлечений. При молодом дворе часто бывали разнообразные балы, спектакли и праздники. В его характере было что-то рыцарское. Он с детства полюбил мальтийский орден и в первые годы своей брачной жизни раза два в неделю доставлял себе удовольствие, устраивая нечто вроде турнира. На них Павел Петрович и некоторые из придворных кавалеров, в особых костюмах, верхом, исполняли разного рода эволюции, воспроизводя забавы средневековых рыцарей.
7 июля 1776 года, прославившийся при Чесме и в Архипелаге русский флот, возвратился в Кронштадт. Адмирал (морской чин 2-го класса по Табели о рангах) Грейг лично Императрицей торжественно на смотре был награждён орденом Александра Невского. Павел Петрович, будучи в то время в Берлине, как генерал-адмирал (флотский чин 1-го класса по Табели о рангах) выразил морякам свое признание ещё 17 мая 1776 года. Он заложил на Каменном острове инвалидный (ветеранский) дом для пятидесяти матросов, который был освящён в присутствии молодой четы 24 июня 1778 года в день празднования рождение Иоанна Иерусалимского, покровителя мальтийского ордена. Крест ордена до сих пор находится над входом этого дома. Особую роль в семейной жизни малого двора играла фрейлина великой княгини мадемуазель Нелидова133, которая на протяжении почти пятнадцати лет необъяснимым образом влияла на Павла.