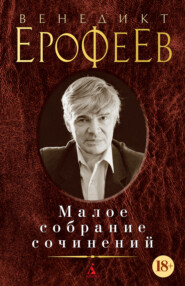По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Москва – Петушки. С комментариями Эдуарда Власова
Жанр
Год написания книги
2016
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
«Да где же тут любовь и где Тургенев?» – заговорили мы, почти не дав окончить. – «Нет, ты давай про любовь! Ты читал Ивана Тургенева?» «Ну, коли читал, так и расскажи!» «Про первую любовь расскажи, про Зиночку, про вуаль, и как тебе хлыстом по роже съездили – вот примерно все это и расскажи…»
– Конечно, – прибавил я, – у Ивана Тургенева все это немножко не так, у него все собираются к камину, в цилиндрах, и держат жабо на отлете… Ну, да ладно, у нас и без камина есть чем согреться. А жабо – что нам жабо! Мы уже и без жабо – лыка не вяжем…
– Конечно! Конечно!
– Если любить по-тургеневски, это значит: суметь пожертвовать всем ради избранного создания! суметь сделать то, что невозможно сделать, не любя по-тургеневски! Вот ты, например (мы незаметно переходили на «ты»). Вот ты, декабрист, ты смог бы у этого приятеля, про которого рассказывал, – смог бы палец у него откусить? ради любимой женщины?
– Ну зачем палец?.. при чем тут палец? – застонал декабрист.
– Нет, нет, слушай. А ты мог бы: ночью, тихонько войти в парткабинет, снять штаны и выпить целый флакон чернил, а потом поставить флакон на место, надеть штаны и тихонько вернуться домой? ради любимой женщины? смог бы?..
– Боже мой! Нет, не смог бы.
– Ну вот то-то…
– А я бы смог! – проговорил вдруг дедушка Митрич. Так неожиданно, что все снова заерзали и запотирали руки. – А я бы смог чего-нибудь рассказать…
– Ты? Рассказать? Да ты, наверное, и не читал совсем Ивана Тургенева!..
– Ну и пусть, что не читал… Мой внучек зато все читал…
– Ну, ладно! ладно! внучек потом расскажет! внучку потом слово дадим! Давай, папаша, валяй, рассказывай про любовь!..
«Представляю, – подумал я, – что это будет за чушь! что за несусветная чушь!» И я вдруг снова припомнил свою похвальбу в день знакомства с моей Царицей: «Еще выше нанесу околесицы! Нанесу еще выше!» Что ж, пусть рассказывает, этот слезящийся Митрич. Надо чтить, повторяю, потемки чужой души, надо смотреть в них, пусть даже там и нет ничего, пусть там дрянь одна – все равно: смотри и чти, смотри и не плюй…
Дедушка начал рассказывать:
65-й километр – Павлово-Посад
– Председатель у нас был… Лоэнгрин его звали, строгий такой… и весь в чирьях… и каждый вечер на моторной лодке катался. Сядет в лодку и по речке плывет… плывет и чирья из себя выдавливает…
Из глаз рассказчика вытекала влага, и он был взволнован:
– А покатается он на лодке… придет к себе в правление, ляжет на пол… и тут уже к нему не подступись – молчит и молчит. А если скажешь ему слово поперек – отвернется он в угол и заплачет… стоит и плачет, и пысает на пол, как маленький…
Дедушка вдруг умолк. Губы его искривились, синий нос его вспыхнул и погас. Он плакал! Плакал, как женщина, охватив руками голову, плечи его так и ходили ходуном, так и ходили, как волны…
– Ну и все, что ли, Митрич?..
– И все, – отвечал он сквозь слезы.
Вагон содрогнулся от хохота. Все смеялись, безобразно и радостно. А внучек даже весь задергался, снизу вверх, чтобы слева направо не прыснуть себе в щиколку. Черноусый сердился:
– Да где же тут Тургенев? Мы же договорились: как у Ивана Тургенева! А тут черт знает что такое! Какой-то весь в чирьях! да еще вдобавок «пысает»!
– Да ведь он, наверно, кинокартину пересказывал! – брякнул кто-то со стороны. – Кинокартину «Председатель»!
– Какая там, к черту, кинокартина!..
А я сидел и понимал старого Митрича, понимал его слезы: ему просто все и всех было жалко: жалко председателя, за то, что ему дали такую позорную кличку, и стенку, которую он обмочил, и лодку, и чирьи – все жалко… Первая любовь или последняя жалость – какая разница? Бог, умирая на кресте, заповедовал нам жалость, а зубоскальства Он нам не заповедовал. Жалость и любовь к миру – едины. Любовь ко всякой персти, ко всякому чреву. И ко плоду всякого чрева – жалость.
– Давай, папаша, – сказал я ему, – давай я угощу тебя, ты заслужил! ты хорошо рассказал про любовь!..
– И все, и все давайте выпьем! За орловского дворянина Ивана Тургенева, гражданина прекрасной Франции!
– Давайте! За орловского дворянина!..
Снова началось то же бульканье и тот же звон, потом опять шелестенье и чмоканье. Этюд до диез минор, сочинение Ференца Листа, исполнялся на бис…
Никто сразу и не заметил, как у входа в наше «купе» (назовем его «купе») выросла фигура женщины в коричневом берете, в жакетке и с черными усиками. Она вся была пьяна, снизу доверху, и берет у нее разъезжался…
– Я тоже хочу Тургенева и выпить, – проговорила она всею утробою…
Замешательство длилось не больше двух мгновений.
– Аппетитная приходит во время еды, – съязвил декабрист. Все засмеялись.
– Чего тут смеяться, – сказал дедушка. – Баба как баба, хорошая, мягонькая…
– Таких хороших баб, – мрачно отозвался черноусый и снял берет, – таких хороших баб надо в Крым отправлять, чтоб их там волки-медведи кушали…
– Ну почему, почему! – я запротестовал и засуетился. – Пусть сядет! Пусть чего-нибудь да расскажет! «Читали Тургенева, читали Максима Горького, а толку с вас!..» – Я потеснился. Я усадил ее и налил ей полстакана «тети Клавы».
Она выпила и, вместо благодарности, приподняла с головы свой берет. «Вот это – видите?» И показала всем свой шрам повыше уха. А потом торжественно помолчала – и снова протянула мне стакан: «Плесни еще, молодой человек, а не то упаду в обморок».
Я налил ей еще полстакана.
Павлово-Посад – Назарьево
Она и это выпила, и снова как-то машинально. А выпив, настежь растворила свой рот и всем показала: «Видите – четырех зубов не хватает?» «Да где же зубы-то эти?» «А кто их знает, где они. Я женщина грамотная, а вот хожу без зубов. Он мне их выбил за Пушкина. А я слышу – у вас тут такой литературный разговор, дай, думаю, и я к ним присяду, выпью и заодно расскажу, как мне за Пушкина разбили голову и выбили четыре передних зуба…»
И она принялась рассказывать, и чудовищен был стиль ее рассказа…
– Все с Пушкина и началось. К нам прислали комсорга Евтюшкина, он все щипался и читал стихи, а раз как-то ухватил меня за икры и спрашивает: «Мой чудный взгляд тебя томил?» Я говорю: «Ну, допустим, томил…» А он опять за икры: «В душе мой голос раздавался?» А я визжу и говорю: «Ну, конечно, раздавался». Тут он схватил меня в охапку и куда-то поволок. А когда уже выволок – я ходила все дни сама не своя, все твердила: «Пушкин-Евтюшкин-томил-раздавался». «Раздавался-томил-Евтюшкин-Пушкин». А потом опять: «Пушкин-Евтюшкин»…
– Ты ближе к делу, ближе к передним зубам, – оборвал ее черноусый.
– Сейчас, сейчас будут и зубы! Будут вам и зубы!.. Что же дальше?.. Да, с этого дня все шло хорошо, целых полгода я с ним на сеновале Бога гневила, все шло хорошо! А потом этот Пушкин опять все напортил!.. Я ведь как Жанна д’Арк. Та тоже – нет, чтобы коров пасти и жать хлеба – так она села на лошадь и поскакала в Орлеан, на свою попу приключений искать. Вот так и я – как немножко напьюсь, так сразу к нему подступаю: «А кто за тебя детишек будет воспитывать? Пушкин, что ли?» А он огрызается: «Да каких там еще детишек? Ведь детишек-то нет! При чем же тут Пушкин!» А я ему на это: «Когда они будут, детишки, поздно будет Пушкина вспоминать!»
И так всякий раз – стоило мне немного напиться. «Кто за тебя, – говорю, – детишек?.. Пушкин, что ли?» А он – прямо весь бесится. «Уйди, Дарья, – кричит, – уйди! Перестань высекать огонь из души человека!» Я его ненавидела в эти минуты, так ненавидела, что в глазах у меня голова кружилась. А потом – все-таки ничего, опять любила, так любила, что по ночам просыпалась от этого…
И вот как-то однажды я уж совсем перепилась. Подлетаю я к нему и ору: «Пушкин, что ли, за тебя детишек воспитывать будет? А? Пушкин?» Он, как услышал о Пушкине, весь почернел и затрясся: «Пей, напивайся, но Пушкина не трогай! детишек – не трогай! Пей все, пей мою кровь, но Господа Бога твоего не искушай!» А я в это время на больничном сидела, сотрясение мозгов и заворот кишок, а на юге в это время осень была, и я ему вот что тогда заорала: «Уходи от меня, душегуб, совсем уходи! Обойдусь! Месяцок поблядую и под поезд брошусь! А потом пойду в монастырь и схиму приму! Ты придешь прощенья ко мне просить, а я выйду во всем черном, обаятельная такая, и тебе всю морду исцарапаю, собственным своим кукишем! Уходи!!» А потом кричу: «Ты хоть душу-то любишь во мне? Душу – любишь?» А он все трясется и чернеет: «Сердцем, – орет, – сердцем – да, сердцем люблю твою душу, но душою – нет, не люблю!!»
И как-то дико, по-оперному рассмеялся, схватил меня, проломил мне череп и уехал во Владимир-на-Клязьме. Зачем уехал? К кому уехал? Мое недоумение разделяла вся Европа. А бабушка моя, глухонемая, с печки мне говорит: «Вот видишь, как далеко зашла ты, Дашенька, в поисках своего „я“!»
Да! А через месяц он вернулся! А я в это время пьяная была в дым, я как увидела его, упала на стол, засмеялась, засучила ногами: «Ага! – закричала. – Умотал во Владимир-на-Клязьме! а кто за тебя детишек…» А он – не говоря ни слова – подошел, выбил мне четыре передних зуба и уехал в Ростов-на-Дону, по путевке комсомола…
– Дело к обмороку, малый. Налей-ка еще чуток…