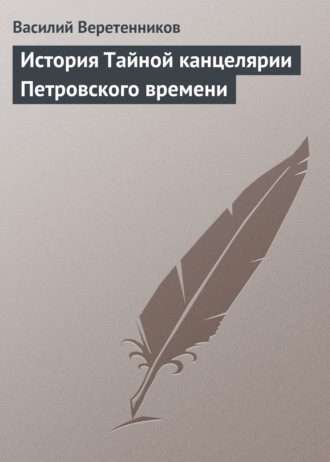
История Тайной канцелярии Петровского времени
В 1655 (7164) году в Разряде, в Новгородском столе получили от воеводы отписку, что в съезжей избе его словесно извещал казак на одного крестьянина, который будто кричал у кабака: «Ты-де государев слуга, а я де государев друг». Воевода допросил обвиняемого (который передавал иначе свои слова) и просит указа, что ему далее делать.
В Новгороде в 1662 году некто Рогозинский, по донесению воеводы Репнина, сказал «наши царственные дела», как выражается царская грамота Репнину о присылке этого Рогозинского для следствия в Приказ наших тайных дел. В мае 1668 году в Пскове к воеводе были присланы монастырский старец Пахомий и псковский пушкарь Ульяшко Гаврилов с обвинением их в том, что они говорили «непристойные» речи: «великого государя… и святейшего патриарха Иосафа называли ворами» и будто «веруют они во антихриста». Воевода обычным порядком повел следствие, и его результаты (в виде расспросных речей обвиняемых и свидетелей и очных ставок) отправил в Москву. Царь, выслушав эту отписку, приказал прислать обвиняемых в Москву, в Посольский приказ; «если же в этом будут упорствовать, то велеть того чернца и пушкаря сжечь». Старец Пахомий отказался приносить покаяние, и его сожгли; причем переписка об этом вся шла через Посольский приказ. Пушкарь же Гаврилов покаялся, причастился Святых Тайн и был отправлен в Спасский монастырь; переписка об этом тоже велась Посольским приказом. Через некоторое время этот пушкарь ушел из монастыря, очутился в Новгороде; его поймали и доставили в Москву в Посольский приказ. На этом материалы дела кончаются.
В 1670 году было найдено в Москве, вероятно, какое-то подметное письмо; содержание его остается для нас неизвестным; начало дела частью утеряно, частью попорчено. Кузнец Васька, служка Иванов и человек Арт. Матвеева Кирюшка говорили, что девка Матвеева «имана на верх, но ей царицею не бывать». «И великий государь царь и великий князь Алексей Михайлович… указал боярам кузнеца Ваську и служку Ваську ж и Артамонова человека Матвеева Кирюшку… расспрашивать у пытки; а буде из них кого доведется, и пытать; и по указу великого государя бояре расспрашивали их у пытки; а Кирюшка пытан, а было ему 30 ударов». Кирюшка признался, что писал сам, без соучастников, это воровское письмо «для того: хотел от Артамона отбыть от холопства». «Бояре после того Кирюшку расспрашивали, для чего он запирается, и Кирюшка перед бояре винился»; «а после того он же Кирюшка перед великим государем и перед бояре в том запирался», «и для подлинного сыску расспрашиван перед великим государем и при боярах кузнец Васька»; его пытали, – «в том он сожжен на огне», – и говорил он «прежние свои речи». В конце этого дела говорится, что царь всех «пожаловал свободить».
Это дело, при всей беспорядочности и туманности его содержания, заслуживает некоторого внимания. Подметное письма затрагивало такую интимную вещь, как избрание царем невесты. Может быть, именно в силу такой близости к особе царя и возник особый ход всего дела: царь указал вести «розыск» не учреждению, а «боярам»; бояре допрашивали и пытали; наконец, мы видим – это самое главное, – что часть дела «следуется» в присутствии самого царя: при нем допрашивают одного обвиняемого и при нем же пытают другого «для подлинного сыску». Конечно, и приговор по делу идет по указу царя. Таким образом, здесь перед нами совершенно особый порядок делопроизводства; и мы можем сделать если не вывод, то предположение, что в тех делах, которые близко затрагивали особу царя, обычный порядок производства нарушался: царь, поручая следование дела «боярам» (возможно, по своему выбору), сам не только направлял «розыск», но и присутствовал при нем, лично исполняя роль следователя и судьи.
А обычная практика шла прежним путем. В 1677 году в Новгородском приказе расследовалось дело крестьянина Клима Ерышева, который, как утверждалось в донесении царю, «говорил про твое царское величество непристойные слова»; по царской грамоте кевроль-мезенскому воеводе велено было урезать виновному язык и бить его кнутом нещадно. Дело поднялось вновь в 1678 году по извету, что воевода языка не урезал, а только для виду велел пустить кровь из щеки виновного; конец этого дела утерян.
Мало что изменилось в расследовании дел по «слову и делу» и в правление царей Ивана и Петра, о чем свидетельствуют сохранившиеся документы того времени.
В июне 1697 года, уже при единоличном царствовании Петра, монахиня Авксентия подала в Новгороде воеводе бумаги от игуменьи Тихвина-Введенского монастыря, где игуменья пишет, что эта Авксентия «сказала за собой государево слово», почему ее и отпустили в Новгород к воеводе; этот последний, Апраксин, немедленно допросил монахиню: Авксентия обвиняла, со слов монаха Иосафа, монастырского архимандрита, говорившего целовальнику, приехавшему продавать табак: «Будь ты проклят, и с тем, кто указал табак продавать!», а также: «Дам попам по две деньги и велю проклинать у престола Божья того, кто повелел таким товаром торговать». Кроме того, этого архимандрита обвиняла Авксентия в непраздновании царского ангела и еще в других – просто-таки уголовных преступлениях. Воевода начинает допрашивать свидетелей и замешанных лиц, списывается с митрополичьим Новгородским приказом, который ведет допрос и делает очные ставки (до пыток нигде не доходит). После долгих допросов и переписки обвиненный архимандрит просит челобитьем на имя царя, чтобы его взяли в Москву в Новгородский приказ: указом 7207 года было велено все дело передать в Москву и «подать в Новгороцком приказе думному нашему дьяку Емельяну Игнатьевичу Украинцеву с товарищи».
Из этого дела мы видим, что в самом начале царствования Петра обычный порядок следствия и наказания по «по государеву слову и делу» продолжался: как и в начале XVII столетия, изветы принимают простые воеводы, они же ведут следствие, также дело затем переходит в один из московских приказов, но следов особого учреждения по такого рода делам по-прежнему не видно. Кроме того, во второй половине XVII века хотя и редко, но стал применяться особенный порядок к тем делам по «слову и делу», которые почему-либо заинтересовали самого царя.
IIIНачался XVIII век. Именной указ от 25 сентября 1702 года гласил: «Буде впредь на Москве и в Московский судный приказ учнут приходить каких чинов нибудь люди… и учнут за собой сказывать Государево слово или дело, – и тех людей в Московском судном приказе не расспрашивая, присылать в Преображенский приказ к стольнику ко князю Федору Юрьевичу Ромодановскому. Да и в городах воеводам и приказным людям таких людей, которые начнут за собою сказывать Государево слово или дело прислать к Москве, не расспрашивая». Таким образом, старый общий для XVII века порядок производства дел по «слову и делу» был нарушен: в большинстве, изъятые из общей подсудности, дела эти были сосредоточены в ведении испытанного в своей верности слуги Петра князя Федора Ромодановского, в Преображенском приказе.
Дела этого приказа начинаются регулярно в столбцах с 1696 года. До 1702 года характер этих дел чрезвычайно однообразен; все они разбиваются на четыре категории: во-первых, «о битве», «драке», «кричании караула» между московскими обывателями, то есть дела о нарушении общественной тишины и порядка на улицах и площадях Москвы; во-вторых, дела о мелких взысканиях по гражданским искам, причем обычно ответчика приводит истец; в-третьих, о нарушениях обязательных постановлений в городе, то есть пении песен в неположенном месте, езде там, где запрещено, оскорблениях священных мест чем-либо и т. п.; в-четвертых, дела по «слову и делу». Необходимо отметить, что преобладающее количество дел относятся к первому и третьему роду, то есть к делам полицейского характера; немного дел второго рода – дел мелкой юстиции и мелкой расправы; и чрезвычайно мало дел четвертого рода – по обвинениям по «слову и делу».
Ясной этому иллюстрацией служит тот факт, что для 1696 года из общего числа сохранившихся дел Преображенского приказа (около 605) по «слову и делу» имеются не более пяти дел. Следовательно, можно сказать с некоторой уверенностью, что в первые годы своего существования – до 1702 года – Преображенский приказ отнюдь не являлся специальным учреждением по делам о государственных преступлениях. Основная роль Преображенского приказа для Москвы была чисто полицейская: приказ был тогда, в сущности, канцелярией полицмейстерских дел Москвы.
С 1702 года положение немного изменяется, но все-таки Преображенский приказ не становится единственным учреждением для преследования государственных преступлений; указ 1702 года только вводит в ведение исключительно Преображенского приказа все дела из провинций, присылаемые по «слову и делу». В этом сказывается желание царя поручить эти дела – принявшие, возможно, в глазах Петра слишком важный характер, чтобы их можно было вести обычным порядком, – близкому и доверенному человеку. При этом, как явствует из обозрения дел Преображенского приказа, в его заведывании все еще оставалась полиция Москвы, да с того же времени хозяйственно-оружейная часть гвардии (а отчасти и всей армии) тоже все более ложилась на Преображенский приказ. Таким образом, и в 1702 году Преображенский приказ вовсе не являлся специальным учреждением по расследованию государственных преступлений. Все это в совокупности дает впечатление, что Петр, обратив внимание на «дела государственные» и решив их поручить людям близким и надежным, в большей части поручил их Ромодановскому, начавшему вести их наряду с другими делами, новыми и старыми, в Преображенском приказе.
Такое нагромождение разнообразных дел, мало имеющих общего друг с другом, вызывало, вероятно, недоразумения, которые заставили Петра особым указом в 1722 году точнее определить, что же, собственно, подобает ведать Преображенскому приказу. В этом указе Петр пишет, «чтоб делам быть в Преображенском», во-первых, государственным, по «слову и делу»; во-вторых, «полки гвардии чтоб ведомы были по-прежнему»; в-третьих, посторонних дел… никогда не примать», а имеющиеся такие «отдать к своим местам»; но тут делается исключение для крупных разбойных дел.
Этот указ свидетельствует прежде всего о том, что и после 1702 года Преображенский приказ не является специальным по государственным преступлениям учреждением; кроме того, нельзя не обратить внимания на то, что «ведение» приказом дел по «слову и делу» выдвигается все-таки теперь на первое место, а вся мелкая полиция (может быть, и еще какие-либо к тому времени попавшие в ведомство того же приказа дела) постепенно изымаются из его ведения. Если к этому прибавить, что кн. Ив. Ромодановский (наследовавший приказ от отца) с 1726 года приблизительно называется генерал-губернатором Московским, то есть высшим полицейско-административным лицом Москвы, то станет ясно, что Преображенский приказ в основе своей являлся главным образом полицейским учреждением, но осложненным поручением расследовать провинциальные дела по «слову и делу».
В дополнение ко всему этому и в связи с заведыванием в известном отношении гвардией в Преображенском приказе появился еще ряд дел по разным земельным и другим имущественным тяжбам, что, конечно, еще более загромоздило и обесформило делопроизводство. А произошло это последнее усложнение деятельности приказа потому, что многие гвардии офицеры били приказу челом о неведении нигде их имений судом, кроме Преображенского приказа, и когда на это получали согласие (что бывало не так уж и редко), то переносили все свои тяжебные дела из разных других учреждений в Преображенский приказ. Не о рассылке ли именно этих дел по надлежащим местам говорит Петр в указе 1722 года?
Таким образом, очевидно, что никак нельзя считать этот приказ первым в России специальным учреждением по преследованию и суждению преступлений по «слову и делу». Небезынтересно заметить, что в кабинетных делах времени Петра сохранилось за 1702–1725 годы многое из переписки с Ромодановским, и даже при беглом просмотре этой переписки становится ясно, что важнейший предмет Преображенского приказа составляют дела полков гвардии – их обмундирование, вооружение, набор и проч.
Можно сказать, что в 1702 году Петр сделал шаг по старому, уже в XVII веке намеченному пути: он поручил дела по «слову и делу» одним общим распоряжением в их огромном большинстве близкому доверенному человеку, изъяв их почти целиком из общего порядка «следования». Если у царя Алексея Михайловича побудительные причины к такого рода направлению «государственных дел» появлялись только изредка, только в некоторых отдельных случаях, то у приемника его, с борьбой и треволнениями обретшего наследственную власть, естественно, оказалось гораздо более побудительных причин обратить свое особенное внимание на эти дела, а следовательно, и направить их по тому особому руслу, которое уже было намечено для таких случаев его отцом и которое обеспечивало Петру возможность личного надзора и вмешательства, а также гарантировало в значительной степени ведение таких «важных» дел строго соответственно его воле.
В кипучей деятельности Петра «важные» дела, входить в которые лично царь считал необходимым, были не только дела «государственные»: дела по хищениям казенного имущества, вопиющие (вроде гагаринского) дела по всяким злоупотреблениям местных администраций тоже тревожили Петра, тоже казались ему «важными». В именном указе от 25 января 1715 года Петр объявлял: «Кто истинный христианин и верный слуга своему Государю и отечеству, тот без всякого сумнения может явно доносить словесно и письменно о нужных и важных делах самому Государю, или, пришед ко двору Его Царскаго Величества, объявить караульному сержанту, что он имеет нужное доношение, а именно о следующих: 1. О каком злом умысле против персоны Его Царского Величества или измены; 2. О возмущении или бунте; 3. О похищении казны; а о прочих делах доносить, кому те дела вручены».
Но если, согласно этому указу, подобные дела попадали непосредственно к Петру, то как же, спросим, император с ними поступал далее, как же он их расследовал и решал? Кто же или что за учреждение, в какой мере и каким образом ему в этом помогали? Так возникли майорские розыскные канцелярии, к истории которых мы и обратимся в следующей главе; а в заключение настоящей главы позволим себе только отметить некоторые моменты дальнейшей истории трех пунктов указа 1715 года.
Петр, повторив в указе от 19 января 1718 года эти три пункта, требовал, «дабы о первых двух пунктах доносили по прежнему указу караульному офицеру, а он будет представлять челобитчика самому Его Царскому Величеству; а о третьем пункте» доносить Ушакову в Москве, Кошелеву в Петербурге. Таким образом «государственные дела», имеющие отношение к первым двум пунктам, Петр к этому времени уже выделил, придавая им особое, бóльшее значение, чем делам, относящимся к третьему пункту. В конце того же 1718 года указом от 22 декабря Петр повелевает о делах, касающихся похищений казны, доносить фискалам и быть этим делам в ведении Коллегии юстиции.
Глава вторая
Очерк истории майорских розыскных канцелярий Петровского времени
Объединяющее название «майорские розыскные канцелярии» до известной степени искусственно. Перед нами ряд совершенно отдельных учреждений, носящих названия: канцелярия ведения такого-то (например, лейб-гвардии майора Дмитриева-Мамонова), канцелярия ведомства такого-то, канцелярия розыскных дел такого-то; а иногда рядом с этим, как бы личным названием постепенно образуется и применяется другое – «канцелярия ведения лейб-гвардии майора Ушакова» часто называется «канцелярия рекрутного счета», к «канцелярии ведомства Дмитриева-Мамонова» прилагается одновременно название «сибирская канцелярия». Употребление этих наименований идет беспорядочно, и часто почти рядом к одному и тому же учреждению прилагаются разные названия. Но в этом беспорядке и как бы раздельности при более близком изучении нельзя все-таки не заметить чего-то общего, дающего право на некоторое объединение всех этих канцелярий. Очевидно, что однородность этих учреждений, единство принципов, в основании их лежащих, хотя и смутно, но в то же время определенно сознавались и создавшим их Петром, и в них работавшими людьми.
Мне удалось найти данные к истории «канцелярий ведомства» следующих лиц: кн. Алекс. Шаховского, кн. Мих. Волконского, Богд. Скорнякова-Писарева, Ив. Плещеева, кн. Вас. Вл. Долгорукова, Мих. Аф. Матюшкина, кн. П. М. Голицына, А. И. Ушакова, Мих. Волкова, Ив. Ил. Дмитриева-Мамонова, Гер. Ив. Кошелева, кн. Юсупова, С. Салтыкова.
Заранее оговаривая неполноту материалов, имевшихся в моем распоряжении, я взял на себя все-таки смелость составления очерка их деятельности. При этом следует знать, что основные архивные фонды частью сгорели во время пожара Московского сенатского архива в 1737 году (где погибли дела канцелярий Дмитриева-Мамонова, Юсупова и Матюшкина), частью, видимо, просто рассеялись; такое положение дела заставило пользоваться другими архивными фондами, в которых явилась возможность найти иной раз совершенно случайно туда попавшие известия о розыскных канцеляриях.
I«1717 года декабря в 13 день по указу Великого Государя, правительствующий Сенат приказал: лейб-гвардии к господам офицерам, которые определены к делам: генералу- майору и подполковнику князю Голицыну, майорам: князю Салтыкову, Волкову, Дмитриеву-Мамонову, бригадиру и генеральному ревизору господину Зотову на приказные расходы из канцелярии Сената отпустить по 50 рублей. А когда у них в канцелярии деньги будут в сборе, оные данные деньги в канцелярию Сената возвратить». Указом того же года от 17 декабря велено было Сенатом «лейб-гвардии к господам офицерам в канцелярии» отослать из военной коллегии «для караула и посылок солдат, по сколько человек надлежит».
23 декабря того же года был дан Сенатом такой указ: «По именному Великого Государя указу определены к розыскным делам господа офицеры, а именно: генерал-майор и лейб-гвардии подполковник князь Петр княж Михайлов сын Голицын; лейб-гвардии майоры: князь Григорий княж Дмитриев сын Юсупов, Семен Андреев сын Салтыков, Михайло Яковлев сын Волков, Иван сын Дмитриев- Мамонов и лейб-гвардии капитан Герасим Иванов сын Кошелев. Правительствующий Сенат приказали: о чем от них указы посылаться будут, а именно: о присылке каких чинов людей, также и дел для розыска в Санкт-Петербург и по тем указам быть послушным и отпускать, чего они требовать будут, также и на подводы прогонные деньги давать везде без задержания». Дальнейшими указами Сената того же месяца по требованиям вышеназванных господ офицеров им посылались дьяки и подьячие для ведения дел в канцеляриях. Так, в конце 1717 года был организован ряд канцелярий для розысков под ведением господ лейб-гвардии офицеров. Однако, как увидим, не сразу и не с этого именно момента появились описываемые учреждения. Постараемся разобраться в материалах, имеющихся в нашем распоряжении, и сказать о каждой из таких канцелярий в отдельности.
1. В 1713 году Петр именным указом из Кабинета посылает от гвардии офицера Ивана Ильича Дмитриева-Мамонова в Вологду для следствия о недозволенной из Архангельска продаже купецкими людьми юфти и пеньки за границу. Дмитриев-Мамонов еще был в Вологде, когда в том же году Петр за своим подписанием шлет ему второй указ: «По получении сего указу ланрихтера Ивана Нахалова також против приложенной при сем именной росписи наборщиков, которые рекрут набирали, так же приказчиков и старост, сыскав, возьмите за караул; а какое до них дело, и о том немедленно будем к вам писать». В письме от 3 декабря того же года Петр, говоря о «сказках» доносителей на злоупотребления наборщиков рекрут, пишет, что посылает копии с этих «сказок» – «против которых вам розыскать и, кто приличны будут, тех пытать и розыскивать; тех наборщиков, которые явятся по розыску во взятках, возмите сюды с собой за караулом… И розыскать накрепко, и тот розыск и их Нахалова и Кузмена тогда, как вы сюда поедете, возьмите». «В 1717 году Царского Величества именным указом повелено от лейб-гвардии майору Дмитриеву-Мамонову иметь канцелярию, в которой управлять дела по пунктам Царского Величества», «а ко оным делам в той канцелярии надлежит быть подьячим», всего тринадцать человек, с требованием которых, а также чернил, бумаги, сургучу, помещения и т. д. Дмитриев-Мамонов обращается в Сенат. И уже в январе следующего 1718 года эта канцелярия находится в полном действии.
В письме от 18 января к Петру за подписью Ив. Дмитриева-Мамонова, Ив. Лихарева, Егора Пашкова и Ив. Бахметьева говорится: «По данному от Вашего Величества указу повелено нам исследовать по фискальскому донесению о Евреиновых»; видимо, Ив. Дмитриев-Мамонов действует в поручаемых «розысках» не один, а коллегиально. В том же году другое донесение: «…именным Царского Величества указом повелено нам от гвардии офицерам исследовать о бытности в Сибири господина подполковника Бухалта»; эту бумагу подписывает один Дмитриев-Мамонов (апрель 1718 года). Дело кн. Гагарина, сибирского губернатора, тоже расследовалось канцелярией Дмитриева-Мамонова и тянулось в продолжение четырех лет, до 1721 года; лихоимство, злоупотребление властью и взяточничество – словом, преимущественно преступления «против третьего пункта» указа 1715 года были «розыскиваемы» в деле кн. Гагарина.
Таким образом, к 1718 году вокруг Дмитриева-Мамонова образуется канцелярия, во главе которой стоят несколько гвардейских офицеров, но истинным начальником которой все-таки остается Дмитриев-Мамонов, извещавший Петра в то время о передаче некоторых дел кн. Юсупову «из канцелярии врученной мне, нижайшему рабу Вашему». Иногда прибавлялось еще имя Лихарева и канцелярия получала название «канцелярии ведения лейб-гвардии майоров Дмитриева-Мамонова и Лихарева с прочими офицерами», однако название «канцелярия ведения Дмитриева-Мамонова» преобладает, и в целом ряде донесений-писем Петру с отчетами о суммах, бывших у него по разным делам, Дмитриев-Мамонов говорит о канцелярии своего «ведения». Были случаи, когда писали без упоминания о канцелярии: например: «лейб-гвардии господам майорам Ивану Ильичу Дмитриеву-Мамонову, Ивану Лихареву с товарищами». В 1719 году в Канцелярию тайных розыскных дел поступает дело по подметному письму о тобольских жителях – что есть среди них противники указов о немецком платье и бритье бороды. Тайная канцелярия пересылает это дело в канцелярию ведения Дмитриева-Мамонова, указав адрес: «бригадиру и лейб-гвардии майору Ивану Ильичу Дмитриеву-Мамонову и прочим офицерам». Наконец, сохранилось «определение» Тайной канцелярии, датированное январем 1724 года, за подписью Ушакова о некоем Козмине, сказавшем ложно «слово и дело», – его решено отослать «в канцелярию ведения генерала-майора господина Дмитриева- Мамонова.
Следы существования этой канцелярии последний раз попадаются в 1725 году, откуда, конечно, не следует заключать об ее уничтожении в это время; однако в 1737 году дела ее уже находились в Сенатском московском архиве и все сгорели во время пожара, бывшего в этом году в Москве. К этому времени они уже достигли больших размеров и были переплетены в 191 книгу.
Таким образом, поручив майору от гвардии Дмитриеву- Мамонову несколько розыскных дел, Петр снабжает его как доверенное лицо большими полномочиями: «кто приличны будут» к делу – «пытать и розыскивать», и «розыскивать накрепко». Затем следует ряд поручений, и у Дмитриева-Мамонова появляется ряд помощников-офицеров; эти офицеры становятся его «товарищами», и образуется «канцелярия», которая иногда называется и по их именам, но вместе с тем всегда фигурирует Ив. Дмитриев-Мамонов: он один ведет переписку с Петром; он один иногда подписывается за всех; дела часто адресуются только на его имя – в письме к нему от 12 августа 1721 года Макаров, передавая ему донесение Нестерова о злоупотреблениях дьяков в Москве, пишет: «…и оное доношение указал Его Царское Величество для решения отослать к вам». Все это производит впечатление, что нечто похожее на коллегиальное начало существовало в канцелярии между Мамоновым и его товарищами, но Мамонов все-таки был главой, первоприсутствующим этой коллегии; причем едва ли были строго намечены границы единоличного и коллегиального решений; да и сама коллегия была в составе своем неустойчива, случайна: в нее, видимо, входили разные «штаб- и обер-офицеры». Ушаков в одном письме к кн. Михаилу Голицыну, сообщая о неимении у него указаний царских о том, как судить в некоторых случаях, писал: «…уповаю я, что такие указы имеются в канцелярии ведомства генерала-майора Дмитрева-Мамонова, ибо когда мы во оной канцелярии с прочими лейб-гвардии штаб- и обер-офицерами обще слушали дела, упоминались такие указы».
Мы видели, что сферу деятельности этой коллегиальной канцелярии определить можно словом «розыск»; точнее – «производство розысков» – следований по делам, поручаемым по мере надобности самим Петром; входя во всё ближайшим образом, император следил за делами канцелярии, о чем ясно свидетельствуют письма Мамонова непосредственно к Петру по разным, часто мелким, делам и дошедший до нас ряд именных указов Петра по делу Гагарина, данных по канцелярии Мамонова. Иногда государь и сам бывал в канцелярии, так как имеется «Указ Великого Государя из канцелярии» ведения Дмитриева-Мамонова. Но если «розыскивание» и «следование» являлись главным делом канцелярии, то полномочия ее в решении и направлении дел были до чрезвычайности шатки, завися, видимо, от каждого конкретного случая, от каждого данного «поручения»; по крайней мере, отсылая одно дело (о злоупотреблении московских дьяков) Мамонову «для решения», Макаров пишет: «…ежели же о том решения учинить собой не можете, и по тому вам доложить Его Царскому Величеству». Как будто сам Мамонов должен решать в каждом случае, может ли он обойтись без государевой воли или нет.

