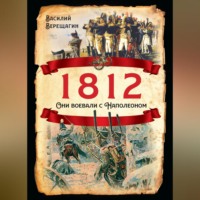Литератор
– Целы ли ваши деньги? – спросил раз смотритель госпиталя, отставной румынский полковник, ухаживавший за ним, как за сыном. – Знаете ли вы, сколько у вас было денег и сколько теперь?
– Право, не смотрел; почему вы об этом спрашиваете?
– Ваша сиделка отпросилась в деревню и так быстро собралась и ушла, что мы подозреваем, не попользовалась ли она чем-нибудь около вас?
– Конечно, попользовалась, – мог только заметить Сергей, когда смотритель освидетельствовал наличные деньги и из двух десятков золотых оказалось на месте только восемь.
Под постоянным действием морфина и удручающего сознания своей немощи и одиночества лежал раз так Верховцев в полудремоте-полусне, когда почувствовал над собою тихое движение воздуха и даже как будто шелест листьев. Что это, галлюцинация? Нет, он ясно слышал, что его обмахивают.
Больной приоткрыл глаза и увидел девушку, свежею веточкой отмахивавшую от него мух.
«Это сон», – подумал он, – девушка знакомая, Наталья Григорьевна, Наталочка; она смотрит добро, нежно и, видя, что он открыл глаза, пожалуй, заговорит, – улыбаясь, поднимает палец к губам: тшшь!
Сергей не шевельнулся, опять сомкнул веки в чувстве неизъяснимого блаженства, наполнившего все его существо; потом, совсем уже открывши глаза, ясно увидел милое, улыбавшееся лицо Наташи и понял, – понял, что свои приехали выручать его.
С этой минуты он стал бодрее духом, стал меньше скучать и больше верить в возможность выздоровления. По временам едва слышным голосом он перекидывался несколькими словами с Наталочкой и Надеждой Ивановной; последняя при виде беспомощного состояния угасавшего «красивого блондина» сменила гнев на милость и, понимая, чье присутствие ему особенно дорого, возможно чаще оставляла Наташу у постели днем, взявши на себя дежурство по ночам.
Ночи были особенно тяжелы с их лихорадочными приступами, в продолжение которых приходилось менять по дюжине рубашек – так быстро они намокали.
Спать при этих лихорадках раненый совсем не мог; как только закрывал он глаза и начинал забываться, страшные, дикие видения, настоящие картины Дантова ада представлялись ему: из неизмеримых темных пространств выносились вперед, освещенные точно заревом пожара, бесконечные вереницы сотен тысяч живых существ, будто ведьм и чертей на палках и метлах. Как только больной начинал дремать, все эти ватаги с искаженными, ярко залитыми красным светом лицами, адски хохотавшими прямо ему в глаза, быстро проносились мимо, уступая место следующим нескончаемым вереницам, и раненый с невольным стоном открывал глаза.
– Что вам, душа моя? – заботливо спрашивала Надежда Ивановна, – не хотите ли пить?
Она опускала нитяную кисточку в кружку с питьем и смачивала засохший язык больного. Тот снова пробовал забыться и снова изнемогал от страшных грез.
Иногда в тишине ночи он перебирал свое прошлое, вспоминал начатые и неоконченные работы: что с ними будет в случае его смерти, неужели станут рыться в его портфелях, самых интимных записках? Пожалуй, издадут в свет все неоконченное, только еще наброшенное?..
Случалось, он спрашивал себя, ладно ли сделал, бросивши, хотя и на время, писать и начавши помогать Скобелеву? Конечно, легко обвинять со стороны, – думал он, – но разве возможно здоровому и сильному человеку спокойно смотреть на кровь и страдания кругом себя, хладнокровно замечать разные недочеты, не стараясь помочь по мере сил? К тому же он много наблюдал, многому учился за это время, – этого не понимают…
Сергей начинал чувствовать, что, несмотря на все старания и усилия докторов, какая-то невидимая сила толкает его в лапы смерти, силы покидают, жизнь отходит. Это читал он и на смущенных лицах окружавших, на заплаканных глазах Наташи, замечал по предупредительности, чуть не нежности Надежды Ивановны.
В одну из бессонных ночей он поверил почтенной женщине маленький секрет. Ему было очень дурно, и тетушка, против обыкновения не клюкавшая носом, с беспокойством следила за его неровным дыханием, когда он назвал ее по имени.
– Что вам, душа моя? – спросила она, нагнувшись к нему, – не хотите ли напиться?
– Нет, наклонитесь еще, – шепнул он, – исполните одну мою просьбу… боюсь, что мне придется скоро умереть…
– Полноте, душа моя, может быть, вы еще выздоровеете…
Как ни был слаб Верховцев, а подумал: «Хорошо утешает; кажется, она совсем собралась хоронить меня».
– Возьмите кусок бумаги, – продолжал он, – запишите имя и адрес особы, которой я попрошу передать, в случае моей смерти, все, что останется после меня в векселе и деньгах.
Надежда Ивановна исполнила.
– Вы любили? – не утерпела она, чтобы не полюбопытствовать.
– Нет, – тихо выговорил Сергей. – Была привязанность и привычка, любви не было. Я полюбил раз в жизни только нынче летом и теперь продолжаю быть верным этой любви… Вы знаете, о ком я говорю, – прибавил он после небольшой паузы и потом замолк, совсем обессиленный.
Надежда Ивановна, конечно, поняла и хотя ничего не сказала, но с этой ночи стала верить в силу любви Сергея Ивановича к Наталке и доброжелательнее относиться к их взаимной склонности. Прежняя тайная и очень нехристианская ее мысль, чтоб он «хоть умер бы поскорее» и освободил страдающую девушку, сменилась желанием ему здоровья, – как знать, может быть, Наташа будет с ним счастлива? Все в божьей власти!
Новый приступ лихорадки, явившийся как раз утром, за ночью сердечных излияний, обеспокоил всех, – раненый был совсем плох, что называется, «краше в гроб кладут».
Во время перевязки в это утро Верховцев заметил, что доктор долго и упорно смотрел на него, ощупывая пульс, а снявши повязку с раны, изменился в лице.
«Что-то есть, – подумал больной, – должно быть, дело плохо. Уж не гангрена ли, которой они так боялись?»
Доктора переглянулись, объяснились полусловами, фельдшера забегали, и Надежда Ивановна объяснила Сергею, что теперь наступит настоящее выздоровление, так как будет сделана маленькая операция.
– Чтобы и вам, с вашей стороны, помочь хорошему исходу дела, – прибавила она, – необходимо, чтобы вы что-нибудь съели; это непременно, непременно нужно!
Уступая просьбам, в числе которых была и усиленная Наташина, больной заставил себя проглотить несколько кусков котлеты, принесенной из лучшего ресторана, после чего было решено тотчас же приступить к операции.
Верховцев больше чувствовал, чем видел то, что делалось около него. Милая Наташа очутилась около изголовья с каким-то мокрым кисейным кружком.
– Что это? – спросил он.
– Хлороформ, – ответила она с боязливою улыбкой, – но вы не бойтесь, дышите!
– Вдыхайте, вдыхайте! – повторили все.
Он вдохнул и… умер или заснул.
Первое, что он увидел по пробуждении, был стакан шампанского перед его ртом.
– Пейте, – сказал доктор.
Вторым представилось ему личико Наташи, по-прежнему боязливо улыбавшееся и вглядывавшееся в него; видно было, что она хотела и не смела надеяться. Сергей, чувствуя себя положительно бодрее, ответил ей едва заметною улыбкой, и девушка просияла.
После операции наступил положительный поворот к лучшему, и выздоровление быстро пошло вперед, – так верен был совет Ликасовского разрезать и очистить рану, которому не решались последовать ранее, пока приближение гангрены не принудило к тому, – госпитальной гангрены, которая давала о себе знать дурным видом раны, покрытой налетом и местами омертвением.
В отношениях Верховцева к Наташе не было ничего нового: по-прежнему они только перекидывались несколькими словами, относившимися к болезни, но он яснее и веселее смотрел на нее, смотрел часто подолгу, и она, чувствуя этот взгляд, без слов, без объяснений понимала, что он любит ее, любит так, как ни Володя и никто не любили ее.
«Ведь это тот самый взгляд, который я и прежде замечала на себе, – думала она, – только тогда он был более робкий, не такой открытый, как же это я не понимала его?»
В часы, когда его лихорадило, Сергей, несмотря на запрещение доктора, был порядочно болтлив; один раз, как он особенно много говорил, она медленно, дружески-наставительно выговорила: «Мы потолкуем об этом после, когда тебе будет лучше!»
Этого Верховцев не ожидал: ощущение счастия и блаженства, охватившее его, было так велико, что сказалось новым приступом лихорадки.
Немец-доктор, давно уже выражавший неудовольствие на то, что у нас в госпиталях допускают в сестры милосердия молодых, хорошеньких девушек, чего у них не было, – он разумел датскую, австрийскую и французскую кампании, сделанные в рядах прусских войск, – решительно посоветовал Надежде Ивановне реже допускать племянницу к изголовью раненого; и умная девушка, по внушению тетки, ловко уверила Сергея в том, будто ей необходимо присматривать еще за двумя ранеными соседней палаты, так что он без протеста согласился отпускать ее.
Новая беда едва не испортила дела выздоровления. Один раз, поправляя постель, Надежда Ивановна невольно вскрикнула.
– Что случилось? – спросил больной, испуганный ее восклицанием.
– Ничего, ничего, капельки крови на простыне, – ответила она ему, потом ушла и, вероятно, перебудоражила всех, потому что скоро явились встревоженные фельдшер и доктор.
– Что вы делаете? Как вы неосторожны! – говорил последний, осматривая рану и посылая за нужными ему вещами. – На этот раз будет недолго, обойдемся без хлороформа; надеюсь, вы будете умны…
Оказалось, что кровь совсем залила кровать, так как рана открылась и остановить кровотечение можно было только забивкою в нее множества маленьких связок или кисточек мягкого шелка.
Сергей кусал пальцы от боли, стараясь не кричать, пока сильные руки доктора буквально раздирали рану, впихивая в нее пучки шелка. Кровь унялась, и дело опять пошло на поправку.
* * *Наташа пришла раз очень веселая.
– Угадай, кого я видела; не угадаешь, наверное, – Володю! Кланяется тебе и просит сказать, что не мог увидеться теперь, так как очень спешит, – он послан курьером в Петербург и заедет на возвратном пути. Он просидел очень недолго, вчера вечером, когда ты уже спал, и прямо от нас переехал через Дунай.
– Не хорошо, что мы не повидались… Не сердит он на меня?
– Может быть, немножко.
– Не ревнует?
– Может быть, немножко.
– Подозревает?
– Может быть, может быть, все может быть, а я все-таки рада, что видела его.
– Почему?
– Так; мне кажется, все выяснилось и для меня, и, вероятно, для него.
– Что же именно?
– Ах, какой ты непонятливый! Впрочем, нет, ты понимаешь, о чем я говорю, только хочешь слышать, как я об этом рассуждаю. Изволь: для меня выяснилось то, что я, в сущности, никогда не любила его, просто была к нему сначала привязана, а потом, когда он пошел на войну… как бы это объяснить?.. очень жалела его.
– Ну, а для него что выяснилось?
– Да почти то же самое: он привык смотреть на меня, как на свою невесту, а любит, пожалуй, не больше, чем других, чем Соню или ту богатую петербургскую барышню, о которой рассказывал, что она неравнодушна к нему и хочет заставить жениться на себе. Впрочем, нет, я несправедлива, он любит меня больше, чем их, но я думаю, почти уверена, что еще не решил окончательно, на ком женится: на мне или на той богатой барышне, – на Соне он не женится, за нею мало приданого, – видишь, какая я проницательная!.. Я заметила в нем какую-то осторожность, – я ведь уже не маленькая, мне девятнадцать лет, все замечаю, – точно он боялся увлечься и сказать больше, чем следует, что-нибудь такое, что связало бы его на будущее время. О, я все, все замечаю!
– Ну, если ты такая «замечательная», скажи мне, что ты подметила за мною?
– Что подметила? – Наташа рассказала, что прежде ничего не замечала, даже не смела замечать, считала его гордым, неприступным, таким, какой он и теперь в ее глазах относительно других. Как глупая, мимолетная мысль, ей приходило в голову, что, верно, он кого-нибудь любит, и если уж сказать всю правду, – а с ним она хочет быть совсем, совсем откровенна, ничего от него не утаивать, на условии, что и он с своей стороны заплатит ей тем же, да, да? ведь так? – если сказать всю правду, ей хотелось быть на месте той, которую он любит. Только не приходило в голову, чтоб это было возможно.
– Почему?
– Так, потому… потому что мы – не пара.
– Это почему, разница в летах?
– Нет, потому, что ты умный, ты учился, а я дурочка, ничему не училась.
– Что за вздор! Мы не пара скорее по летам: ты гораздо моложе меня.
– Нет, этому я рада, это дает мне выгоду над тобою и немножко приближает меня к тебе; если бы ты был еще старше, седой, я была бы еще больше рада…
– Какой вздор, какой вздор! Ну, а Володя тебе пара?
– Нет, и Володя не пара; я уже думала об этом, особенно с тех пор, как мы с тобой сошлись. Видишь: он городской, «заражен Петербургом», как, помнишь, ты говорил, а я совсем деревенская; я говорю, что придет в голову, а он только то, что считает приличным. Он любит общество, без него жить не может, а я нет. Он любит быть постоянно в мундире, болтать с дамами, любезничать, танцевать, а я… пожалуй, и я люблю быть хорошо, к лицу одетой, но кавалеров, говорящих любезности, я не люблю, танцевать тоже разлюбила… Словом, я вижу, что не любила Володю, даже если и думала это прежде, так как я теперь только поняла, что такое настоящая любовь, – Наташа как будто вспомнила что-то, верно, из своего интимного прошлого, потому что немножко покраснела, но, как бы отвечая на это воспоминание, еще раз прибавила: – Нет и нет, я его не любила, как не любила и то общество разных модных дам и кавалеров, которое ему мило, – видишь, какая я злая!
– Что же ты любишь? – допрашивал неугомонный Сергей.
Наталка приняла серьезный вид и начала высчитывать по пальцам.
– Люблю думать, – сказала она, загибая мизинец, – люблю читать, – загнула второй палец, – люблю дружески разговаривать, – загнула третий палец, – но не со многими сразу и не с «кавалерами», – она улыбнулась, – а с людьми неглупыми и простыми. Больше всего и прежде, и теперь любила и люблю говорить с тобой, люблю слушать тебя, – ты так хорошо говоришь, – все бы сидела и слушала тебя.
– А когда ты поцелуешь меня? – тихо спросил Сергей.
– Довольно, однако, мы заболтались, это я виновата, лежи смирно и постарайся заснуть, пока я пойду в другую палату, к другим больным.
Новый, совершенно беспричинный приступ лихорадки, охвативший Верховцева в этот же вечер, заставил доктора решительно потребовать, чтобы Наташа реже приходила к больному, меньше оставалась и говорила с ним. Доктор стал подозревать отношения молодых людей, и Надежда Ивановна, как виноватая, выслушав выговор, не только намылила голову племяннице, но и серьезно пристращала немедленным отъездом в деревню.
Однако Сергей все-таки поправлялся быстро, рана на груди уже зажила, и голова была ясна. Нога тоже стала совсем заживать, хотя он все еще лежал, не поворачиваясь, так что страшные пролежни на «здоровом» боку стоили немалых хлопот Надежде Ивановне, ухаживавшей за ним, как за родным сыном. Теперь она уже попросту журила его за беспокойное лежание, последствием которого были иногда струйки крови, и – последнее доказательство дружбы и интимности – каждый день вытирала все его тело одеколоном с водою, не стесняясь, как бы делала это с Наталочкою.
В дни ясной и даже теплой погоды, часто стоявшей в конце сентября, когда воздух широкою струей входил в окна из больничного сада, особенно трудно было неподвижно лежать в постели. Один раз раненому так захотелось встать, что, уступая его настоянию, доктор с Надеждою Ивановной обвели его кругом комнаты: нога еще не действовала, подгибалась, приходилось волочить ее, и усилие вызвало снова кровь в рану; тем не менее больной набрался храбрости и стал каждый день вставать, а вскоре даже и выезжать кататься. Мало того, он задумал покинуть госпиталь и при первой возможности удрать в действующую армию, о чем пока не проговаривался даже и Наташе.
Давно уже манила его мысль снова присоединиться к Скобелеву. Что-то он теперь поделывает? По вестям, до него доходившим, Плевна была обложена плотнее, так как пришло много подкреплений и дело осады сосредоточено в руках Тотлебена; ждали решительных действий на Софийском шоссе, по которому турки получали всю помощь войсками, снарядами и припасами и где действовал энергичный и рассудительный генерал Гурко с гвардией.
К Верховцеву заезжали в госпиталь немногие знакомые из армии, между другими и Скобелев, который не мог видеть больного, так как ему было тогда очень плохо; приезжали многие ехавшие из России и возвращавшиеся туда, любопытствовавшие узнать о здоровье «молодого талантливого литератора», чуть было не потерянного родиною.
Иллюстрация поместила портрет Сергея с известием о его геройской смерти и с посмертною биографией его. Потом она, как и другие газеты, известила, что, к счастью, молодой талант не погиб, что Верховцев лежит в бухарестском госпитале и подает надежду на выздоровление, так как раны его не серьезны.
Спустя некоторое время, однако, появилось известие, что одна из ран оказалась опаснее, чем думали сначала, и что больной в критическом положении, – все это возбуждало большой интерес и внимание в обществе, и желавших видеть Верховцева, лично убедиться в состоянии его здоровья было так много, что в непрерывном ряду посетителей Надежде Ивановне, не мало польщенной этою ролью, приходилось делать выбор и пускать лишь избранных, предваряя их о необходимости щадить силы больного.
«Шестая великая держава», газета Times[23], знавшая имя Верховцева по литературным работам его, переведенным на английский язык, выразилась, что «смерть Верховцева была бы для России равносильна потере большого сражения». Наташа была в восторге от этого определения значения ее друга и жениха.
– Чему ты радуешься? – спрашивал ее Сергей, как будто не понимая причины ее радости, в сущности же, сам польщенный и этим видимым знаком уважения представителя иностранной прессы, и гордостью своей невесты.
– Радуюсь тому, что ты знаменит. Это только справедливо, но это же и печалит меня.
– Почему? – спросил он, заранее угадывая ответ.
– Потому что мы – не пара.
– Летами, конечно, не пара: я на целых пятнадцать лет старше тебя.
– Не летами, а умами; я не шутя боюсь, что тебе со мною будет скучно. Ты все знаешь, все читал, все видел. Даже в музыке, хотя и не знаешь нот, понимаешь больше меня, слышал почти все оперы, повторяешь много мотивов…
Как ни оспаривал, ни разуверял ее Сергей, она оставалась при своем мнении и твердила одно и то же: не пара да не пара!
– Почему, – спросил он, – летом, еще когда я гостил у дяди, ты, заметивши, как говоришь, что я на тебя заглядываюсь, не подумала о том, что мы могли бы быть счастливы вместе? Помнится, у вас не было особенной близости с твоим «кузинчиком», как ты его называла; он даже больше ухаживал тогда за твоею приятельницей, чем за тобою.
– Потому что это мне и в голову не приходило, не могло прийти.
– Да почему же?
– Потому, что это было бы уже слишком хорошо, я не смела об этом и думать.
– Вот тебе на! Отчего это?
– Потому, что мы – не пара…
Между посещавшими теперь Верховцева был и казацкий офицер, бывший товарищ по несчастию; он давно уже выздоровел, побывал в Ставрополе и, хорошо отгулявшийся, возвращался к своей части. Воин степей ликовал, потому что узнал, по письмам из отряда, о представлении его к «Владимиру».
– Думаете, дадут? – спросил Сергей, помня доводы приятеля против возможности получения этой высокой награды без протекции.
– Выйдет, беспременно выйдет! – уверенно отвечал казак, весело поворачиваясь на каблуках. – Коли «наш генерал» представил, так выйдет: он все штатуты знает наизусть, «умеет», к чему представить. – Видимо, и статуты, о которых прежде он отзывался презрительно, получили значение в его глазах.
Приезжал также товарищ Сергея по службе при Скобелеве, есаул Таранов, из кавказских горцев. Он пришел во время сна Верховцева, присел пока в комнате сестер и рассказал им многое из боевой жизни в отряде вообще и деятельности Сергея Ивановича в особенности.
– Верьте, сударыня, – говорил он с увлечением и искренностью первобытного или, как Скобелев называл его, «дикого человека», – верьте, что это герой, храбрец, каких мало в армии. Ему давно следовало бы дать все четыре креста. Вы думаете, я преувеличиваю? – нет, зачем, я с ним каждый день был вместе, хорошо его узнал. Кто из нас не рубил, я и сам не одного зарубил под Ловчей, но он ходил в атаку, не вынимая шашки, бил турок плетью. Ей-богу, я сам это видел… Ведь семь лошадей под ним убили!
И Таранов ударял себя по груди, в знак уверенности в том, что говорил.
– Если бы вы только слышали, как жаловался мне на него командир наших черноморцев за то, что он извел столько лошадей. Полковник заикается и смешно сердится: «Прих…ходит ко мне – д…дай, брат, к…коня! – А г…где же т…твой? – У…убили! – Я д…дал л…лошадь. Смот…трю, оп…пять идет: – Д…дай, пож…жалуйста, к…коня! – А гд…де же т…тот? – У…убили! – Дал еще л…лошадь. Что ж ты д…думаешь, оп…пять п…приходит: – Д…дай, с…сделай ми…милость, к…коня! – Нет, с…слуга пок…корный!»… Все мы устали около Михаила Дмитриевича, всех он загонял, и мы стараемся просто не показываться ему на глаза, особенно вечером, чтоб он не послал куда в темноту, иногда, правду сказать, без нужды. Днем куда пошлет – съездишь, исполнишь, да и засядешь в виноградник – отдохнуть, поесть, поспать, один Сергей Иванович всегда у него на виду; зато же генерал и заездил его: не успеет тот стакана чая выпить, как Михаил Дмитриевич уже кричит: «Вегховцева позвать!» Нас, как мы отсидимся в винограднике, хоть и выбранит, – он хорошо представил, как Скобелев бранит: «Чегт знает где вы там все вгемя шгяетесь!» – а все-таки оставит в покое, хоть на некоторое время, а его сейчас опять пошлет.
Наташа не утерпела, чтобы не спросить, правда ли то, что она слышала в ресторане, будто Сергей Иванович завел один раз пехотный полк дальше, чем следует, чем ему это было указано Скобелевым и его начальником штаба, и что полк этот разбили?
– Ветлужский полк, знаю. Вздор! – живо ответил Таранов. – Я хорошо знаю эту историю. Михаил Дмитриевич добрый человек, но когда у него выйдет что-нибудь неладное, он сгоряча, не разобравши дела, обрушится на того, кто подвернется. Сергей Иванович хорошо изучил местность, и Скобелев часто поручал ему разводить войска; он провел Ветлужский полк и указал ему ту высоту, которую следовало занять, но солдаты увлеклись и полезли дальше, на следующую, – попробуйте их остановить!.. Помилуйте, я хорошо это дело знаю, – видимо, волнуясь воспоминанием, говорил Таранов, – Светницкий ведь сам видел и рассказывал мне, что Сергей Иванович на его глазах скакал и кричал: «Ветлужцы, стой, стой!» – но его не слушали, не слушали и офицеров… Полковой командир, чтобы не быть в ответе, и говорит Михаилу Дмитриевичу: так и так, ваше превосходительство, ординарец ваш завел нас. Ну, Скобелев напал на Сергея Ивановича…
– Смотрите, не говорите с ним об этом сегодня, – предупредила Наташа.
– Конечно, конечно, – поспешил уверить Таранов и не утерпел: просидел до полуночи, вспоминая это и другие дела недавнего прошлого; да и как было утерпеть – чего-чего не переговорили они об одном Михаиле Дмитриевиче!
Рана Сергея была еще не закрыта, но он был уже настолько крепок, что свободно ходил и ездил по городу, причем Наташа всегда требовала, чтобы он носил солдатский Георгиевский крест, недавно полученный.
«Скажи своему бесчинному приятелю, если найдешь его в живых, – сказал его светлость Володе, – что государь лично приказал послать ему солдатского „Егорья“»; но Владимир не мог тогда передать об этом высоком подарке, уведомление о котором было прислано уже в госпиталь, причем был препровожден и самый крест.
* * *Сергей и Наташа проводили теперь почти все время в больничном саду, так как погода, при свежих утренниках, стояла еще теплая. Они строили там немало планов относительно их будущей жизни вдвоем: решено было, прежде всего, съездить за границу для поправления здоровья, а потом начать ездить по России и изучать ее во всех отношениях, чтобы творить после сознательно, с готовым материалом в руках. Наташа, с своей стороны, обещала снова приняться за музыку, в которой полгода тому назад она была довольно сильна уже.
– Нужно много, много потрудиться, – говорил Верховцев. – Я твердо верю, что только при этом условии мы можем быть счастливы. Мы должны купить право быть счастливыми трудом и прилежанием, – правда?
Наташа вполне соглашалась и приходила в восхищение от мысли о том, что они будут много путешествовать. Куда бы они ни поехали, она будет вести дневник, – на этом условии ей было обещано, что если средства позволят, они поедут на крайний восток, – туда девушку, по ее словам, «неудержимо манило».