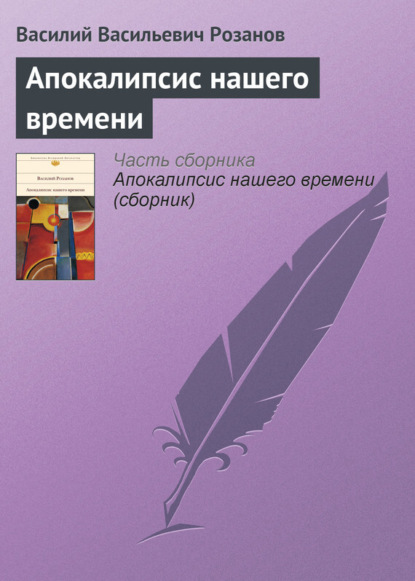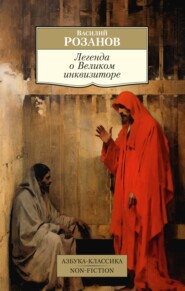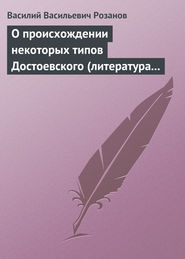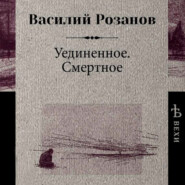По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Апокалипсис нашего времени
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
. . . . . . . . . . . . .
Ни один народ не может. Никто из человечества…
Ни мудрец, ни ученый, ни историк.
И стал он поругаемым народом, имя которого обозначает хулу. И имя которого, национальное имя, стало у каждого племени ругательным названием всякого человека, к кому оно приложится в этом чужом племени.
О, что же случилось?..?..
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
Больше, больше: будем ли мы читать «Летопись Тацита» – когда томимся? Или – Геродота о скифах и Вавилоне? Будем ли читать о Пелопоннесской войне – Фукидида? Нет, нет: когда в томлении душа — то как все это чуждо и посторонне… Все это мы изучали бы, только чтобы прочесть лекцию, написать ученый труд, и – «так, от некоторого безделья».
Но вот – юная вдова, подбирающая колосья пшеницы на поле богатого землевладельца: и то, как она это делает, – и слова ее своей свекрови, – проливают в душу утешения. И много еще…
Народ этот пролил утешение во все сердца.
И все-таки он проклят. Что же случилось, – о, что такое, особенное???…?
* * *
Сказать: «утешение» — и это сказать все о том народе. Читаем ли мы хронику о Меровингах у Григория Турского или изящные очерки Августина Тьери, написанные по канве этой хроники, – мы в обоих случаях читаем милое, грациозное, прелестное. Но это чтение дает только наслаждение вкусу, душа же остается если не холодною, то спокойною. Но вот мы читаем о войне, о грозе: один царь – победитель, другой – побежден. Побежденный боится за жизнь свою, обыкновенно боится – как боялся бы каждый человек, и ищет потаенной комнаты во дворце своем. Победитель спрашивает о враге своем, и ему приближенные передают о всем унижении и страхе, в каком тот находится. Вдруг победитель отвечает вовсе не тем гордым, самоуверенным тоном, какой так естествен в самоупоении победы и каким в самоупоении победы говорили gee цари и полководцы, а – совсем иным, новым, неожиданным:
«Зачем он бежит от меня? Он – брат мой».
Кто в историях Ассирии видал, как со связанными за спиною руками пленник стоит перед победившим царем на коленях, а ассирийский царь, подняв копье, выкалывает ему глаза, и вместе примет во внимание, что переименование «врага» в «брата своего» произошло в туже самую эпоху, тот оценит всю разницу в душевном строе одного и другого. И поймет, почему я упорно называю «утешением» то особое чувство, какое льется на душу читателя от истории этого единственного народа.
И он – проклят.
Но тогда что же случилось, почему мы так же ненавидим этот народец, как ассирияне ненавидели своих врагов. И, оглядываясь на цивилизацию нашу, не подумаем ли о ней с печалью строк, сказанных Алексеем Толстым:
Ассирияне шли как на стадо волки,
В багреце их и в злате сияли полки,
И без счета их копья сверкали окрест,
Как в волнах Галилейских мерцание звезд.
Словно листья дубравные в летние дни,
Еще вечером так красовались они;
Словно листья дубравные в вихре зимы.
Их к рассвету лежали развеяны тьмы.
Ангел смерти лишь на-ветер крылья простер
И дохнул им в лицо, и померкнул их взор.
И на мутные очи пал сон без конца,
И лишь раз поднялись и остыли сердца.
Вот расширивший ноздри, повергнутый конь,
И не пышет из них гордой силы огонь,
И как хладная влага на бреге морском.
Так предсмертная пена белеет на нем.
Вот и всадник лежит, распростертый во прах,
На броне его ржа, и роса на власах;
Безответны шатры, у знамен ни раба,
И не свищет копье и не трубит труба.
И Ассирии вдов слышен плач на весь мир,
И во храме Ваала низвержен кумир,
И народ, не сраженный мечом до конца,
Весь растаял, как снег, перед блеском Творца!
И вот народ, который всемирно был утешителем всех скорбных, утомленных, нуждающихся в свете душ, – теперь во тьме, и не только сам без утешения, но пинаем и распинаем… Что же, что такое случилось? Явно – случилось в планете и в судьбах человечества?
Ежедневность
Булочки, булочки…
Хлеба пшеничного…
Мясца бы немного…
* * *
Это ужасное замерзание ночью. Страшные мысли приходят. Есть что-то враждебное в стихии «холода» – организму человеческому, как организму «теплокровному». Он боится холода, и как-то душевно боится, а не кожно, не мускульно. Душа его становится грубою, жесткою, как «гусиная кожа на холоду». Вот вам и «свобода человеческой личности». Нет, «душа свободна» – только если «в комнате тепло натоплено». Без этого она не свободна, а боится, напугана и груба.
* * *
Впечатления еды теперь главные. И я заметил, что, к позору, и господа и прислуга это равно замечают. И уже не стыдится бедный человек, и уже не стыдится горький человек. Проехав на днях в Москву, прошелся по Ярославскому вокзалу, с грубым желанием видеть, что едят. Провожавшая меня дочь сидела грустно, уткнувшись носиком в муфту. Один солдат, вывернув из тряпки огромный батон (витой хлеб пшеничный), разломил его широким разломом и начал есть, даже не понюхав. Между тем пахучесть хлеба, как еще пахучесть мяса во щах, есть что-то безмерно неизмеримее самого напитания. О, я понимаю, что в жертвеннике Соломонова храма были сделаны ноздри и сказано, – о Боге сказано, – что он «вдыхает туки своих жертв».
Солнце
Заботится ли солнце о земле?
Не из чего не видно: оно ее «притягивает прямо пропорционально массе и обратно пропорционально квадратам расстояний».
Таким образом, 1-й ответ о солнце и о земле Коперника был глуп.
Просто – глуп.
Он «сосчитал». Но «счет» в применении к нравственному явлению я нахожу просто глупым.
Он просто ответил глупо, негодно.
С этого глупого ответа Коперника на нравственный вопрос о планете и солнце началась пошлость планеты и опустошение Небес.
«Конечно, – земля не имеет об себе заботы солнца, а только притягивается по кубам расстояний».
Тьфу.