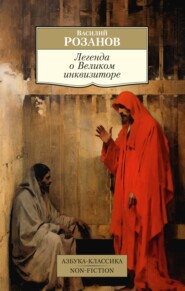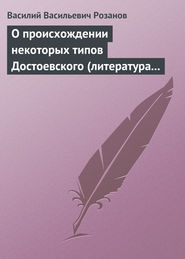По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Уединенное
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Дурак. Ты бы лучше пек булки.
Совершенно естественно.
Такая неестественно отвратительная фамилия дана мне в дополнение к мизерабельному виду. Сколько я гимназистом простаивал (когда ученики разойдутся из гимназии) перед большим зеркалом в коридоре, – и «сколько тайных слез украдкой» пролил. Лицо красное. Кожа какая-то неприятная, лоснящаяся (не сухая). Волосы прямо огненного цвета (у гимназиста) и торчат кверху, но не благородным «ежом» (мужской характер), а какой-то поднимающейся волной, совсем нелепо, и как я не видал ни у кого. Помадил я их, и все – не лежат. Потом домой приду, и опять зеркало (маленькое, ручное): «Ну кто такого противного полюбит». Просто ужас брал: но меня замечательно любили товарищи, и я всегда был «коноводом» (против начальства, учителей, особенно против директора). В зеркало, ища красоты лица до «выпученных глаз», я, естественно, не видел у себя «взгляда», «улыбки», вообще, жизни лица и думаю, что вот эта сторона у меня – жила, и пробуждала то, что меня все-таки замечательно и многие любили (как и я всегда, безусловно, ответно любил).
Но в душе я думал:
– Нет, это кончено. Женщина меня никогда не полюбит, никакая. Что же остается? Уходить в себя, жить с собою, для себя (не эгоистически, а духовно), для будущего. Конечно, побочным образом и как «пустяки», внешняя непривлекательность была причиною самоуглубления.
Теперь же это мне даже нравится, и что «Розанов» так отвратительно; к дополнению: я с детства любил худую, заношенную, проношенную одежду. «Новенькая» меня всегда жала, теснила, даже невыносима была. И, словом, как о вине:
Чем старее, тем лучше
– так точно я думал о сапогах, шапках и о том, что «вместо сюртука». И теперь стало все это нравиться:
– Да просто я не имею формы (causa formalis Аристотеля). Какой-то «комок» или «мочалка». Но это оттого, что я весь – дух, и весь – субъект: субъективное действительно развито во мне бесконечно, как я не знаю ни у кого, не предполагал ни у кого. «И отлично»… Я «наименее рожденный человек», как бы «еще лежу (комком) в утробе матери» (ее бесконечно люблю, т. е. покойную мамашу) и «слушаю райские напевы» (вечно как бы слышу музыку, – моя особенность). И «отлично! совсем отлично!» На кой черт мне «интересная физиономия» или еще «новое платье», когда я сам (в себе, «комке») бесконечно интересен, а по душе – бесконечно стар, опытен, точно мне 1000 лет, и вместе – юн, как совершенный ребенок… Хорошо! Совсем хорошо…
(за нумизматикой).
* * *
Голубая любовь
…И всякий раз, как я подходил к этому высокому каменному дому, поднимаясь на пригорок, я слышал музыку. Гораздо позднее узнал я, что это «гаммы». Они мне казались волшебными. Медленно, задумчиво я шел до страшно парадного-парадного подъезда, огромной прихожей-сеней, и, сняв гимназическое пальто, всегда проходил к товарищу.
Товарищ не знал, что я был влюблен в его сестру. Видел я ее раз – за чаем, и раз – в подъезде в Дворянское собрание (симфонический концерт). За чаем она говорила с матерью по-французски, я сильно краснел и шушукался с товарищем.
Потом уже чай высылали нам в его комнату. Но из-за стены, не глухой, изредка я слышал ее серебристый голос, – о чае или о чем-то…
А в подъезде было так: я не попал на концерт или вообще что-то вышли… Все равно. Я стоял около подъезда, к которому все подъезжали и подъезжали, непрерывно много. И вот из одних санок выходит она с матерью – неприятной, важной старухой.
Кроме бледного худенького лица, необыкновенно изящной фигуры, чудного очертания ушей, прямого небольшого носика, такого деликатного, мое сердце «взяло» еще то, что она всегда имела голову несколько опущенную – что вместе с фигурой груди и спины образовывало какую-то чарующую для меня линию. «Газель, пьющая воду»… Кажется, главное очарование заключалось в движениях, каких-то волшебно-легких… И еще самое главное, окончательное – в душе.
Да, хотя: какое же я о ней имел понятие?
Но я представлял эту душу – и все движения ее подтверждали мою мысль – гордою. Не надменною: но она так была погружена в свою внутреннюю прелесть, что не замечала людей… Она только проходила мимо людей, вещей, брала из них нужное, но не имела с ними другой связи. Оставаясь одна, она садилась за музыку, должно быть… Я знал, что она брала уроки математики у местного учителя гимназии, – высшей математики, так как она уже окончила свой институт. «Есть же такие счастливцы» (учитель).
Однажды мой товарищ в чем-то проворовался; кажется подделал баллы в аттестате: и, нелепо – наивно передавая мне, упомянул:
Сестра сказала маме: «Я все отношу это к тому, что Володя дружен с этим Розановым… Это товарищество на него дурно влияет. Володя не всегда был таким…»
Володя был глупенький, хорошенький мальчик – какой-то «безответственный». Я писал за него сочинения в классе, и затем мы «болтали»… Но «дурного влияния» я на него не оказывал, потому что по его детству, наивности и чепухе на него нельзя было оказать никакого «влияния».
Я выслушал молча…
Но как мне хотелось тогда умереть.
Дай не «тогда» только: мне все казалось – вообще, всегда, – что меня «раздавили на улице лошади». И вот она проезжает мимо. Остановили лошадей. И, увидев, что это «я», она проговорила матери:
Бедный мальчик… Может быть, он не был такой дурной, как казался. Верно, ему было больно. Все-таки его жаль.
* * *
В террор можно и влюбиться и возненавидеть до глубины души, – и притом с оттенком «на неделе семь пятниц», без всякой неискренности. Есть вещи, в себе диалектические, высвечивающие (сами) и одним светом и другим, кажущиеся с одной стороны – так, а с другой – иначе. Мы, люди, страшно несчастны в своих суждениях перед этими диалектическими вещами, ибо страшно бессильны. «Бог взял концы вещей и связал в узел, – неразвязываемый». Распугать невозможно, а разрубить – все умрет. И приходится говорить – «синее, белое, красное». Ибо всё – есть. Никто не осудит «письма Морозова из Шлиссельбурга» (в «Вестн. Евр.»), но его «Гроза в буре» нелепа и претенциозна. Хороша Геся Гельфман, – но кровавая Фрумкина мне органически противна, как и тыкающий себя от злости вилкой Бердягин. Всё это – чахоточные, с чахоткой в нервах Ипполиты (из «Идиота» Дост.). Нет гармонии души, нет величия. Нет «благообразия», скажу термином старца из «Подростка», нет «наряда» (одежды праздничной), скажу словами С.М. Соловьева, историка.
* * *
Как ни страшно сказать, вся наша «великолепная» литература в сущности ужасно недостаточна и не глубока. Она великолепно «изображает»; но то, что она изображает, – отнюдь не великолепно, и едва стоит этого мастерского чекана.
XVIII век – это все «помощь правительству»: сатиры, оды, – всё; Фонвизин, Кантемир, Сумароков, Ломоносов, – всё и все.
XIX век в золотой фазе отразил помещичий быт.
Татьяны милое семейство,
Татьяны милый идеал.
Да, хорошо… Но что же, однако, тут универсального?
Почему это нужно римлянину, немцу, англичанину? В сущности, никому, кроме самих русских, не интересно.
Что же потом и особенно теперь? Все эти трепетания Белинского и Герцена? Огарев и прочие? Бакунин? Глеб Успенский и мы? Михайловский? Исключая Толстого (который в этом пункте исключения велик), все это есть производное от студенческой «курилки» (комната, где накурено) и от тощей кровати проститутки. Все какой-то анекдот, приключение, бывающее и случающееся, – черт знает, почему и для чего. Рассуждения девицы и студента о Боге и социальной революции – суть и душа всего; все эти «социал-девицы» – милы, привлекательны, поэтичны; но «почему сие важно»? I Важного никак отсюда ничего не выходит. «Нравы Растеряевой улицы» (Гл. Успенского, впрочем, не читал, знаю лишь заглавие) никому решительно не нужны, кроме попивающих чаек читателей Гл. Успенского и полицейского пристава, который за этими «нравами» следит «недреманным оком». Что такое студент и проститутка, рассуждающие о Боге? Предмет вздоха ректора, что студент не занимается и – усмешки хозяйки «дома», что девица не «работает». Все это просто не нужно и не интересно, иначе как в качестве иногда действительно прелестного сюжета для рассказа. Мастерство рассказа есть и остается, «есть литература». Да, но – как чтение. Недоумение Щедрина, что «читатель только почитывает» литературу, которую писатель «пописывает», – вовсе неосновательно в отношении именно русской литературы, с которою что же и делать, как ее не «почитывать», ибо она, в сущности, единственно для этого и «пишется»…
В сущности, все – «сладкие вымыслы»:
Не для бедствий нам существенных
Даны вымыслы чудесные…
как сказал красиво Карамзин. И все наши «реалисты», и Михайловский, суть мечтатели для бумаги, – в лучшем случае полной чести («честный писатель»).
Лет шесть назад «друг» мне передал, вернувшись из церкви «Всех скорбящих» (на Шпалерной): – «Пришла женщина, не старая и не молодая. Худо одета. Держит за руки шесть человек детей, все маленькие. Горячо молилась и все плакала. Наверное, не потеряла мужа, – не те слезы, не тот тон. Наверно, муж или пьет, или потерял место. Такой скорби, такой молитвы я никогда не видывала».
Вот это в Гл. Успенского никак не «влезет», ибо у Гл. Успенского «совсем не тот тон».
Вообще семья, жизнь, не социал-женихи, а вот социал-трудовики – никак не вошли в русскую литературу. На самом деле труда-то она и не описывает, а только «молодых людей», рассуждающих «о труде». Именно – женихи и студенты; но ведь работают-то в действительности – не они, а – отцы. Но те все – «презираемые», «отсталые»; и для студентов они то же, что куропатки для охотника.
Здесь великое исключение представляет собою Толстой, который отнесся с уважением к семье, к трудящемуся человеку, к отцам… Это – впервые и единственно в русской литературе, без подражаний и продолжений. От этого он не кончил и «Декабристов», собственно по великой пустоте сюжета. Все декабристы суть те же «социал-женихи», предшественники проститутки и студента, рассуждающих о небе и земле. Хоть и с аксельбантами и графы. Это не трудовая Руси и Толстой бросил сюжет. Тут его серьезное и благородное. То, что он не кончил «Декабристов» – столь же существенно и благородно, так же оригинально и величественно, как и то, что он изваял и кончил «Войну и мир» и «Каренину».
Конечно, не Пестель-Чацкий, а Кутузов-Фамусов держит на плечах своих Россию, «какая она ни есть». Пестель решительно ничего не держит на плечах, кроме эполет и самолюбия. Я понимаю, что Фамусов немногого стоит, как и Кутузов – не золотой кумир. Но ведь и русская история вообще еще почти не начиналась. Жили «день за днем – сутки прочь»…
* * *
Ну, – вот ты всех пересудил… Но сам кого лучше?
– Никого. Но я же и говорю, что нам плакать не об обстоятельствах своей жизни, а о себе.
Совсем другая тема, другое направление, другая литература.
(за нумизматикой).
Совершенно естественно.
Такая неестественно отвратительная фамилия дана мне в дополнение к мизерабельному виду. Сколько я гимназистом простаивал (когда ученики разойдутся из гимназии) перед большим зеркалом в коридоре, – и «сколько тайных слез украдкой» пролил. Лицо красное. Кожа какая-то неприятная, лоснящаяся (не сухая). Волосы прямо огненного цвета (у гимназиста) и торчат кверху, но не благородным «ежом» (мужской характер), а какой-то поднимающейся волной, совсем нелепо, и как я не видал ни у кого. Помадил я их, и все – не лежат. Потом домой приду, и опять зеркало (маленькое, ручное): «Ну кто такого противного полюбит». Просто ужас брал: но меня замечательно любили товарищи, и я всегда был «коноводом» (против начальства, учителей, особенно против директора). В зеркало, ища красоты лица до «выпученных глаз», я, естественно, не видел у себя «взгляда», «улыбки», вообще, жизни лица и думаю, что вот эта сторона у меня – жила, и пробуждала то, что меня все-таки замечательно и многие любили (как и я всегда, безусловно, ответно любил).
Но в душе я думал:
– Нет, это кончено. Женщина меня никогда не полюбит, никакая. Что же остается? Уходить в себя, жить с собою, для себя (не эгоистически, а духовно), для будущего. Конечно, побочным образом и как «пустяки», внешняя непривлекательность была причиною самоуглубления.
Теперь же это мне даже нравится, и что «Розанов» так отвратительно; к дополнению: я с детства любил худую, заношенную, проношенную одежду. «Новенькая» меня всегда жала, теснила, даже невыносима была. И, словом, как о вине:
Чем старее, тем лучше
– так точно я думал о сапогах, шапках и о том, что «вместо сюртука». И теперь стало все это нравиться:
– Да просто я не имею формы (causa formalis Аристотеля). Какой-то «комок» или «мочалка». Но это оттого, что я весь – дух, и весь – субъект: субъективное действительно развито во мне бесконечно, как я не знаю ни у кого, не предполагал ни у кого. «И отлично»… Я «наименее рожденный человек», как бы «еще лежу (комком) в утробе матери» (ее бесконечно люблю, т. е. покойную мамашу) и «слушаю райские напевы» (вечно как бы слышу музыку, – моя особенность). И «отлично! совсем отлично!» На кой черт мне «интересная физиономия» или еще «новое платье», когда я сам (в себе, «комке») бесконечно интересен, а по душе – бесконечно стар, опытен, точно мне 1000 лет, и вместе – юн, как совершенный ребенок… Хорошо! Совсем хорошо…
(за нумизматикой).
* * *
Голубая любовь
…И всякий раз, как я подходил к этому высокому каменному дому, поднимаясь на пригорок, я слышал музыку. Гораздо позднее узнал я, что это «гаммы». Они мне казались волшебными. Медленно, задумчиво я шел до страшно парадного-парадного подъезда, огромной прихожей-сеней, и, сняв гимназическое пальто, всегда проходил к товарищу.
Товарищ не знал, что я был влюблен в его сестру. Видел я ее раз – за чаем, и раз – в подъезде в Дворянское собрание (симфонический концерт). За чаем она говорила с матерью по-французски, я сильно краснел и шушукался с товарищем.
Потом уже чай высылали нам в его комнату. Но из-за стены, не глухой, изредка я слышал ее серебристый голос, – о чае или о чем-то…
А в подъезде было так: я не попал на концерт или вообще что-то вышли… Все равно. Я стоял около подъезда, к которому все подъезжали и подъезжали, непрерывно много. И вот из одних санок выходит она с матерью – неприятной, важной старухой.
Кроме бледного худенького лица, необыкновенно изящной фигуры, чудного очертания ушей, прямого небольшого носика, такого деликатного, мое сердце «взяло» еще то, что она всегда имела голову несколько опущенную – что вместе с фигурой груди и спины образовывало какую-то чарующую для меня линию. «Газель, пьющая воду»… Кажется, главное очарование заключалось в движениях, каких-то волшебно-легких… И еще самое главное, окончательное – в душе.
Да, хотя: какое же я о ней имел понятие?
Но я представлял эту душу – и все движения ее подтверждали мою мысль – гордою. Не надменною: но она так была погружена в свою внутреннюю прелесть, что не замечала людей… Она только проходила мимо людей, вещей, брала из них нужное, но не имела с ними другой связи. Оставаясь одна, она садилась за музыку, должно быть… Я знал, что она брала уроки математики у местного учителя гимназии, – высшей математики, так как она уже окончила свой институт. «Есть же такие счастливцы» (учитель).
Однажды мой товарищ в чем-то проворовался; кажется подделал баллы в аттестате: и, нелепо – наивно передавая мне, упомянул:
Сестра сказала маме: «Я все отношу это к тому, что Володя дружен с этим Розановым… Это товарищество на него дурно влияет. Володя не всегда был таким…»
Володя был глупенький, хорошенький мальчик – какой-то «безответственный». Я писал за него сочинения в классе, и затем мы «болтали»… Но «дурного влияния» я на него не оказывал, потому что по его детству, наивности и чепухе на него нельзя было оказать никакого «влияния».
Я выслушал молча…
Но как мне хотелось тогда умереть.
Дай не «тогда» только: мне все казалось – вообще, всегда, – что меня «раздавили на улице лошади». И вот она проезжает мимо. Остановили лошадей. И, увидев, что это «я», она проговорила матери:
Бедный мальчик… Может быть, он не был такой дурной, как казался. Верно, ему было больно. Все-таки его жаль.
* * *
В террор можно и влюбиться и возненавидеть до глубины души, – и притом с оттенком «на неделе семь пятниц», без всякой неискренности. Есть вещи, в себе диалектические, высвечивающие (сами) и одним светом и другим, кажущиеся с одной стороны – так, а с другой – иначе. Мы, люди, страшно несчастны в своих суждениях перед этими диалектическими вещами, ибо страшно бессильны. «Бог взял концы вещей и связал в узел, – неразвязываемый». Распугать невозможно, а разрубить – все умрет. И приходится говорить – «синее, белое, красное». Ибо всё – есть. Никто не осудит «письма Морозова из Шлиссельбурга» (в «Вестн. Евр.»), но его «Гроза в буре» нелепа и претенциозна. Хороша Геся Гельфман, – но кровавая Фрумкина мне органически противна, как и тыкающий себя от злости вилкой Бердягин. Всё это – чахоточные, с чахоткой в нервах Ипполиты (из «Идиота» Дост.). Нет гармонии души, нет величия. Нет «благообразия», скажу термином старца из «Подростка», нет «наряда» (одежды праздничной), скажу словами С.М. Соловьева, историка.
* * *
Как ни страшно сказать, вся наша «великолепная» литература в сущности ужасно недостаточна и не глубока. Она великолепно «изображает»; но то, что она изображает, – отнюдь не великолепно, и едва стоит этого мастерского чекана.
XVIII век – это все «помощь правительству»: сатиры, оды, – всё; Фонвизин, Кантемир, Сумароков, Ломоносов, – всё и все.
XIX век в золотой фазе отразил помещичий быт.
Татьяны милое семейство,
Татьяны милый идеал.
Да, хорошо… Но что же, однако, тут универсального?
Почему это нужно римлянину, немцу, англичанину? В сущности, никому, кроме самих русских, не интересно.
Что же потом и особенно теперь? Все эти трепетания Белинского и Герцена? Огарев и прочие? Бакунин? Глеб Успенский и мы? Михайловский? Исключая Толстого (который в этом пункте исключения велик), все это есть производное от студенческой «курилки» (комната, где накурено) и от тощей кровати проститутки. Все какой-то анекдот, приключение, бывающее и случающееся, – черт знает, почему и для чего. Рассуждения девицы и студента о Боге и социальной революции – суть и душа всего; все эти «социал-девицы» – милы, привлекательны, поэтичны; но «почему сие важно»? I Важного никак отсюда ничего не выходит. «Нравы Растеряевой улицы» (Гл. Успенского, впрочем, не читал, знаю лишь заглавие) никому решительно не нужны, кроме попивающих чаек читателей Гл. Успенского и полицейского пристава, который за этими «нравами» следит «недреманным оком». Что такое студент и проститутка, рассуждающие о Боге? Предмет вздоха ректора, что студент не занимается и – усмешки хозяйки «дома», что девица не «работает». Все это просто не нужно и не интересно, иначе как в качестве иногда действительно прелестного сюжета для рассказа. Мастерство рассказа есть и остается, «есть литература». Да, но – как чтение. Недоумение Щедрина, что «читатель только почитывает» литературу, которую писатель «пописывает», – вовсе неосновательно в отношении именно русской литературы, с которою что же и делать, как ее не «почитывать», ибо она, в сущности, единственно для этого и «пишется»…
В сущности, все – «сладкие вымыслы»:
Не для бедствий нам существенных
Даны вымыслы чудесные…
как сказал красиво Карамзин. И все наши «реалисты», и Михайловский, суть мечтатели для бумаги, – в лучшем случае полной чести («честный писатель»).
Лет шесть назад «друг» мне передал, вернувшись из церкви «Всех скорбящих» (на Шпалерной): – «Пришла женщина, не старая и не молодая. Худо одета. Держит за руки шесть человек детей, все маленькие. Горячо молилась и все плакала. Наверное, не потеряла мужа, – не те слезы, не тот тон. Наверно, муж или пьет, или потерял место. Такой скорби, такой молитвы я никогда не видывала».
Вот это в Гл. Успенского никак не «влезет», ибо у Гл. Успенского «совсем не тот тон».
Вообще семья, жизнь, не социал-женихи, а вот социал-трудовики – никак не вошли в русскую литературу. На самом деле труда-то она и не описывает, а только «молодых людей», рассуждающих «о труде». Именно – женихи и студенты; но ведь работают-то в действительности – не они, а – отцы. Но те все – «презираемые», «отсталые»; и для студентов они то же, что куропатки для охотника.
Здесь великое исключение представляет собою Толстой, который отнесся с уважением к семье, к трудящемуся человеку, к отцам… Это – впервые и единственно в русской литературе, без подражаний и продолжений. От этого он не кончил и «Декабристов», собственно по великой пустоте сюжета. Все декабристы суть те же «социал-женихи», предшественники проститутки и студента, рассуждающих о небе и земле. Хоть и с аксельбантами и графы. Это не трудовая Руси и Толстой бросил сюжет. Тут его серьезное и благородное. То, что он не кончил «Декабристов» – столь же существенно и благородно, так же оригинально и величественно, как и то, что он изваял и кончил «Войну и мир» и «Каренину».
Конечно, не Пестель-Чацкий, а Кутузов-Фамусов держит на плечах своих Россию, «какая она ни есть». Пестель решительно ничего не держит на плечах, кроме эполет и самолюбия. Я понимаю, что Фамусов немногого стоит, как и Кутузов – не золотой кумир. Но ведь и русская история вообще еще почти не начиналась. Жили «день за днем – сутки прочь»…
* * *
Ну, – вот ты всех пересудил… Но сам кого лучше?
– Никого. Но я же и говорю, что нам плакать не об обстоятельствах своей жизни, а о себе.
Совсем другая тема, другое направление, другая литература.
(за нумизматикой).