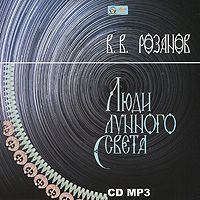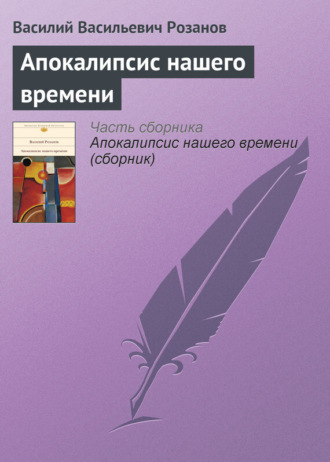
Апокалипсис нашего времени
– Больше мяса…
– Больше вопля…
– Больше рева…
– Мир отощал, он болен… Таинственная Тень навела на мир хворь…
– Мир – умолкает…
– Мир – безжизнен…
– Скорее, скорее, пока еще не поздно… Пока еще последние минуты длятся. «Поворот всего назад», «новое небо», «новые звезды».
Обилие «вод жизни», «Древо жизни»…
* * *Солнце загорелось раньше христианства. И солнце не потухнет, если христианство и кончится. Вот – ограничение христианства, против которого ни «обедни», ни «панихиды» не помогут. И еще об обеднях: их много служили, но человеку не стало легче.
Христианство не космологично, «на нем трава не растет». И скот от него не множится, не плодится. А без скота и травы человек не проживет. Значит, «при всей красоте христианства» – человек все-таки «с ним одним не проживет». Хорош монастырек, «в нем полное христианство»; а все-таки питается он около соседней деревеньки. И «без деревеньки» все монахи перемерли бы с голоду. Это надо принять во внимание и обратить внимание на ту вполне «апокалипсическую мысль», что само в себе и одно – христианство проваливается, «не есть», гнило, голодает, жаждет. Что «питается» оно – не христианством, не христианскими злаками, не христианскими произрастаниями. Что, таким образом, – христианство само и одно, чистое и самое восторженное, зовет, требует, алчет – «и не христианства».
Это – поразительно, но так. Хороша была беседа Спасителя к пяти тысячам народа. Но пришел вечер, и народ возжаждал: «Учитель, хлеба!»
Христос дал хлеба. Одно из величайших чудес. Не сомневаемся в нем. О, нисколько, нимало, ни иоточки. Но скажем: каково же солнце, которое неизреченным тьмам народа дает хлеб, – дает как «по службе», «по должности», почти «по пенсии». Дает и может дать. Даст и, значит, хочет дать?
У солнца – воля и… хотение?
Но… тогда «ваал-солнце»? ваал-солнце – финикиян?
И тогда «поклонимся Ему»? Ему и его великой мощи?
– Это-то уже несомненно. Ему и его великому, благородному, человеколюбивому хотению?..??? Это же невероятно. Но что «солнце больше может, чем Христос» – это сам папа не оспорит. А что солнце больше Христа желает счастья человечеству – об этом еще сомлеваемся, но уже ничего не мог бы возразить Владимир Соловьев, изучавший все «богочеловеческий процесс» и строивший «ветхозаветную теургию» и «ветхозаветное домостроительство» (или «теократию»).
Мы же берем прямо Финикию:
«Ты – ходил в Саду Божием… Сиял среди игристых огней»… «Ты был первенец Мой, первенец от создания мира», – говорит Иезекииль или Исаия, кто-то из ветхозаветных, – говорит городу, в котором поклонялись Ваалу и нимало не Иегове.
Ну, кто же не видит из моих тусклых слов, что «богочеловеческий процесс воплощения Христа» потрясается. Он потрясается в бурях, он потрясается в молниях… Он потрясается в «голодовках человечества», которые настали, настают ныне… В вопияниях народных. «Мы вопияли Христу, и Он не помог». «Он – немощен». Помолимся Солнцу: оно больше может. Оно кормит не 5000, а тьмы тем народа. Мы только не взирали на Него. Мы только не догадывались.
– «Христос – мяса!»
– «Христос – мяса!»
– «На ребра, в брюхо, детям нашим и нам!»
Христос молчит. Не правда ли? Так не Тень ли он? Таинственная Тень, наведшая отощание на всю землю.
№ 3
Кроткая
Ты не прошла мимо мира, девушка… о, кротчайшая из кротких… Ты испуганным и искристым глазком смотрела на него.
Задумчиво смотрела… Любяще смотрела… И запевала песню… И заплетала в косу ленту…
И сердце стучало. И ты томилась и ждала.
И шли в мире богатые и знатные. И говорили речи. Учили и учились. И все было так красиво. И ты смотрела на эту красоту. Ты не была завистлива. И тебе хотелось подойти и пристать к чему-нибудь.
Твое сердце ко всему приставало. И ты хотела бы петь в хоре.
Но никто тебя не заметил, и песен твоих не взяли. И вот ты стоишь у колонны.
Не пойду и я с миром. Не хочу. Я лучше останусь с тобой. Вот я возьму твои руки и буду стоять.
И когда мир кончится, я все буду стоять с тобою и никогда не уйду.
Знаешь ли ты, девушка, что это – «мир проходит», а – не «мы проходим». И мир пройдет и прошел уже. А мы с тобой будем вечно стоять.
Потому что справедливость с нами. А мир воистину несправедлив.
Что-то такое случилось
Есть в мире какое-то недоразумение, которое, может быть, неясно и самому Богу. В сотворении его «что-то такое произошло», что было неожиданно и для Бога. И отсюда, собственно, иррационализм, мистика (дурная часть мистики) и неясность. Мир гармоничен, и это – «конечно». Мудр, благ и красота, и это – Божие. Но «хищные питаются травоядными» – и это уж не Божие. Сова пожирает зайчонка – тут нет Бога. Бога, гармонии и добра.
Что такое произошло – этого от начала мира никто не знает, и этого не знает и не понимает Сам Бог. Бороться или победить это – тоже бессилен Сам Бог. Так «я хочу родить мальчика красивого и мудрого», а рождается «о 6-ти пальцах, с придурью и непредвиденными пороками». Так и планета наша. Как будто она испугана была чем-то в беременности своей и родила «не по мысли Божией», а «несколько иначе». И вот «божественное» смешалось с «иначе»…
И перед этим «иначе» покорен и Бог. Как тоскующий отец, который смотрит на малютку с «иначе», и хочет поправить, и не может поправить. И любит «уже все вместе»…
Зачем они звонят?
Бом. Бом. Бом. Но уже звук пустой.
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
И оттого, что под колоколом нет венчания невесты и жениха. Тот, другой, – не помог. А этот, который все-таки помогал по мелочам, – немного, но помогал, – немного, но старался, – по-земному и глупо, но все-таки старался, – услан далече.
И не вздохнула невеста по женихе. И я увидел, что она горбатая.
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
Эх, не горбат вот жид: написал в марте:
«…Напишите, как вы умеете писать, – правдиво и страстно, – мне о «мартовских» днях. Тут зима, – и лютая, – весны еще нет. Весь этот гул и шум противен моей душе. В санатории уже умерло 4 воина. Смерть сильнее всего на этой планете. Есть ли душа? Есть ли загробная жизнь? Вот это важнее всех революций! Жаль царя Николая. Догадываюсь, что он был человек мягкого характера и безвольный очень. Все, все — пройдет, но что будет «там»? Вам 61 год, вы много думали, страдали, – скажите мне вы, дорогой душевный друг. Лейзер Шацман.
Санаторий «Дергачи», Харьковской губернии и уезда, Всероссийского Земского Союза, № 11 (туберкулезный)». (Лично мне не знаком.)
Дед
Когда не хочется больше любить, не ждется одежда, и кушаешь кашку-размазню с кой-каким маслицем, – то и называешь себя, естественно, «христианином».
Лысый, с белой бородою,Дедушка сидит.Чашка с хлебом и водоюПеред ним стоит.– Кто ты, дедушка?
– Хрестьянин… крестьянин…
Или, как Достоевский и софистически и верно перефразировал:
– «Христианин».
Боже: к чему догматики, историки, апологеты нагородили столько ерунды, когда дело выражается в одном великом:
не надо.
«Москва слезам не верит»
– и делает очень глупо. Оттого она бедна. Нужно именно верить, и – не слезам, а – вообще, всегда, до тех пор пока получил обман: финикияне в незапамятную древность, в начале истории, приучились верить и образовали простую бумажку, знак особый, который писали, делали и т. д. Он был условен: и кто давал его – получал «доверие», и это называлось – кредитом. Заведшие это, «доверчивые» люди, но определенно доверчивые, и вместе – не по болтовне или «дружеской беседе», а – деловым образом и для облегчения жизни, стали первыми в мире по богатству. Не чета русским. Которые даже в столь позднее время – все нищают, обманывают и – тем все более и более разоряются.
– и русские выполняют и не могут не выполнить этого, насколько это установили финикияне (вексель)… Но решительно везде, где могут, – стараются жить на счет друг друга, обманывают, сутенерничают. И думая о счастье – впадают все в большее и большее несчастье.
Об одном народце
Им были даны чудные песни всем людям. И сказания его о своей жизни – как никакие. И имя его было священно, как и судьбы его – тоже священны для всех народов.
Потом что-то случилось… О, что же, что же случилось?..
. . . . . . . . . . . . .
Нельзя понять…
. . . . . . . . . . . . .
Ни один народ не может. Никто из человечества…
Ни мудрец, ни ученый, ни историк.
И стал он поругаемым народом, имя которого обозначает хулу. И имя которого, национальное имя, стало у каждого племени ругательным названием всякого человека, к кому оно приложится в этом чужом племени.
О, что же случилось?..?..
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
Больше, больше: будем ли мы читать «Летопись Тацита» – когда томимся? Или – Геродота о скифах и Вавилоне? Будем ли читать о Пелопоннесской войне – Фукидида? Нет, нет: когда в томлении душа — то как все это чуждо и посторонне… Все это мы изучали бы, только чтобы прочесть лекцию, написать ученый труд, и – «так, от некоторого безделья».
Но вот – юная вдова, подбирающая колосья пшеницы на поле богатого землевладельца: и то, как она это делает, – и слова ее своей свекрови, – проливают в душу утешения. И много еще…
Народ этот пролил утешение во все сердца.
И все-таки он проклят. Что же случилось, – о, что такое, особенное???…?
* * *Сказать: «утешение» — и это сказать все о том народе. Читаем ли мы хронику о Меровингах у Григория Турского или изящные очерки Августина Тьери, написанные по канве этой хроники, – мы в обоих случаях читаем милое, грациозное, прелестное. Но это чтение дает только наслаждение вкусу, душа же остается если не холодною, то спокойною. Но вот мы читаем о войне, о грозе: один царь – победитель, другой – побежден. Побежденный боится за жизнь свою, обыкновенно боится – как боялся бы каждый человек, и ищет потаенной комнаты во дворце своем. Победитель спрашивает о враге своем, и ему приближенные передают о всем унижении и страхе, в каком тот находится. Вдруг победитель отвечает вовсе не тем гордым, самоуверенным тоном, какой так естествен в самоупоении победы и каким в самоупоении победы говорили gee цари и полководцы, а – совсем иным, новым, неожиданным:
«Зачем он бежит от меня? Он – брат мой».
Кто в историях Ассирии видал, как со связанными за спиною руками пленник стоит перед победившим царем на коленях, а ассирийский царь, подняв копье, выкалывает ему глаза, и вместе примет во внимание, что переименование «врага» в «брата своего» произошло в туже самую эпоху, тот оценит всю разницу в душевном строе одного и другого. И поймет, почему я упорно называю «утешением» то особое чувство, какое льется на душу читателя от истории этого единственного народа.
И он – проклят.
Но тогда что же случилось, почему мы так же ненавидим этот народец, как ассирияне ненавидели своих врагов. И, оглядываясь на цивилизацию нашу, не подумаем ли о ней с печалью строк, сказанных Алексеем Толстым:
Ассирияне шли как на стадо волки,В багреце их и в злате сияли полки,И без счета их копья сверкали окрест,Как в волнах Галилейских мерцание звезд.Словно листья дубравные в летние дни,Еще вечером так красовались они;Словно листья дубравные в вихре зимы.Их к рассвету лежали развеяны тьмы.Ангел смерти лишь на-ветер крылья простерИ дохнул им в лицо, и померкнул их взор.И на мутные очи пал сон без конца,И лишь раз поднялись и остыли сердца.Вот расширивший ноздри, повергнутый конь,И не пышет из них гордой силы огонь,И как хладная влага на бреге морском.Так предсмертная пена белеет на нем.Вот и всадник лежит, распростертый во прах,На броне его ржа, и роса на власах;Безответны шатры, у знамен ни раба,И не свищет копье и не трубит труба.И Ассирии вдов слышен плач на весь мир,И во храме Ваала низвержен кумир,И народ, не сраженный мечом до конца,Весь растаял, как снег, перед блеском Творца!И вот народ, который всемирно был утешителем всех скорбных, утомленных, нуждающихся в свете душ, – теперь во тьме, и не только сам без утешения, но пинаем и распинаем… Что же, что такое случилось? Явно – случилось в планете и в судьбах человечества?
Ежедневность
Булочки, булочки…Хлеба пшеничного…Мясца бы немного…* * *Это ужасное замерзание ночью. Страшные мысли приходят. Есть что-то враждебное в стихии «холода» – организму человеческому, как организму «теплокровному». Он боится холода, и как-то душевно боится, а не кожно, не мускульно. Душа его становится грубою, жесткою, как «гусиная кожа на холоду». Вот вам и «свобода человеческой личности». Нет, «душа свободна» – только если «в комнате тепло натоплено». Без этого она не свободна, а боится, напугана и груба.
* * *Впечатления еды теперь главные. И я заметил, что, к позору, и господа и прислуга это равно замечают. И уже не стыдится бедный человек, и уже не стыдится горький человек. Проехав на днях в Москву, прошелся по Ярославскому вокзалу, с грубым желанием видеть, что едят. Провожавшая меня дочь сидела грустно, уткнувшись носиком в муфту. Один солдат, вывернув из тряпки огромный батон (витой хлеб пшеничный), разломил его широким разломом и начал есть, даже не понюхав. Между тем пахучесть хлеба, как еще пахучесть мяса во щах, есть что-то безмерно неизмеримее самого напитания. О, я понимаю, что в жертвеннике Соломонова храма были сделаны ноздри и сказано, – о Боге сказано, – что он «вдыхает туки своих жертв».
Солнце
Заботится ли солнце о земле?
Не из чего не видно: оно ее «притягивает прямо пропорционально массе и обратно пропорционально квадратам расстояний».
Таким образом, 1-й ответ о солнце и о земле Коперника был глуп.
Просто – глуп.
Он «сосчитал». Но «счет» в применении к нравственному явлению я нахожу просто глупым.
Он просто ответил глупо, негодно.
С этого глупого ответа Коперника на нравственный вопрос о планете и солнце началась пошлость планеты и опустошение Небес.
«Конечно, – земля не имеет об себе заботы солнца, а только притягивается по кубам расстояний».
Тьфу.
№ 4
Правда и кривда
«Без грешного человек не проживет, а без святого – слишком проживет». Это-то и составляет самую, самую главную часть а-космичности христианства.
Не только: «читаю ли я Евангелие с начала к концу, или от конца к началу», я совершенно ничего не понимаю:
как мир устроен? и – почему?
Так что Иисус Христос уж никак не научил нас мирозданию; но и сверх этого и главным образом: – «дела плоти» он объявил грешными, а «дела духа» праведными. Я же думаю, что «дела плоти» суть главное, а «дела духа» – так, одни разговоры.
«Дела плоти» и суть космогония, а «дела духа» приблизительно выдумка.
И Христос, занявшись «делами духа», – занялся чем-то в мире побочным, второстепенным, дробным, частным. Он взял себе «обстоятельства образа действия», а не самый «образ действия», – т. е. взял он не сказуемое того предложения, которое составляет всемирную историю и человеческую жизнь, а – только одни обстоятельственные, теневые, штриховые слова.
«Сказуемое» – это еда, питье, совокупление. О всем этом Иисус сказал, что – «грешно», и – что «дела плоти соблазняют вас». Но если бы «не соблазняли» – человек и человечество умерли бы. А как «слава Богу – соблазняют», то – тоже «слава Богу» – человечество продолжает жить.
Позвольте: что за «слава Богу», если человек (человечество) умер?
Как же он мог сказать: «Аз есмь путь и жизнь»? Ничего подобного. Ничего даже приблизительного. «Обстоятельственные слова».
Напротив, отчего есть «звезды и красота» – это понятно уже из насаждения рая человекам. Уже он — прекрасен, и это есть утренняя звезда. Я хочу сказать, что «утреннюю звезду» Бог дал человеку в раю: и тайным созданием Эдема Он выразил и вообще весь план сотворения чего-то изумительного, великолепного, единственного, неповторимого. Все к этому рвется: «лучше», «лучше», «лучше». Есть меры и измеримость: Бог как бы изрек – «Я – безмерный, и все сотворенное мною рвется к безмерности, бесконечности, нескончаемости». А, это – понятно. «Там оникс и камень бдолах» (о рае). Напротив, когда мы читаем Евангелие, то что же мы понимаем в безмерности? Да и не в одной безмерности: мы вообще – ровно ничего не понимаем в мире.
«И вот, на небе великое знамение – жена, облеченная в солнце; под ногами ее – луна; и на голове ее – венец из двенадцати звезд.
Она имела во чреве и кричала от мук рождения».
(Апокалипсис, 12)
«Иисус же сказал: «Есть скопцы, которые из чрева матернего родились тако; и есть скопцы, которые сами сделали себя скопцами ради Царства Небесного. Кто может вместить это – да вместит».
(Евангелие от Матфея, 19)
Тут мы понимаем, что роды, именно человеческие роды, лежат в центре космогонии.
Тут мы совершенно ничего не понимаем, кроме того, что это – не нужно.
Библия – нескончаемость.
Евангелие – тупик.
Теперь: «грех» и «святость», «космическое» и «а-космичность»: мне кажется, что если уже где может заключаться «святое», «святость» – то это в «сказуемом» мира, а не «в обстоятельствах образа действия». Что за эстетизм. Поразительно великолепие Евангелия: говоря о «делах духа» в противоположность «делам плоти» – Христос через это именно и показал, что «Аз и Отец – не одно». «Отец» – так Он и отец: посмотрите Ветхий Завет, – чего-чего там нет. Отец не пренебрегает самомалейшим в болезнях дитяти, даже в капризах и своеволии его: и вот там, в Ветхом Завете, мы находим «всяческое». Все страсти кипят, никакие случаи и исключительности – не обойдены. «Отец» берет свое дитя в руки, моет и очищает его сухим и мокрым, от кала грязного и от мокрого. Посмотрите о лечении болезней, парши, коросты. В пустыне Он идет над ними тенью — днем (облако, зной) и столбом огненным – ночью освещает путь. Похитили золотые вещи у египтян, и это не скрыто; ибо так естественно, так просто: ведь они работали на них в рабстве, работали – бесплатно. Этим таинственным и глубоким попечением о человеке, каким-то кутающим и пеленающим, – отличается «Отцовский завет» от сыновнего. Сын – именно «не одно» с Отцом. Пути физиологии суть пути космические, – и «роды женщины» поставлены впереди «солнца, луны и звезд». Тут тоже есть объяснение, чего абсолютно лишено Евангелие. Действительно: тут показано, в видении Апокалипсиса, что и луна, и звезды, и солнце – все для облегчения «родов». Жизнь поставлена выше всего. И именно – жизнь человека. Пирамида ясна в основании и завершении. Евангелие оканчивается скопчеством, тупиком. «Не надо». Не надо – самых родов. Тогда для чего же солнце, луна и звезды? Евангелие со странным эстетизмом отвечает – «для украшения». В производстве жизни – этого не нужно. Как «солнце, луна и звезды» явились ни для чего, в сущности, так и роды – есть «ненужное» для Евангелия, и мир совершенно обессмысливается. «Все понятно» – в Библии, «ничего не понятно» – в Евангелии.
И вот – Престол Апокалипсиса, посреди коего сидят животные. Что за представление небес? Но разве роды коровы ниже чем-нибудь родов женщины? Это – «пути Божии». В «оправдании всего» Апокалипсиса – именно и лежит оправдание Божеское, оправдание Отцовское, и с болячками, и с коростами, и с поносами, и с запорами дитяти-человека. Как чудно! О, как хорошо! Славны и велики пути Твои, Господи, и славны они в болезни и в исцелении. Апокалипсис изрекает как бы правду Вселенной, правду целого – вопреки узенькой «евангельской правде», которая странным образом сводится не к богатству, радости и полноте мира, а к точке, молчанию и небытию скопчества. Воистину – «поколебались основания земли». Христос пришел таинственным образом «поколебать все основания» сотворенной «будто бы Отцом Его» Вселенной.
И что Коперник, на вопрос о солнце и земле, начал говорить, что они действуют «по кубам расстояний», – то это совершенно христианский ответ. Это – именно «обстоятельства образа действия». А «для чего они действуют» – это и неведомо, и неинтересно.
Таинственным образом христианство начало обходиться «пустяками». На вопрос о земле и луне оно ответило «кубами расстояний», а на вопрос о гусенице, куколке и мотыльке оно ответило еще хуже: что так «бывает». «Наука христианская» стала сводиться к чепухе, к позитивизму и бессмыслице. «Видел, слышал, но не понимаю». «Смотрю, но ничего не разумею» и даже «ничего не думаю». Гусеница, куколка и мотылек имеют объяснение, но не физиологическое, а именно – космогоническое. Физиологически – они необъяснимы; они именно – неизъяснимы. Между тем космогонически они совершенно ясны: это есть все живое, решительно все живое, что приобщается жизни, гробу и воскресению.
В фазах насекомого даны фазы мировой жизни. Гусеница: – «мы ползаем, жрем, тусклы и недвижимы». – «Куколка» – это гроб и смерть, гроб и прозябание, гроб и обещание. – Мотылек – это «душа», погруженная в мировой эфир, летающая, знающая только солнце, нектар, и – никак не питающаяся, кроме как из огромных цветочных чашечек. Христос же сказал: «В будущей жизни уже не посягают, не женятся». Но «мотылек» есть «будущая жизнь» гусеницы, и в ней не только «женятся», но – наоборот Евангелию – при сравнительной неуклюжести гусеницы, при подобии смерти в куколке, – бабочка вся только одухотворена, и, не вкушая вовсе (поразительно!! – не только хоботок ее вовсе не приспособлен для еды, но у нее нет и кишечника, по крайней мере – у некоторых!!), странным образом – она имеет отношение единственно к половым органам «чуждых себе существ», приблизительно – именно Дерева жизни: растений, непонятных, загадочных. Это что-то, перед всякой бабочкою, – неизмеримое, огромное.
Это – лес, сад. Что же это значит? Таинственным образом жизнь бабочки указует или предвещает нам, что и души наши после гроба-куколки – будут получать or нектара двух или обоих божеств. Ибо сказано, что сотворена была Вселенная от Элогим (двойственное число Имени Божия, употребленное в рассказе Библии о сотворении мира), а не от Элоах (единственное число); что божеств – два, а не одно: «по образу и по подобию которых – мужем и женою сотворил Боги человека».
Мотылек – душа гусеницы. Solo – душа, без привходящего. Но это показывает, что «душа» – не нематерьяльна. Она – осязаема, видима, есть: но только – иначе, чем в земном существовании. Но что же это и как? Ах, наши сны и сновидения иногда реальнее бодрствования. Гусеница и бабочка показывают, что на земле мы – только «жрем»; а что «там» будет все – полет, движение, камедь, мирра и фимиам.
Загробная жизнь вся будет состоять из света и пахучести. Но именно – того, что ощутимо, что физически – пахуче, что плотски, а не бесплотно – издает запах. Не без улыбки можно ответить о «соблазнах мира сего», что в них-то и «течет», как бы истекает из души вещей, из энтелехии вещей – уже теперь «жизнь будущего века»; и что вкусовая и обонятельная часть нашего лица, и вообще-то наиболее прекрасная и «небесная», именно и прекрасна от очертания губ, рта и носа. «Что за урод, в ком нет носа и губ», или есть в них повреждение, и даже просто – некрасивая линия. Апокалипсическое в нас – улыбка. Улыбка – всего апокалипсичнее.
Радость, ты – искра небес, ты – божественна,Дочь елисейских полей…Это – не аллегория, это – реальная, точнее – это ноуменальная правда. «Хорошо соблазняться» и «хорошо быть соблазняемым». Хорошо, «через кого соблазн входит в мир»: он вносит край неба на плосковатую землю. Загадочно, что в Евангелии ни разу не названо ни одного запаха, ничего – пахучего, ароматного; как бы подчеркнуто расхождение с цветком Библии – «Песнью песней», этою песнею, о которой один старец Востока выговорил, что «все стояние мира недостойно того дня, в который была создана «Песня песней». И вот, Евангелие, таким образом, представляет «эту» и «будущую жизнь» совсем наоборот: «пути»-то жизни, насколько они физиологические пути, и есть главное и небесное (Престол Апокалипсиса); это есть «подлежащее», которое «оправдалось».