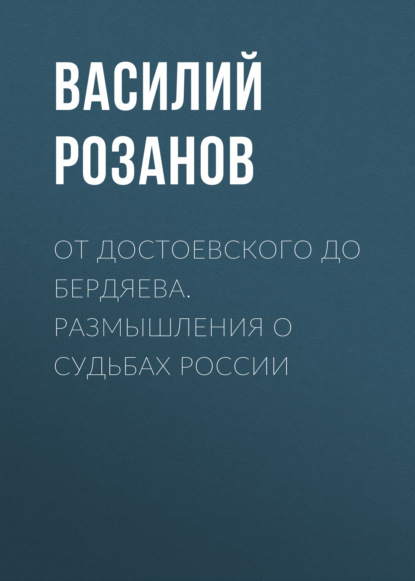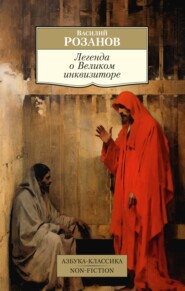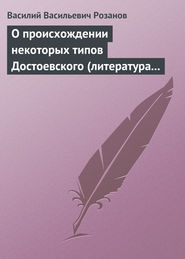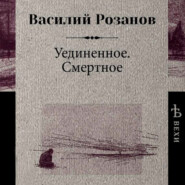По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
От Достоевского до Бердяева. Размышления о судьбах России
Жанр
Серия
Год написания книги
2017
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Прежде всего о внутренней боли, которая чувствуется в этом вторичном разладе между отцами и детьми. Нужно вспомнить то одушевление, ту полную веру людей шестидесятых и семидесятых годов в себя, в свои принципы, в свое близкое и вековечное торжество, чтобы понять всю горечь их разочарования при виде того, как, не говоря уже о дальних поколениях, их же собственные дети, взращенные в наилучшем ознакомлении с этими принципами, совершенно отвращаются от них – и с ними от самих людей, седины и труд которых они были бы готовы почтить, если бы только не эти принципы. И далее, чтобы понять жгучесть этой боли и чувство ужасного стыда, в ней содержащегося, нужно вспомнить, как проводили люди шестидесятых годов своих отцов – эту светлую плеяду людей сороковых и пятидесятых годов, первых славянофилов и столь же благородных и идеальных первых западников. О, это было время, которое дважды не переживается обществом, и хотя оно теперь только прах истории, но и до сих пор бьется сердце, как за живых людей, за этих отошедших в вечность стариков, при чтении журналов того времени. Поистине «дети», провожавшие тогда в землю отцов своих, как будто себя самих уже считали бессмертными. Среди многих искусственных идей того времени, искусственных понятий о человеке и об обществе, как будто заглохла и эта вечная мысль о смертном часе, который настает для всего живого. И грозный час пришел…
В то время как люди еще боролись бессильной иронией своих слов, история уже готовила для них злую иронию фактов. Не успели смеющиеся уста сомкнуться, как лица смеющихся исказились ужасом одинокой смерти. Все это можно было предвидеть, всего этого можно было избежать еще тридцать лет назад. Не следовало забывать историю, не следовало забывать текучесть своего момента времени.
II
Эта боль положения не может не вызывать сетований. Но какая разница между тем, как сходили с исторической сцены люди сороковых – пятидесятых годов, и тем, как сходят теперь с этой же сцены их дети! Несколько слабохарактерные, всегда изящные и задумчивые; несколько неправые, как и всякое поколение, пред вечными обязанностями человека на земле, люди сороковых – пятидесятых годов прежде всего устремили свое внимание именно на эти последние. Уже по внешним условиям они не могли стать людьми дела, но, кажется, и по внутренним склонностям они были мало к нему способны и расположены. Это были прежде всего люди рефлексии, люди углубленного, развитого чувства. Повинуясь только своему влечению, не сознавая своего исторического положения, они создали целый мир глубоко человечных понятий и чувств. Как и всегда в течение вот уже двух веков, они обращались беспрестанно к Европе, которая стала для них вторым отечеством, часто более дорогим и духовно близким, чем своя родина; но по благородным задаткам своей души они избирали в Европе одно лучшее. И это лучшее они принесли к себе, в свою серую родину, холодную и угрюмую. Семя, посеянное ими здесь, взросло богатою нивою, которую мы и до сих пор жнем, почти не чувствуя еще ее истощения. Круг применения идей, правда, очень расширился, как и количество фактического содержания, которое от начала они могли бы вместить в себе; самые же идеи почти не увеличились. В этом состояла их историческая задача: в общество, в верхних слоях своих еще грубое, в средних и образованных – наивное, они внесли серьезное размышление и углубленность чувства. Но практического применения этих идей ими не было сделано – это была вторая и более легкая задача, предстоявшая их детям.
Последние с упрека отцам своим в этом недостатке и открыли свою деятельность. Привычка на всем тотчас сосредоточиваться, забывая остальное, и на этот раз не оставила готовое сойти в могилу поколение. Они забыли то, что сделали, и помнили только о том, чего не сделали. Сама история, непреодолимым движением фактов, привела их перед концом к этой мысли, самой необходимой для всякого, кто готовится оставить жизнь. Грустные и растерянные, со встревоженною совестью, один за другим сходили эти люди с исторического поприща, оставляя трепещущему жизнью поколению детей своих завет труда, которого сами они не выполнили. И дети их приступили к труду; о, конечно, и из них многие остались верны памяти отцов, и задача, на которую молча указывала история, – с развитою душой приступить к обновлению жизни – была ими выполнена. Лучшее, что было сделано в царствование Александра II (не по прочности, но по мотиву), было сделано людьми этого душевного настроения. Они учились, они размышляли и чувствовали, как и люди сороковых и пятидесятых годов; из них многие и теперь живы, и как светоч блистают для нас в сферах науки, литературы и, может быть, политической деятельности (о последней не знаю). Их было очень немного, хотя они сделали главное, остающееся в истории. Совсем иным путем пошла главная масса. На деле их, на писания в течение двадцати лет можно здесь набросить покров: мы все их знаем; не знаю, желательно ли составление очень подробной истории этих писаний и дел, и часто думается, – раз это время уж минуло, – что лучше было бы никогда не поднимать над ними покрова. Пусть мы, все видевшие, все читавшие и знавшие, живем еще с тревожными, с мучительными и раздраженными воспоминаниями, но ни к чему передавать эти воспоминания и дальним поколениям. Желчи и горечи достаточно даст каждому из них и свое время. Одного не следует забывать при этом, чтобы хорошо понимать источник разницы между двумя рядом стоящими поколениями нашего общества. Говоря о людях сороковых и пятидесятых годов, мы заметили, что главное в их деятельности было обусловлено избирательными инстинктами, которые они принесли с собою в Европу. В этих же инстинктах и теперь состояло все дело. Европа шестидесятых и семидесятых годов, как и всегда, представляла из себя необозримую сокровищницу, увитую седым мхом и зеленеющими побегами, где всякий мог находить для себя все, что было ему нужно. Гениальное и пошлое, целебное и заразительное – все было в этом организме, самом могучем и полном, какой создавался когда-либо в истории. Европа уже все передумала, все пережила, все переделала на все манеры, – и у ней одинаково можно научиться и тому, как просветлять жизнь высшим светом, и тому, как отравлять свою душу неизгладимою отравой. Все дело, продолжаем, было в инстинктах избирания. Руководясь ими, люди шестидесятых и семидесятых годов принесли из бесценной сокровищницы Запада новые семена на свою родину – и ниву, уже засеянную их отцами, занимая их след, засеяли новым принесенным семенем. Нива снова возросла, жатва созрела и была срезана, но… когда должен был начаться вечерний пир, пищи не оказалось. Люди, приведенные на этот пир с молодыми, свежими инстинктами, непреодолимо отвращаются от приготовленных яств. И старики, которые так много трудились на ниве в знойные и в холодные дни, руки которых устали и более неспособны к труду, видят, что свою жатву, надежду стольких лет, им остается только унести с собой в могилу. Все это страшно горько, страшно трудно, надо всем этим нельзя смеяться, и дурно делает тот, кто это делает. Но изменить факта нельзя – и не следует.
III
Групповой возраст этого поколения, отказывающегося от наследства отцов своих и от солидарности с ними, должен быть от 20–30 лет или несколько более. Молодежь, принадлежащая к нему, должна была родиться между 1858–1868 гг., кончить гимназию между 1878–1886 гг., а университет между 1880 и последующими годами. Время, в которое эта молодежь слагалась умственно и вырабатывала себе жизненную программу, совпало как раз с наиболее печальным временем нашей общественной жизни. Тут были и 1 марта 1881 года, и все его дальнейшие острые последствия. Общество заметалось, спуталось; оно и прежде было слабо сознанием, а тут мысль его и совсем очутилась под спудом. Аксаков думал, что умственный промежуток, который открылся теперь перед обществом, и есть именно наиболее благоприятный момент того, чтобы общественное сознание встало в том направлении, которое он считал единственно способным обновить все наше общественно-государственное существование. Рядом с этим так называемые западники считали необходимым продолжением реформ в более широком виде и с более расширенною деятельностью интеллигенции. Но явилось и еще движение, направленное именно против интеллигенции. Это было одно из самых злополучных и несчастных самоотречений, продолжающееся и до сих пор. «Интеллигенция была сделана козлом отпущения за все – и кем же? Такою же самою интеллигенцией, как она, которая было устремилась за знанием, которую выдвинула Россия как необходимую для нее умственную силу – эта самая интеллигенция повернулась против той, которая так долго вела ее, почти во всем уже успела и стояла, по-видимому, перед минутой окончательного торжества своего»[17 - «Вестник Европы», 1891 года, май. С. 246–247.].
Так пишет один из самых деятельных писателей 60-х годов, лишь недавно сошедший в могилу, почти накануне ее. Да, все это было так, и годы указаны с изумительною точностью. Видно, что человек, писавший это, зорко следил за окружающею жизнью; но ход ее, но смысл и источник нового поворота для него, как человека, видевшего все лишь под одним углом, был неясен, непонятен, просто неизвестен. Он умер, проклиная новое движение, недоумевая о том, что делается. Так всегда бывает в истории, что люди, несущиеся на одной волне ее, видят только эту волну и, когда она падает, – думают, что все погибло и что история останавливается. Но это не так. Действительно, 70-е годы гимназии и 80-е университета – все впечатления этих лет и впечатление от 1 марта… Припомним же, каковы были эти впечатления; что нас в то время поразило, когда мы, стоя на пороге между гимназией и университетом, переживали эту страшную катастрофу. Нас поразила эта сухость сердца, этот взгляд на человека и отношение к нему. О, забудем, что-то был Государь, и Бог с ней, с этой все политикой и политикой… Но разве это не был человек, как и мы, с таким же ощущением простой физической боли, с таким же страхом смерти, с такими же светлыми надеждами, когда был молод, и разочарованиями, когда стал стар? Этот злобный смех на такие страдания, при которых нам всем было бы трудно, это равнодушие и вся политика перетрусившей печати, это холодное безучастие «интеллигентного» общества, когда одному человеку так больно, весь этот цинизм какой-то не то развращенной, не то от рождения пробуждавшейся души – нам был невыносим и отвратителен. Это было главное и самое сильное впечатление, необыкновенно яркое и которое не мешало задумываться, потому что оно было одиноко. Все та же и та же боль умирающего человека, и равнодушное молчание вокруг. Мы тогда учились и все читали, все видели, тем более что никто нас в отдельности не замечал и ничего от нас не скрывали. «Но это было фактом политики, и никакой личной ненависти при этом не было», – говорили нам. Но тогда «цель оправдывает средства»? Тогда зачем же это негодование на костры инквизиции, также жегшей людей не для удовольствия, но для водворения на земле единства веры, то есть для их устроения, для их спасения за гробом, то есть «для наибольшего счастия наибольшего числа людей»[18 - Формула дели человеческой жизни в утилитарной теории, которая в 60–70-х годах была общераспространенною.], разумея счастие по условиям своего времени, своего воспитания, своих умственных способностей, – как иначе и не могут разуметь счастье люди и никогда не будут его разуметь. Этот недостаток универсальности в приложении принципов – было второе, что нас поразило тогда. «Мера одна для нас, которую мы требуем, а для других будет та мера, которую мы приложим к ним», – это всегдашнее требование эгоизма и несправедливости продолжало действовать и в тот момент, о котором нас хотели уверить, что он открывает собою эру изгнания из истории всякого насилия, эгоизма и несправедливости. Ясно, что не было никакой «эры»; было обыкновенное политическое волнение, с взволнованными страстями, с придуманными теориями – момент в излучистом течении истории, но вовсе не ее увенчание. Понять частный факт истории как всеобщий, принять будни за Светлый Праздник – этого мы не могли и не хотели, по простой невозможности не видеть, когда зрение дано, или не слышать, когда есть ухо. Но, повторяю, это впечатление было лишь последнее и самое яркое, необыкновенно важное в своем долгом одиночестве, не мешавшем думать. Детальные же, подготовительные впечатления – они шли издали, начались уже давно.
В 70-х и в начале 80-х годов мы все учились несколько иначе, чем учатся теперь. Мы все были теоретиками и мечтателями с ранней школьной скамьи. Средняя школа для нас проносилась, как в тумане, и мы все смотрели, из разных захолустных уголков России, в ту неопределенную даль, где для нас и было только одно – сияние милого, обвеянного мечтами, нас ожидавшего университета. Собственно, только эта поэзия ожидания и согревала нас в те ранние года, и ничем учитель не мог так привязать к себе и заинтересовать в классе, как рассказав что-нибудь о годах своего университетского учения – какие бывают профессора, что они читают, какой они имеют вид, наконец. Мы уже во многом были серьезны, но если в чем были детьми, со всей поэзией детства, со всею нескрываемою и нас несмущавшею наивностью, так именно в этом ожидании, в этих условиях представить людей, занятых только наукой, т. е. изысканием истины, и совершенно непохожих на всех окружавших нас, которые нам наскучили, которых мы часто не любили и не уважали. Помню эти долгие, уединенные прогулки по нагорному берегу Волги, с определением по положению солнца того направления, где был университетский город и куда вот уже скоро умчит поезд и. т. д., тогда начнется совсем, совсем другое. И ничего другого не было… Все было обманом старых литературных воспоминаний и немногих, избранных впечатлений наших школьных учителей. Университет – universitas omnium litteratum[19 - Совокупность всех наук (лат).], вся эта «филология» наша была неправильна. Никак нельзя было представить, из каких требований ума вытекло это распределение наук, и в особенности как можно было преподавать науку, совершенно сбиваясь в ее определениях. Было чтение разных вещей о разных предметах, хрестоматия или сборник практически полезных сведений, но не было науки в смысле теории, своими широкими рамами покрывающей естественные потребности естественно же развивающегося ума. Даже и идеи о возможности и необходимости такого теоретизма нигде не было. Самые предметы науки как-то странно никого не интересовали; интересовали книжки, написанные об этих предметах, репутация широкой в них начитанности. В идее – огромное множество островов, ни к чему не примыкающих; в действительности – просто рассказы об островах, которые давно скрылись под поверхностью воды. А мы ждали материка. О, как удовлетворил бы нас Фома Аквинский, хотя между нами многие пришли сюда атеистами; или Бодэн, Гоббс, Жозеф де Местр, хотя мы вовсе не были «легитимисты». Но мы ждали складности; и кто бы нам ее ни дал – мы бы за ним пошли.
Только немногие старые профессора и спасли в нас идеализм к науке. Это были последние эпигоны людей 40-х годов, каких мы видели, которых мы никогда не забудем. «По-моему, где профессор – там и университет», – сказал один из них, вышедший тогда почему-то в отставку (Буслаев). – Да, конечно, а не большое кирпичное здание, выстроив которое в Томске и повесив на него вывеску, еще без профессоров, без студентов, все почему-то называли: «Сибирский университет». Странные понятия об университете – о святилище наук, где они преподаются, и которое изготовляется печниками на кирпичных заводах. Все извратилось и померкло в наше тусклое, искаженное время. В «университете» университету еще нужно зародиться; завестись чудакам-профессорам и всей студенческой братии слюбиться, сжиться, порасти мхом, кого-нибудь похоронить и справить тризну – и тогда это будет университет. Удостоиться стать им через почетный труд, через доблестную жизнь, через историю – можно; выстроиться университету нельзя.
Тогда в журналах все писали о «кружке молодых профессоров» в нашем университете; о стариках никто не писал и не говорил – только они сами издавали один ученый труд за другим, и до этого никому не было, по-видимому, дела. Работали в пустыне. Молодые же профессора, за исключением двух-трех, все были какие-то розовые или упитанные и чрезвычайно уморительные в своих усилиях показаться «страшными». Наивны они были очень; об одном рассказывали в университете, что он все укладывал в чемодан белье, говоря, что его скоро «вышлют», – конечно, выслать его было решительно не за что, и он до сих пор строчит свою бесталанную макулатуру во многих наших «передовых» изданиях. Этот профессор, охотнее возившийся с чемоданом, чем с книгами, понимая, что это не может не отражаться на лекциях, достаточно темно и достаточно ясно намекал на некоторую бедность развития при всей эрудиции у его старшего коллеги по факультету, который издавал тогда свои капитальные работы по финансовому праву. Эпиграфы к сочинениям обыкновенно брались тоже из какого-нибудь «страшного» философа. «Не плакать, не смеяться – но понимать. Spinosa» – помню, стояло на брошюре из веленевой бумаги у одного профессора, хотя из трех указанных проявлений человеческой натуры известно было всем, что он любил только второе. Все это было наивно, все было порой невыносимо; большее число студентов, как и всякой большей массы, становилось все более и более тем, чего от них ожидали. – «Я не хочу пить за студентов», – сказал один старый, ныне покойный профессор, когда 12 января ему предложили поднять бокал «за молодежь». Об этом рассказывали потом, и я не забуду, с каким уважением начали смотреть на него после этого случая очень многие из студентов. Раскол уже тогда и там начинался. Как теперь помню этого безукоризненного ученого в одном диспуте по палеонтологии: красавец доцент, очень речистый, на возражение невзрачного маленького старичка, ему официально оппонировавшего, сказал скромно и торжественно: «Но, позвольте, значит, вы незнакомы с последними замечаниями знаменитого венского ученого N.N.». Старик смутился и, кажется, ничего не мог возразить. Что же, на седьмом десятке лет, быть может, больной, он и вправду не успел еще, может статься, разрезать последних книжек ученых изданий и, кажется, жалел об этом, считал это стыдным для себя. «Да позвольте», – вдруг поднялся рядом со стариком сидевший профессор и сразу все покрыл своею гигантской фигурою и голосом: – Мой достоуважаемый учитель (и он обратился к смутившемуся старику, о котором я тут только узнал, что это был знаменитый ученый, сам объехавший всю Россию, еще когда доцентик не появлялся на свет), мой достоуважаемый учитель говорит вовсе не то, и вы только путаете дело своими ссылками…» – смял растерявшегося магистранта с его венскими профессорами и в крупных, резких штрихах показал, в чем суть дела и что этой сути даже не заметил опрятно одетый диспутант, все только разрезавший новые книжки и в глаза не видавший ни одного геологического разреза и никаких окаменелостей. Старшие профессора, обросшие седою щетиною, были невзрачны, неуклюжи, сгорблены под тяжестью трудов и лет; но в своих потрепанных вицмундирчиках они были удивительно как внутренно изящны, всегда просты, – это чувствовалось, – возвышенны умом и сердцем. Совсем не то было в кружке «молодых профессоров».
IV
Но печать этого не чувствовала, это старались от нас скрыть, как будто не мы записывали в аудиториях лекции и сидели на диспутах. Замечательно, что в последние годы старики, если не обязывала служба, перестали посещать диспуты – не любопытно было. Не очень любопытно стало даже и для нас. Я помню один диспут, вдруг ярко вскрывший перед нами смысл текущего момента университетской науки: предметом диссертации служили отрывки речи какого-то греческого оратора. Впрочем, содержания отрывков магистрант не касался. В разных Venezianum В, Parisiensis А были разночтения, и среди них попадались очевидные ошибки. Они могли быть просто ошибками переписчика. Начинающий ученый задавался вопросом, не были ли они ошибками не зрительными, а слуховыми: общий оригинал мог читаться одним писцом, а остальные записывали за ним и, не расслышав слова, могли ошибаться в его начертании. Никогда не забуду, как перед диспутом магистрант в пространной речи объяснял об употребленном им при исследовании «индуктивном методе». Начался диспут; оказалось, что, хорошо выдержав метод, магистрант не выдержал хорошо корректуры и, где нужно было сослаться на Venezianum В, он сослался на Venezianum А и т. д. Произошла путаница, и единственная возможная цель диссертации не была достигнута. Несколько почетных гостей дремало на диспуте; студентов было мало за специальностью предмета. Зажгли уже огни, когда кончился диспут. Мы все вышли из аудитории с чувством стыда. «Кое-что о ничем» – так можно было бы озаглавить ученый труд по его внутреннему значению, и, однако, имя ученого, положение профессора было приобретено. Мне почему-то вспомнился при этом случай, как однажды молодой человек, готовившийся показывать перед публикой, как из одной курицы вдруг делается десять и яблоки невидимо перелетают из его рукава в карманы зрителей, предварительно, хотя по возвышению, объяснял нам, смеясь: «Конечно, господа, теперь наукою доказано, что в природе не существует чудес, и все, что вы увидите, основано просто на законах физики и оптики». И я вспоминал об «индуктивном методе», и уважении к нему начинающего филолога, и весь тот диспут в большой словесной аудитории. Не то же, конечно, но в этом роде. Все стало как-то очень обыкновенно, слишком просто; все стало ассимилироваться, терять очертания и внешние разграничения.
Помню, как однажды, по окончании лекции, сойдя на крыльцо, служившее курильней двух смежных факультетов, я увидел знакомого мне студента в чрезвычайном волнении. Это был один из серьезнейших молодых людей, каких мне удавалось знавать в то время, и чрезвычайно нравственный. Будучи очень беден, он содержал (еще с гимназических годов) при себе старуху мать, которую перевез с собою и в университетский город. Несмотря на трудность положения, он никогда не обращался за стипендией и перебивался уроками. Поздоровавшись, я спросил его, что с ним? Он рассказал мне, как, толкуя на лекции какой-то старинный памятник, молодой профессор с особенною любовью стал останавливаться на неприличных выражениях в нем (в старину, по простоте, не пропускаемых) и все повторял одно название, посмеиваясь и посматривая весело на аудиторию. Об этом профессоре я уже ранее и от многих слышал как об ужасающей бездарности, и он, очевидно, решился утилизировать неприличные слова, чтобы несколько оживить свои чтения. «Это нахальство, – рассказывал мне товарищ, – и, главное, видимая уверенность в нашем сочувствии ему до того меня возмутили, что, когда он вышел из аудитории, я, затворив дверь, предложил тотчас пойти всем курсом к ректору и попросить, чтобы от нас убрали этого профессора, чтоб он больше не читал лекций, соглашаясь взять на себя выражение ходатайства» (что, конечно, было очень рискованно). Но студенты заколебались и, по идейной инерции, решили бросить все это, тем более что еще неизвестно, кого дадут взамен его, а не дадут, то и т. д.
В другой раз, на том же факультете, очень многолюдном и очень шумном, с лестницы спускался молоденький профессор и за ним толпы шумно разговаривающих студентов. Совсем в углу, на повороте лестницы, я увидел товарища своего по гимназии, Б., с лицом, залитым краской, и как-то ужасно смущенным. Думая, что что-нибудь произошло на лекции, я обратился к нескольким студентам с вопросом, но они, махнув рукой и продолжая разговаривать, прошли мимо. Увидав Б., я обратился к нему, и он, все запинаясь, не сразу начал: «Черт знает что такое! Этот NN. – он указал на пухленькую фигурку совсем юного лектора, – все пыжится изобразить из себя какого-то красного. Сегодня – лекция была о республике Платона – когда уже давно дали звонок, он вдруг вскакивает и, подняв руку, своим тоненьким пискливым голоском кричит: “Господа! Государство, в котором ultima ratio[20 - «Последний довод (лат.).] есть штык и нагайка, такое государство, господа, гибнет” – и бегом почти выбежал из аудитории. Мне стало до того стыдно – и не знаю чего: ведь не я сказал, и, кажется, черт бы с ним, но лучше бы провалиться, чем видеть его в эту минуту». Все дело в том, что к кому идет. Все эти Бруты и Гармодии с обликом молодой купчихи были нам эстетически противны. Впрочем, на нашем факультете, по его крайне мирному характеру, подобных выходок не было, и он, вместе с физико-математическим, был самым серьезным в университете.
V
Итак, что касается до идеализма в науке, то мы видели только закат его – последние прощальные лучи, которые бросала нашему времени уходившая в могилу старость. Эти лучи один за другим тухли, и наступала сырая холодная темь, сквозь которую можно было рассмотреть только какие-то скверно-вызывающие улыбки и куда-то зовущие объятия. Мы их оттолкнули: этого цинизма к науке в ее святилище мы не могли вынести. И потом за пределами университета был все тот же цинизм умственный. Строгой, печальной в своих выводах науки мы не находили и в текущих книгах. Нужно было обращаться к кожаным переплетам, к очень старым журналам, чтобы наконец хоть где-нибудь найти серьезную заинтересованность предметами, которые и нас интересовали, и серьезную речь о них. Приходилось следить и за текущими научными спорами[21 - Напр., спор о дарвинизме, долго тянувшийся в последние годы.]. Истине засыпались глаза песком, ее проницательного взгляда больше не выносили. Присмотревшись в университете, мы были уже несколько опытны в различении всего этого и, хотя обычно молчали, но впечатления в нас оставались. Так далее и далее расходились мы со временем, которое нас вскормило и воспитывало.
Один из видных публицистов старого лагеря горько сетует на нас. Он говорит о «пренебрежительном, высокомерном, вообще отрицательном отношении детей к лучшим заветам отцов». Наш отказ от «наследия 60-х годов» он называет «ничем не оправдываемым» (статья г. Н. Михайловского: «Литература и жизнь»; Русская мысль, 1891 г., июнь, с. 144). Положа руку на сердце, может ли он сказать, что мы могли быть другими, вынеся с ранних годов все эти впечатления? И сам он, ясно, как мы, сознавая унижение науки ее служителями, не попытался ли бы вырвать у них по земле волокущееся знамя и понести его хоть как-нибудь самому? Не встал ли бы он, оставаясь таким же и только родясь в наше время (то есть не будучи сам инициатором многих идей, естественно не могущим отнестись к ним «со стороны»), в ряды самых горячих борцов с поколением отживающим, в котором стоит теперь? Все мы, поколение за поколением, в самих себе не имеем значения: наше значение обусловливается лишь тем, как относимся мы к вечным идеалам, подле нас стоящим, которые с отдельными поколениями не исчезают. Сохраняет поколение верность им – и значение его не пропадает; изменяет оно этим идеалам – и его значение тотчас меркнет. В сфере умственной любить одну истину – это не есть ли идеал? В сфере нравственной – относиться ко всем равно, ни в каком человеке не переставать видеть человека – не есть ли для нас долг? И если мы видели, как опять и опять человек рассматривается только как средство, если мы с отвращением заметили, как таким же средством становится и сама истина, могли ли мы не отвратиться от поколения, которое все это сделало?
В чем главный недостаток «наследства 60–70-х годов»?
I
В одном рассказе мне пришлось, почти еще в детстве, прочесть, как в один незнакомый город вошли два путешественника. Побродив по улицам, они заметили, как толпы народа направляются все в одну сторону. Так как путешественники не имели никакой определенной цели, то, увлекаемые любопытством, и они пошли вслед за народом. Пройдя несколько улиц, искривленных и тесных, они увидели, наконец, площадь и на ней очень высокое и обширное здание, куда входил народ. С волнами его и путешественники вошли под своды этого здания. Из них один, очень деловитый, тотчас начал осматривать здание и, незаметно подвигаясь, чтобы не нарушить непонятной ему тишины, приближался ко всему, что поражало его сохранившеюся позолотою или казалось ему ценным камнем. Здание было удивительно велико, но вместе и очень старо, с потемневшею по стенам живописью и кое-где обвалившимися уже камнями. Он мысленно измерил высоту его стен и сообразил, сколько приблизительно строительного материала пошло на эти стены. Подивился и общему искусству в его постройке, потому что у себя на родине он не видел таких больших зданий, но все недоумевал, зачем столько труда и денежных средств было употреблено на него, потому что очевидно здание было неудобно, как-то неуютно, и трудно было представить себе человека с такими потребностями и вкусом, которому оно понравилось бы. Все запомнив, все сосчитав и решительно не находя, что ему еще делать, он вышел из здания, только мельком взглянув на своего товарища, стоявшего в задумчивости и, очевидно, еще не расположенного выходить. Между тем другой путешественник, чем долее стоял, тем в большее впадал очарование. Ничего подобного не видал он у себя на родине, и созерцание общего, прежде чем рассмотреть что-нибудь подробно, охватывало его все сильнее и сильнее, так что он все боялся потерять точку, на которой он стоял, и не решался пошевельнуться, чтобы к чему-нибудь подойти. Он не понимал, почему его влекли эти причудливые изгибы линий в сводах, но ощущал, что какие-то всегда жившие в нем чувства, прежде не пробуждавшиеся, неудержимо поднимаются теперь, и он, всегда бывший, как и все люди, точно становится другим человеком. Он был неизмеримо серьезнее и несравненно чище теперь, нежели когда-нибудь. Вокруг него стояли толпы народа, все так же тихо и только по временам совершая какое-то движение. Вдруг слух его поразила тихая музыка, и очарование еще возросло. Музыка доходила до самой глубины его сердца, и он, грубый и легкомысленный, впервые понял, к каким нежным ощущениям был способен. По мере того как храм перед ним раскрывался, он перерождался (по лицам окружающих он догадался теперь, что это в самом деле было нечто вроде тех убогих молелен, куда по временам собирались бедняки его города). Прислушиваясь к музыке и все более очаровываясь, он заметил, что к нему доносятся какие-то голоса и даже что музыка сопровождает какое-то пение. Заинтересованный, он решился наконец оставить свое место и продвинуться дальше сквозь тесно стоящие толпы народа. Голоса стали внятнее, и он уже мог разобрать их смысл. Все, что он пережил раньше в своей душе, чего он не мог преодолеть в себе, поддаваясь вихрю темных и мучительных ощущений, – он чувствовал, что все это в какой-то великой душе было преодолено, прояснено, и этот свет все победившей души выражался в смысле слышанных им слов. На все в душе своей он нашел в них ответ, какого не предполагал и который успокаивал. Вся его жизнь осветилась новым светом, и он понял, как много мрака было в этой жизни. Все более и более удивляясь, он понял, что, однако, не все слова относились к человеческому сердцу только. Много было совершенно неясных слов, говоривших о предметах вовсе ему не известных, и по тону пения можно было заметить, что эти слова были главные. Сколько он ни напрягал ума, чтобы понять их, это было выше его сил, и это тем более волновало и мучило его, что было ясно, как за разгадкой этих слов объяснится для него и все остальное. Между тем времени прошло уже много, необъятные массы народа вдруг зашевелились и, незаметно для него самого, вынесли его вон из-под темных сводов ставшего для него навсегда дорогим, непонятного здания. На одной из улиц он встретил своего скучающего товарища, который с изумлением спросил его, неужели он до сих пор пробыл в этой стареющей развалине, и что-то заговорил про материал, из которого она построена. Но другой путешественник ничего не слышал из его слов: он все думал о главных, непонятных ему словах и решился посвятить свою жизнь их разгадке.
Этот рассказ, помню, чрезвычайно поразил меня (в каком-то переводном французско-русском сборнике 20-х годов), и с тех пор всякий раз, как мне приходится мысленно оценивать различные исторические эпохи или присматриваться к своему времени, я всегда и все оцениваю в свете этого рассказа. Мы все приносим с собою, рождаясь, различное; мир открывается нам в меру того, что мы с собой приносим в этот мир. Поэтому, когда в данное время все идеи суживаются, горизонт становится тесен и люди как будто погружаются в какой-то глубокий колодезь, я думаю, что это только на время и со следующим поколением все станет видно иначе, чем теперь. Во всем дурном или ограниченном виновны всегда люди, а не природа, которая и безгранична, и всегда остается хороша.
II
Никак нельзя сказать, чтобы путешественник, первым вышедший из храма, видел в нем что-нибудь не так или не то, что там было. Его глаз не делал никакой ошибки, и так же все его соображения, которые следовали за осмотром той или другой части, были правильны, неторопливы, соответствовали действительности. Но только не всей они действительности соответствовали: была неполнота в его наблюдениях, и только отчасти зависело от него, что он поторопился выйти. Главная причина заключалась в том, что он как-то вовсе не обратил внимания на общую скомпановку частей и, рассмотрев порознь каждую из этих частей, был уверен, что видел уже и целое, конечно, из них состоявшее. От него ускользнуло самое главное: эта общая бегучесть всех линий здания, пересекавшихся так, что у всякого смотрящего на них невольно пробуждались какие-то особенные чувства, не имевшие ничего общего с линиями как геометрическими протяжениями. И в храме, им так подробно, детально изученном, он ничего не понял. Он не понял того замысла, который был некогда в него вложен, всеми ощущался непреодолимо и заставлял эти необозримые толпы народа, оставляя самые нужные дела свои, приходить под его своды и, на минуту ощутив в себе могучую мысль, возвращаться с новыми и освеженными силами к своему труду, заботам и страданиям.
В поколении, которое сетует теперь, что оно оставляется, была эта же главная ошибка. Оно было хлопотливо, зорко, ежеминутно деятельно. Но в том, к чему оно прилагало свою деятельность, оно ничего не поняло. И вместо того чтобы своим неустанным трудом залечить, наконец, все раны, покрыть тысячелетние страдания – оно разбередило эти рапы, увеличило эти страдания. Послышался, наконец, крик, почувствовалась ненависть – и люди, которые думали, что они станут для человечества как боги, стали только грудой черепков, с презрением отталкиваемых. В жизни, в природе человека, в окружающем его мироздании это поколение поняло только одни подробности и вовсе упустило то главное, что их связует, формирует в разбегающиеся группы и оживляет собой. Неполнота знания, при его верности; отсутствие в этом знании самых глубоких и значительных частей – это было самое важное, чего сходящее с исторической сцены поколение не заметило в себе. И уже из этого, как вторичное, вытекла грубость всех чувств и отношений, в которой так часто и справедливо его упрекают. Все искажающая, все живое мучащая деятельность его была естественным завершением этого поверхностного внимания ко всему живому.
III
В человеке, со стороны должного, они поняли только его потребности; в жизни увидели только игру слепых отношений, которые не могут не улучшиться, если к их направлению будет приложено сознание; в целом мире заметили только протяжения, которые можно измерить, исчислить и, сообразив подробности, – понять остальное в нем, как их простую сумму. Во всем, к чему они обращались, они надеялись и хотели найти только соответствия другим сторонам своей природы. Те сухие, бледные формы человеческого существования, которые впервые были замечены и описаны Аристотелем, потом дополнены Бэконом, – эти формы, в самом существе человеческом задевающие лишь часть, – они думали, охватывают и части, и целое всего мироздания. Общих, разбегающихся и пересекающихся линий, которые бы открыли им главный смысл этого мироздания, они не заметили, все только анализируя его; напротив, себя самих и то, из чего слагается их жизнь, они не поняли и не узнали до конца, все только синтетически слагая и перелагая жизнь человеческую по грубым потребностям человека. Эта неумелость отнестись мыслью к предмету и была главным источником неполноты их знания. И в самом деле, категория мышления, правильно развивающихся понятий, есть едва ли единственная, по которой создана природа. В какие логические формы может быть уловлено чувство радости, которое мы порою испытываем?
И, однако, эти акты нашей душевной жизни суть такая же действительность, как и то, что мы видим или осязаем: они суть части природы, которую мы хотели бы постигнуть только своим умом. И в самой природе этой, которую мы надеемся охватить только научными формулами (то есть подвести всю под категорию мысли), – разве мы можем утверждать, что в ней нет ничего подобного этим актам, если именно ее продолжительное созерцание и смущает, и тревожит, и неизъяснимо волнует нас? Эти чувства, пробуждающиеся в нас в ответ на впечатления природы, чему в ней отвечают, когда мыслимое в ней только мыслится, опасное – угрожает, или, наконец, благотворное – приносит пользу? Не ясно ли, что если всякому ощущению есть соответственное ощущаемое, как следствию есть сообразная причина, то и те особенные, не укладывающиеся ни в какую форму мысли и волнения, которые всегда и всюду испытывали люди при созерцании мироздания и которые они выразили в своей поэзии, в своих религиях, имеют также в самой природе нечто отвечающее себе, хотя бы это отвечающее было так же мало уловимо для определения или даже просто выразимо в ясном слове, как, например, то, что выражено в мелодии, мало может быть передано в рассказе или изложено в рассуждении. Мы здесь коснулись одного соответствия, а между тем природа вся состоит из них, и ничто другое, как эти соответствия, не проливает такого света на ее цельность. Опуская их из виду, занимаясь лишь изучением причин и их действий, целая школа мыслителей, и за ними наше старшее теперь поколение, лишили себя одного из самых могущественных средств проникновения в природу и даже простого знания множества ее подробностей. И в самом деле, из этих последних каждая есть только часть иного, и, как таковая, она полна бывает отражений в себе и этого иного, и других частей его. Нередко ни части эти, ни целое, в которое они входят, не бывают доступны прямому наблюдению, и между тем знание их важно и необходимо. Всматриваясь же, с чем могла бы быть в соответствии наблюдаемая нами часть, мы приблизительно, а иногда и точно можем открыть и узнать и недостающее целое, и его остальные части.
Все сказанное яснее и убедительнее станет, если мы возьмем какой-нибудь пример. Так пусть перед нами находится какой-нибудь обрывок кривой линии. Всматриваясь в него, мы можем заметить, что кривизна его или правильно изменяется, или остается всюду одинаковой. В последнем случае мы умозаключаем, что он составляет дугу круга с определенным радиусом и определенным же центром. По обрывку, уцелевшему пред нами, всматриваясь в его кривизну, мы без труда находим и этот центр, и этот радиус и, наконец, отыскиваем полный круг, хотя все это более не наблюдается нами. Но это все отражается в искривлении той маленькой линии, которая одна теперь перед нами и которую мы поняли как часть. Таким образом, связность природы и ее цельность ни через что не может быть видима так удобно, как через это изучение в ней соответствий; только последние образуют собой истинные, хотя и не ощущаемые границы всякой вещи и явления, далеко преступающие их осязаемые, грубые границы, одни доступные грубому прямому наблюдению. Через эти именно, одной мысли открывающиеся, границы и происходит взаимодействие вещей, которые иначе в своих грубых формах лежали бы всегда неподвижно друг возле друга, толкаясь или давя одна другую и более неспособные ничего произвести. Два факта – химического сродства вещей и всемирного притяжения – именно здесь и находят себе хотя какое-нибудь объяснение. «Причина действует только там, где она есть», – повторяли схоластическую и, по-видимому, очень точную формулу при открытии Ньютоном его закона и не могли понять, каким образом одно тело, здесь находящееся, может действовать на другое тело, от него удаленное; причем границами предмета или явления, составляющего причину, считали его физические, внешние очертания. Но где границы обрывка линии, пред нами лежащей? Ясно, что, сверх тех точек, которые в ней еще не стерты, еще не успели исчезнуть, от нее идут другие, неощутимые ряды точек, которые, взяв карандаш и присматриваясь к сохранившемуся обрывку, мы безо всякого затруднения восстановляем около него – и линия в действительности оканчивается только там, где оканчивается круг, к которому она принадлежит. Подобным образом и во всемирном тяготении проявляется связанность всей вселенной, и взаимное действие в ней отдаленных друг от друга тел происходит потому, что они, как части в великом целом, все ощущают друг друга через те невидимые, неощутимые границы свои, которые далеко преступают их геометрические очертания и могут быть открыты только уму. Так в обрывке дуги, пред нами лежащей, если бы мы стали медленно разгибать ее, – медленно же удалялся бы от нее центр круга, к которому она принадлежит, и при ее окончательном выпрямлении отошел бы на бесконечность. А между тем физически мы не коснулись бы этого центра и, заставляя отходить его, – вовсе бы его не видели.
Когда были открыты физические элементы, то, изучая их сродство, ученые думали вначале, что они влекутся друг к другу, потому что они одинаковы и их семейства схожи. Однако при детальном изучении каждого элемента порознь они с удивлением заметили, что свойства влекущихся взаимно элементов скорее характеризуются отношением противоположности. Между тем в этом именно и лежит источник самого сродства. Нельзя представить себе, что природа составилась из элементов, как самостоятельных, в себе самих замкнутых тел, которые от начала лежали друг возле друга, потом стали взаимодействовать и через это образовали все тела. Элементы суть продукты насильственного расторжения тел, и эти последние вовсе не позднее их: они – их первое в том смысле, что, ранее, чем элементы появились изолированно, были уже тела, в которые они входили. И оттого с такою силою, иногда взрывом, элементы соединяются. Взрыв есть показатель того чрезвычайного усилия, которое теперь повторяется и было употреблено раньше, чтобы разделить влекущиеся вновь друг к другу элементы. Из них есть многие, которые, несмотря на все усилия анализа, долгие десятилетия оставались скрытыми для человека, то есть они не отщеплялись от тел и, только благодаря чрезвычайному напряжению, при помощи особых и в высшей степени искусственных средств, наконец были удалены из своего всегдашнего гнездилища и предстали пред человеком изолированно. Таким образом, химическое сродство есть то же, что частное сродство, и вытекает из всегдашнего взаимодействия в целом (теле) его частей (элементов). Отсюда разнородность всего влекущегося. Уже в простейшем примере, который мы взяли для объяснения этого явления, – в обрывке геометрической линии, эта линия связуется, восстановляет около себя части не себе подобные, но от себя отличные: радиус, то есть совершенно прямую линию, и центр, то есть точку, находящуюся вне дуги окружности.
И наконец, если бы кто-нибудь, продолжая сомневаться в сказанном, все-таки утверждал, что целое непременно составляется из своих частей, а не потом на них разлагается, тот мог бы быть поколеблен в своем мнении сосредоточением своего внимания на своем собственном теле: в той первоначальной, одиночной клеточке, из которой развился весь его организм, какая часть его тела была заложена? Не ясно ли, что эта клеточка не была ни костью, ни мускульным волокном, ни частию нервной ткани, ни вообще каким-нибудь элементом его тела, а именно им целым, которое потом разложилось на элементы? Хотя, повторяем, клетка была только одна и на всем протяжении однородна, она ни из чего не составилась, но прямо отделилась от родительского организма. Итак, в этом примере мы с очевидностью наблюдаем, что целое может быть первее своих элементов, хотя несомненно состоит из них; подобным же образом, можно думать, от начала мироздания, при всяких высоких температурах, были только более и более разреженные пары воды, но вовсе не было отдельно друг возле друга лежавших элементов, которые, соединившись, образовали из себя воду.
В фигуре геометрической, как чистом протяжении, мы наблюдаем между частями только геометрическую связность; в телах физических эта связность есть и должна быть физическою; последняя и выражается в действии. Дуга круга лишь указывает в своей кривизне на положение центра и длину радиуса; но восстановить их, по строгим указаниям дуги, можем лишь мы. Это потому, что протяженность есть лишь сфера физической возможности, есть условие, при котором все предметы и явления только могут существовать; но действительность начинается лишь там, где протяженность наполняется протяжимым, т. е. веществом. Там, где оно уже появляется, не нужна рука постороннего существа, чтобы указываемое осуществить, намеченные точки наполнить каким-нибудь оттеняющим их веществом. Здесь указание заменяется осуществлением, намечивание – действительным восстановлением около себя целого. Когда химический элемент с силою притягивает к себе недостающие ему (до целого тела) другие элементы, располагает их около себя и получается цельное тело – пред глазами наблюдателя происходит то же явление, как если б из средины дуги, пред ним лежащей, вытянулась линия и, остановившись на известном расстоянии от этой дуги, из точки своей остановки, повторилась по всем направлениям бесчисленное число раз, с каждым разом прибавляя своею оконечностью новую точку к прежней дуге, пока она не сомкнулась бы в полный круг. Природа в наблюдаемых формах своих подобна множеству таких обрывков геометрических линий, которые, по-видимому, изолированы, но в действительности все сцеплены между собой и взаимодействуют чрез не наблюдаемые, только мыслимые добавления себя до целого. Здесь и лежит источник физических сил. Их разнородность, их численность зависит от того, что разнородны и многочисленны самые соответствия, в которых находятся между собой части вселенной. Но что все они вытекают из одного какого-то источника, имеют в своем основании какую-то одну особенность в сложении всей природы, – это видно из того, как все-таки много одинакового в проявлениях самых разнородных сил.
IV
Человек, как часть природы, не составляет в этом отношении исключения; но, вместо бедных и однообразных соответствий, которые связывают каждый физический предмет с окружающею средой, соответствия человеческой природы со всем миром и многочисленны, и разнородны. Как организм, как ряд сгруппированных веществ, он соотносится со всеми физическими стихиями природы. Но, сверх этого грубого соотношения, мы находим в нем другое, неизмеримо более глубокое: в его душу как бы вложены завитки всего мироздания и, повинуясь их естественному расположению, он влечется так своим умом и своим чувством ко всему же мирозданию – воссоздает его в поэзии, понимает чрез науки и философию, стремится разгадать его сокровенную сущность в своих религиях. Нет ничего в природе, не исключая самых тонких и неуловимых ее изгибов, что, так или иначе, не находило бы доступа в человека: и это значит, что в нем самом уже есть предчувствие, предугадывание всего, что лежит в природе. По справедливости, отношение его к ней не только сходно, но и во всей строгости повторяет собою отношение к многолетнему ветхому дереву плода, который наконец вызрел на нем и упал на землю: в скрытой возможности, в законах и силах своего роста, этот плод заключает все, что есть и в дереве, – все элементы его, и все законы и силы, и подобную же жизнь. Мир духовного творчества, вырастающий из человека, есть только последствие этого отношения его к природе.
Понять это особенное существо, и притом будучи им самим, так плоско и бедно, как понят был человек людьми нашего старшего поколения, – это есть одно из самых удивительных явлений истории. Как будто люди эти никогда не задумывались ни над мыслью своею, пи над движениями своего сердца, пи, наконец, над своим рождением и ожидавшею их смертью. Это были дети, которые, найдя в поле яблоко, поняли только то, что его можно съесть; какие-то трудолюбивые муравьи, которые, со всех сторон таща к себе былинки и все, что облетало с природы и было еще прекрасно, знали только одно, что из всего этого можно построить их муравейник. Страшная бедность мысли, отсутствие какой бы то ни было вдумчивости – вот что сильнее всего поражает нас в этом поколении, одном из самых жалких и скудно одаренных в истории. Не беспричинна была и какая-то странная недолговечность его, и это отсутствие хотя бы одного гениального дарования на всем его протяжении, и какое-то органическое отвращение, которое выказывало к нему богато одаренное поколение 40–50-х годов[22 - Тургенев, который, даже и в последние годы, не всегда мог скрыть это чувство (см. его переписку); Достоевский – во всех своих произведениях; Л. Толстой в отношении к сожалеемой им, но лишь в ее уродстве, фигуре Николая Левина; наконец, Гончаров в лице Марка Волохова. Только само это поколение как прежде, так и теперь всегда восхищалось собой.]. С непоколебимостью детей, съедающих яблоко, с твердостью муравья, который, не развлекаясь никакою мыслью, дырявит живое зерно, чтобы положить его в свою кучу, и эти люди перерывали все естественные отношения в сложившейся по глубоким законам жизни, чтобы воздвигнуть среди этой жизни свою кучу-жилище. Так как в богатой, многообразной и могучей действительности, выросшей из истории, не было и тени подобия их бедной и искусственной постройки, то естественно им казалось, что они «строятся в пустыне»[23 - Выражение г. H. Михайловского, поддерживаемое и «Вестником Европы» (см. 1891 г., май, статья «Писатель 60-х годов»).]. Как к песку пустыни, который лепится с глиной в кирпичи и кладется то в основание, то в вершину здания, – они относились к живым людям. И себя не жалели они при этой постройке, лепились, надрывались и падали, как муравьи; не жалели также и других людей, вовсе не знавших, что у них делается. Отсюда – вся боль, которую вызвала эта деятельность. Повторяем, не грубость чувства, но ошибка узкого ума есть главное, что причинило все пережитые нами недавно несчастия. Напрасно окружающие люди говорили, что они вовсе не тем живут, что приписывают им «строители», напрасно о том же говорила им вся история – они слышали все это, но ничего в этом не поняли. Им все казалось, что они лучше всех других узнали человеческую природу, хотя в действительности они только беднее всех ее поняли. Они взяли minimum человеческих потребностей и поэтому minimum’y, с ним сообразуясь, стали возводить здание, которое для них самих было бы тесно и узко (если б им пришлось в нем пожить подольше) и куда они хотели бы навеки заключить все человечество. Эта мечта лишенной воображения мысли стала их инстинктом, нормой их деятельности и мышления. Все, что выходило за ее узкие пределы или что ей противоречило, они считали как бы за призрак Майи, который нужно разорвать, уничтожить, дабы прозреть чрез него в действительность. Народы, тысячелетия, их борьба и страдания – все это было для них менее ощутимо и убедительно, нежели то чувство страшной боли, которое поднималось в их бедном уме всякий раз, как только пытались пошевелить в нем как-нибудь не так овладевшую им идею. Здесь, в этой душевной скудости, и заключалось главное зло, которое могло перестать искажать историю лишь тогда, когда ее вечно растущий ствол покроется новым налетом листьев.
V
И эта смена зеленого убора снова совершается. Напрасны жалобы и сетования опадающих листьев: им не повернуть солнца на зиму. На себе самих, на своей судьбе, хотя бы в последние минуты своего трепетания, они могли бы понять сколько-нибудь ту природу, в которой выросли и на которую никогда не хотели раскрыть глаз.
Мы снова обратимся к сравнению, которым начали эту статью. В храме, в который вошли два путешественника-друга, было для них обоих открыто одно и то же; но увидели в нем они различное, и на этом увиденном и понятом они разошлись навеки. Кто из них был более прав? Тот, кто посмотрел полнее. Ведь и второй путешественник, так долго простоявший в задумчивости среди храма, видел в нем все, что видел и первый, – и высоту стен, и материал, из которого они выстроены, и его приблизительную стоимость; но это было не все, что он увидел здесь. По причинам, за которые ему нужно было благодарить природу-мать, его глазу дана была восприимчивость к гармонии красок и линий, а его слуху – восприимчивость к сочетаниям звуков. Не только шум и не простые переливы зеленого и синего цветов различил он, стоя здесь, но понял выразительную музыку и исполненную смысла живопись и архитектонику частей. Что было делать ему, если его бедному другу не дано было различить всего этого: он не мог выйти вслед за ним. И между тем, когда они снова встретились на улице, ему было чрезвычайно трудно что-нибудь объяснить этому другу. Здесь сказалось простое несоответствие задатков, которые от начала были вложены в их души. Если б он указал ему на сводчатые линии колонн, замыкавшихся в купол, его друг ответил бы, что эти колонны действительно сводчаты и что наверху купол; но что было дальше объяснять ему и как объяснять? Чувство, выраженное линиями здания или красками картины, прошедшее когда-то через душу мастера и вновь пробуждающееся потом во всяком, кто умеет смотреть на его создание, – вот чего невозможно передать другому.
Кстати, в этом явлении, столь непонятном одному и понятном другому, удивительным образом отражается общий смысл двух мировоззрений, из которых одно теперь становится на место другого. Мы уже сказали, что грубость мысли, способной лишь к поверхностным наблюдениям и заключениям, была главным недостатком людей 60–70-х годов и что последствием этого недостатка была неверность их воззрений как на окружающую природу, так и на самого человека. В частности, что касается последнего, он считался этим поколением простым продолжением физической природы, наиболее сложною комбинацией ее элементов и сил. Его дух, его идеи и верования, его стремления в истории – все это считалось только производным от его физических данных на основании того, что с изменением этих данных всегда наступало изменение психической деятельности. Но вот пред нами нарисованный образ, и всякий раз, когда мы на него смотрим, в нас пробуждается чувство неопределенной грусти. Это чувство, нам передающееся от картины и уже в ней заключенное, есть по отношению к краскам, которыми она нарисована, то же, что душа в человеке по отношению к телу, в организации которого она выражена. Это – слабая, мерцающая тень, которая в своем отражении верно показывает взаимные границы двух связанных существ, на которые взглянуть прямо нам никогда не суждено. И в самом деле, не изменяется ли чувство, выраженное в нарисованном образе, всякий раз, как только изменяется в нем какое-нибудь расположение красок? Вот кто-нибудь берет кисть и подходит к нему: по мере того как кисть снимает что-нибудь в краске или сдвигает прежде разделенные линии – непонятным образом чувство, прежде проникавшее картину, начинает померкать и померкать, оно становится менее отчетливо, труднее воспринимается смотрящим и, когда перемещение красок делается значительным, – пропадает окончательно. Мы имеем перед собой краски – те же, какие и были, – но иначе размещенные, из которых совершенно исчезло то, что прежде светилось сквозь них и так привлекало и волновало каждого. Теперь они могут быть размещены как угодно, никакой принудительной необходимости в их расположении нет: это – только безжизненное вещество, свободно движущееся туда и сюда. Но прежде они были связаны в своем расположении. Что их связывало? Чувство, прошедшее некогда по душе неизвестного мастера, которое он захотел выразить, и для этого собрал и расположил краски ему известным, определенным способом. Именно это чувство – акт живой человеческой души – необъяснимо завязалось в вещества, которые, по-видимому, только известным образом поглощают и отражают лучи спектра. Есть ли этот психический акт только последствие, вытекающее из размещения красок? Нет, он по времени предшествовал этому размещению, и никогда бы не произошло последнего, если бы не было нужды закрепить этот акт. Куда же исчезает он, когда картина погибла? В гибели ее, в стирании красок мы видим обратное геометрическое передвижение веществ, некогда сдвинутых для восприятия психического акта, который предшествовал этому движению. Там, мы знаем, этим сдвиганием не был создан психический акт, – и он не мог исчезнуть здесь – в обратном перемещении красок, он просто стал неощутим, не выражен более. Но в душе, одно движение которой он составил когда-то, он запомнен и продолжает быть. Здесь, в этом явлении, каждая черта которого нам известна и понятна, мы с очевидностью наблюдаем, как самая тесная обусловленность двух существ совершенно соединима с их полною разнородностью, и также видим, как появление и исчезновение пред нами одного существа в зависимости от изменения другого есть только обнаружение и скрытие того, что в действительности было прежде этого обнаружения и всегда после него останется. Простая ошибка в умозаключении была причиной, что мир поэзии, религии и нравственности остался непонятым и навсегда закрытым для поколения, которое должно бы сетовать на себя только, а между тем сетует на других.
Европейская культура и наше к ней отношение
I
В июньской и июльской книжках «Вестника Европы» за 1891 г. рубрика «Из общественной хроники», всегда наиболее живо отражающая текущие интересы журнала, посвящена обсуждению и осуждению разных замечаний, высказанных в последнее время нашими публицистами относительно западноевропейской цивилизации.
«Запад гниет, запад разлагается» – такова была, говорит почтенный журнал, пятьдесят лет назад одна из любимых формул только что зарождавшегося славянофильства. Теперь славянофильство как организованное целое более не существует. Его основатели давно сошли со сцены; исчезли и непосредственные их преемники, поддерживавшие так или иначе первоначальные традиции школы; остались только кое-какие обрывки некогда стройного учения, повторяемые другими людьми, в другом тоне и с другою целью. Уцелела в этом смысле и формула, приведенная нами выше. По-прежнему чувствуется в ней высокомерное отношение к «чужим» и «чужому», по-прежнему слышится благодарность судьбе, сделавшей нас иными – лучшими, более сильными и свежими, чем наши «ближние» (июнь, 1891 год, с. 882).
В этом отрывке, как в крошечном лоскутке огромного покрывала, которым вот уже несколько десятилетий писатели враждебного лагеря силятся задернуть от общественного внимания славянофильскую теорию, ясно можно видеть истинную причину постоянной безуспешности подобных усилий: в сфере мысли можно бороться только мыслью, но ничего нельзя сделать словами, как бы много их не было набрано. И в самом деле, в приведенной тираде все слова стоят как-то врозь, едва цепляясь друг за друга грамматически и совершенно не удерживаясь в какой бы то ни было логической связи: какое отношение между смертью основателей славянофильства и их непосредственных преемников и самою теорией, ими завещанной? Кто и когда «организовал» славянофильство и что вообще могут означать слова «организованное славянофильство»? Но написавшему все эти непонятные выражения кажется, что в них есть какая-то убедительность, и в неприятном учении он уже видит «обрывки».
В том и заключается сила славянофильства, что, будучи идеей немногих избранных умов и имея против себя всю огромную массу образованного общества, оно всегда критически относилось к своему содержанию, постоянно пополняло его и очищало. Отсюда такая органичность в развитии этого учения, постоянный преемственный рост, какого и тени мы не находим в учении «западников», и до сих пор все повторяющих общие места, встречавшиеся уже у Белинского и его современников[24 - Вообще в развитии «западнического» учения нет ни преемственности, ни роста, и это выражается в простом факте, что история его не написана и не может быть написана. Напротив, история славянофильской теории существует.]. На какой труд, подобный, например, «России и Европе» покойного Н. Я. Данилевского, по сложности, по системе развиваемой мысли, могут указать «западники» в своем лагере? Где у них эта страстность и чистота убежденности, какие есть у Константина Аксакова? Эта прелесть и сила речи, которою, – независимо от всякого содержания, мы любуемся невольно в «Национальной политике» и других многочисленных статьях К. Леонтьева? Поистине, силою и разнообразием дарований, богатством и сложностью мысли, высоким уважением к Европе и страстною любовью к своей родине славянофилы так ярко выделяются на тусклом фоне нашего общества, что, как бы ни было многочисленно последнее, раньше или позже ему придется только преклониться перед этими избранными натурами, которые оно из себя выделило. В этом ряду мыслителей, художников и поэтов, соединенных между собою единством воззрений и симпатий, мы находим такую твердость убеждения и силу преданности, о которую всегда разобьется всякий праздный смех, к какому уже с самого раннего времени стали прибегать их противники. Высказанное впервые И. Киреевским, развитое и углубленное Хомяковым, возведенное в систему Н. Я. Данилевским, учение это продолжает развиваться и до сих пор. В замечательных трудах К. Леонтьева мы видим последнюю трансформацию этого учения, и если бы западническая критика не ограничивалась повторением общих мест, если б она действительно имела силы бороться – она давно подвергла бы систематическому обсуждению идеи, высказанные последним в книге «Восток, Россия и Славянство» или в брошюре «Национальная политика как орудие всемирной революции». Мысль, кажется, заслуживает того, чтобы к ней отнеслись с мыслью. «Я праздновал бы великий праздник радости, если бы кто-нибудь несомненными доводами убедил меня, что я заблуждаюсь», – сказал этот писатель в одном из своих трудов; и неужели это сознание своего бессилия отказаться от того, что, быть может, составляет мучение жизни и, однако, истинно, – не в состоянии пробудить в окружающих людях интереса к этим особенным и печальным мыслям очевидно сильного ума и честного сердца?
Но если таково отношение к живой мысли в недрах самой литературы, то не утрачивает ли эта литература всякое право на какое-нибудь особенное уважение общества, руководить которым, однако, берется? «Спор выясняет истину», – повторяется в печати постоянно, и этим она высказывает требование для себя свободы и влияния. Но вот истина высказана: она ярка и значительна; но только потому, что она вместе и неприятна, она заволакивается от общества молчанием и погибает под тяжестью голосов, сегодня интересующихся одним, завтра другим – без которых, быть может, эта важная истина была бы услышана обществом и обдумана. В частности, «Вестник Европы», который вот уже четверть века держит среди нашего общества знамя западноевропейской культуры, если бы он хоть сколько-нибудь понимал обязанности, вытекающие из положения, занятого им в литературе, – давно и первый заговорил бы он об этих идеях, столь глубоко и тревожно осуждающих судьбы проповедуемой им культуры. Не может же орган печати, если только он действительно серьезен, упустить повод обстоятельно высказать свои взгляды, когда сильный соперник вызывает его на сильный отпор? Но вот, по предмету, где он должен бы высказываться, он ограничивается остроумием и, вместо этого, на десятках страниц излагает книги, которые могли бы быть изложены во всяком другом журнале, теперь, или после, или даже никогда – все равно. Покойный Шелгунов или г. Скабичевский, может быть, добрые люди и очень усердные писатели; но к идейному содержанию нашего общества, насколько оно уже высказано, и гораздо лучше, другими людьми, они не прибавили ничего. Итак, их можно оставлять, как высказывающих, быть может, верные мысли, в покое; но что же в их мнениях излагать?
II
Мы заметили выше об органичности, которой отличается развитие славянофильской теории. И действительно, все ее отдельные элементы являлись сначала в форме догадок, предчувствий, необоснованных воззрений и требований, и только потом, путем нового движения мысли, все это слагалось в твердые члены связной системы. Можно сказать, что славянофильство не изобретено, не придумано, но философски открыто: до такой степени оно соответствует текущей действительности и истории – так оно оригинально, настолько преобладают в нем начала научного объяснения над догматическим требованием. Частный случай, о котором мы заговорили, как нельзя лучше подтверждает общую истину. Недоверие к западному прогрессу, слова о «гниении» Запада действительно уже много десятилетий не сходят с уст славянофилов. Но одно указание на недостаток в Европе некоторых свежих и здоровых чувств, какие сохранились у нашего народа, или даже указание на резкую ложность и несправедливость многих распространенных там понятий и учреждений, конечно, не было бы еще подтверждением столь общей мысли, что западная культура, в ее целом, падает или что прогресс вообще есть зло. Истинный взгляд на все подобные указания должен быть тот, что они выражали бессильное желание чем-нибудь подтвердить смутное и, однако, очень сильное предвидение, чувство. Это были вопли Кассандры, совершенно лишенной каких-нибудь средств убедить тех, кто над нею смеялся. Но вот прошли десятилетия, и вопли оправдываются, а из смеявшихся еще смеется только тот, кто уже совершенно ничего не понимает и ничего не способен видеть.
В лагере прежних славянофилов, если б услышан был человек, говорящий, что две-три проигранные битвы, которые заставили бы нас навсегда отречься от западных славян, были бы очень дешевой ценой, какой мы могли бы купить это драгоценное для нас отречение, – в лагере ранних славянофилов этот человек, вероятно, был бы сочтен величайшим врагом Славянства и противником всей славянофильской партии; и, однако, так велико богатство внутренних задатков этой теории, что именно К. Леонтьев является одним из самых глубоких исполнителей славянофильской идеи. Политическая сторона этой идеи, над которою так много работал И. С. Аксаков, о которой шумели в свое время д-р Ригер и множество других, – все это осело, как пыль, пред истинно великою задачей: продлить культурное существование человечества чрез отсечение славянского мира от очевидно разлагающейся культуры Западной Европы. Если у человечества в его целом, у культуры, у цивилизации, у истории просвещения был когда-нибудь друг, боровшийся за все это, не жалея своего имени, своих сил, произнося в минуты отчаяния самые безумные о них слова, способные покрыть произнесшего только позором, то это – мало известный, пройденный у нас молчанием писатель, труды которого мы только что упомянули. Он нашел объективные признаки всякого разложения и всякого развития и, приложив их к западноевропейскому социальному строю, – по ним определил его несомненное падение. Отринув показание субъективного чувства, которое у каждого человека изменяется сообразно темпераменту, воспитанию и окружающей среде, он чрез это одно поднялся над всеми партиями и стал на высоте наблюдателя-мыслителя. С этой высоты он открыл, что как в природе, так и в истории человечества процессы развития имеют одно течение: восхождение от первоначальной простоты, слитности – к многообразию форм, в одно и то же время раздельных и связанных прочно единством общего типа; далее, непродолжительное стояние на высшей точке этого многообразия форм и, наконец, падение вниз, вторичное и более быстрое нисхождение к прежней слитности, однообразию всех частей. Племя, в котором возникает государственная организация, появляются сословия, расцветает религиозный культ, военные подвиги, наконец, поэзия и философия, – вот пример восходящего развития; минеральная масса, слагающаяся в определенные грани, не переступаемые ни для одной частицы вещества, замкнутая в строгой геометрической форме, – вот еще восходящее развитие; наконец, сюда же относится последовательное образование из туманного звездного пятна центрального светила и системы планет, распадение каждой из них на атмосферу, воду и сушу и выделение последней над водой в форме материков. Всюду, куда бы ни обратили мы взгляд, будут ли то космические массы, наша земля и населяющие ее организмы, наконец, человеческий дух и его история, – везде восхождение жизни, повышение развития сопровождается распадением прежде слитной массы на свое образные и обособленные части. И напротив, все в природе, разлагаясь, проходит чрез процесс вторичного смешения частей и упрощения всего своего сложения: в гниющем трупе границы органов смешиваются, жидкости разливаются по всему телу. Все становится однородною массой, которая, разложившись на свои элементы, сливается, наконец, с окружающею физическою природой; также утрачивает свои грани и твердые утлы расплывающийся кристалл, который готов исчезнуть в растворяющей его жидкости; и в солнечной системе, если бы каким-нибудь образом ослабли законы, принудительно удерживающие каждую планету в своей орбите, вскоре бы наступили хаос и смешение, и простая груда однообразных развалин заменила бы сложный, цветущий разнообразием мир. Наконец, государство, умерев, оставляет на своем месте неустроенную этнографическую массу, столь же простую, лишенную внутренней морфологии, как и та, которая предшествовала его возникновению. Итак, сложность внутреннего содержания есть показатель внешней крепости и общего жизненного напряжения во всем, что существует; напротив, возвращение к простоте, начинающееся смешение элементов есть симптом умирания.
Возможно ли сомневаться, что все это действительно так? И неужели раздражение страстей в борющихся теперь партиях так велико, что в самом деле наступило время, предвиденное одним политиком, когда аксиомы геометрии будут оспариваться, раз это потребуется для собственной победы и для того, чтобы не сдаться правому, но ненавидимому противнику?
В то время как люди еще боролись бессильной иронией своих слов, история уже готовила для них злую иронию фактов. Не успели смеющиеся уста сомкнуться, как лица смеющихся исказились ужасом одинокой смерти. Все это можно было предвидеть, всего этого можно было избежать еще тридцать лет назад. Не следовало забывать историю, не следовало забывать текучесть своего момента времени.
II
Эта боль положения не может не вызывать сетований. Но какая разница между тем, как сходили с исторической сцены люди сороковых – пятидесятых годов, и тем, как сходят теперь с этой же сцены их дети! Несколько слабохарактерные, всегда изящные и задумчивые; несколько неправые, как и всякое поколение, пред вечными обязанностями человека на земле, люди сороковых – пятидесятых годов прежде всего устремили свое внимание именно на эти последние. Уже по внешним условиям они не могли стать людьми дела, но, кажется, и по внутренним склонностям они были мало к нему способны и расположены. Это были прежде всего люди рефлексии, люди углубленного, развитого чувства. Повинуясь только своему влечению, не сознавая своего исторического положения, они создали целый мир глубоко человечных понятий и чувств. Как и всегда в течение вот уже двух веков, они обращались беспрестанно к Европе, которая стала для них вторым отечеством, часто более дорогим и духовно близким, чем своя родина; но по благородным задаткам своей души они избирали в Европе одно лучшее. И это лучшее они принесли к себе, в свою серую родину, холодную и угрюмую. Семя, посеянное ими здесь, взросло богатою нивою, которую мы и до сих пор жнем, почти не чувствуя еще ее истощения. Круг применения идей, правда, очень расширился, как и количество фактического содержания, которое от начала они могли бы вместить в себе; самые же идеи почти не увеличились. В этом состояла их историческая задача: в общество, в верхних слоях своих еще грубое, в средних и образованных – наивное, они внесли серьезное размышление и углубленность чувства. Но практического применения этих идей ими не было сделано – это была вторая и более легкая задача, предстоявшая их детям.
Последние с упрека отцам своим в этом недостатке и открыли свою деятельность. Привычка на всем тотчас сосредоточиваться, забывая остальное, и на этот раз не оставила готовое сойти в могилу поколение. Они забыли то, что сделали, и помнили только о том, чего не сделали. Сама история, непреодолимым движением фактов, привела их перед концом к этой мысли, самой необходимой для всякого, кто готовится оставить жизнь. Грустные и растерянные, со встревоженною совестью, один за другим сходили эти люди с исторического поприща, оставляя трепещущему жизнью поколению детей своих завет труда, которого сами они не выполнили. И дети их приступили к труду; о, конечно, и из них многие остались верны памяти отцов, и задача, на которую молча указывала история, – с развитою душой приступить к обновлению жизни – была ими выполнена. Лучшее, что было сделано в царствование Александра II (не по прочности, но по мотиву), было сделано людьми этого душевного настроения. Они учились, они размышляли и чувствовали, как и люди сороковых и пятидесятых годов; из них многие и теперь живы, и как светоч блистают для нас в сферах науки, литературы и, может быть, политической деятельности (о последней не знаю). Их было очень немного, хотя они сделали главное, остающееся в истории. Совсем иным путем пошла главная масса. На деле их, на писания в течение двадцати лет можно здесь набросить покров: мы все их знаем; не знаю, желательно ли составление очень подробной истории этих писаний и дел, и часто думается, – раз это время уж минуло, – что лучше было бы никогда не поднимать над ними покрова. Пусть мы, все видевшие, все читавшие и знавшие, живем еще с тревожными, с мучительными и раздраженными воспоминаниями, но ни к чему передавать эти воспоминания и дальним поколениям. Желчи и горечи достаточно даст каждому из них и свое время. Одного не следует забывать при этом, чтобы хорошо понимать источник разницы между двумя рядом стоящими поколениями нашего общества. Говоря о людях сороковых и пятидесятых годов, мы заметили, что главное в их деятельности было обусловлено избирательными инстинктами, которые они принесли с собою в Европу. В этих же инстинктах и теперь состояло все дело. Европа шестидесятых и семидесятых годов, как и всегда, представляла из себя необозримую сокровищницу, увитую седым мхом и зеленеющими побегами, где всякий мог находить для себя все, что было ему нужно. Гениальное и пошлое, целебное и заразительное – все было в этом организме, самом могучем и полном, какой создавался когда-либо в истории. Европа уже все передумала, все пережила, все переделала на все манеры, – и у ней одинаково можно научиться и тому, как просветлять жизнь высшим светом, и тому, как отравлять свою душу неизгладимою отравой. Все дело, продолжаем, было в инстинктах избирания. Руководясь ими, люди шестидесятых и семидесятых годов принесли из бесценной сокровищницы Запада новые семена на свою родину – и ниву, уже засеянную их отцами, занимая их след, засеяли новым принесенным семенем. Нива снова возросла, жатва созрела и была срезана, но… когда должен был начаться вечерний пир, пищи не оказалось. Люди, приведенные на этот пир с молодыми, свежими инстинктами, непреодолимо отвращаются от приготовленных яств. И старики, которые так много трудились на ниве в знойные и в холодные дни, руки которых устали и более неспособны к труду, видят, что свою жатву, надежду стольких лет, им остается только унести с собой в могилу. Все это страшно горько, страшно трудно, надо всем этим нельзя смеяться, и дурно делает тот, кто это делает. Но изменить факта нельзя – и не следует.
III
Групповой возраст этого поколения, отказывающегося от наследства отцов своих и от солидарности с ними, должен быть от 20–30 лет или несколько более. Молодежь, принадлежащая к нему, должна была родиться между 1858–1868 гг., кончить гимназию между 1878–1886 гг., а университет между 1880 и последующими годами. Время, в которое эта молодежь слагалась умственно и вырабатывала себе жизненную программу, совпало как раз с наиболее печальным временем нашей общественной жизни. Тут были и 1 марта 1881 года, и все его дальнейшие острые последствия. Общество заметалось, спуталось; оно и прежде было слабо сознанием, а тут мысль его и совсем очутилась под спудом. Аксаков думал, что умственный промежуток, который открылся теперь перед обществом, и есть именно наиболее благоприятный момент того, чтобы общественное сознание встало в том направлении, которое он считал единственно способным обновить все наше общественно-государственное существование. Рядом с этим так называемые западники считали необходимым продолжением реформ в более широком виде и с более расширенною деятельностью интеллигенции. Но явилось и еще движение, направленное именно против интеллигенции. Это было одно из самых злополучных и несчастных самоотречений, продолжающееся и до сих пор. «Интеллигенция была сделана козлом отпущения за все – и кем же? Такою же самою интеллигенцией, как она, которая было устремилась за знанием, которую выдвинула Россия как необходимую для нее умственную силу – эта самая интеллигенция повернулась против той, которая так долго вела ее, почти во всем уже успела и стояла, по-видимому, перед минутой окончательного торжества своего»[17 - «Вестник Европы», 1891 года, май. С. 246–247.].
Так пишет один из самых деятельных писателей 60-х годов, лишь недавно сошедший в могилу, почти накануне ее. Да, все это было так, и годы указаны с изумительною точностью. Видно, что человек, писавший это, зорко следил за окружающею жизнью; но ход ее, но смысл и источник нового поворота для него, как человека, видевшего все лишь под одним углом, был неясен, непонятен, просто неизвестен. Он умер, проклиная новое движение, недоумевая о том, что делается. Так всегда бывает в истории, что люди, несущиеся на одной волне ее, видят только эту волну и, когда она падает, – думают, что все погибло и что история останавливается. Но это не так. Действительно, 70-е годы гимназии и 80-е университета – все впечатления этих лет и впечатление от 1 марта… Припомним же, каковы были эти впечатления; что нас в то время поразило, когда мы, стоя на пороге между гимназией и университетом, переживали эту страшную катастрофу. Нас поразила эта сухость сердца, этот взгляд на человека и отношение к нему. О, забудем, что-то был Государь, и Бог с ней, с этой все политикой и политикой… Но разве это не был человек, как и мы, с таким же ощущением простой физической боли, с таким же страхом смерти, с такими же светлыми надеждами, когда был молод, и разочарованиями, когда стал стар? Этот злобный смех на такие страдания, при которых нам всем было бы трудно, это равнодушие и вся политика перетрусившей печати, это холодное безучастие «интеллигентного» общества, когда одному человеку так больно, весь этот цинизм какой-то не то развращенной, не то от рождения пробуждавшейся души – нам был невыносим и отвратителен. Это было главное и самое сильное впечатление, необыкновенно яркое и которое не мешало задумываться, потому что оно было одиноко. Все та же и та же боль умирающего человека, и равнодушное молчание вокруг. Мы тогда учились и все читали, все видели, тем более что никто нас в отдельности не замечал и ничего от нас не скрывали. «Но это было фактом политики, и никакой личной ненависти при этом не было», – говорили нам. Но тогда «цель оправдывает средства»? Тогда зачем же это негодование на костры инквизиции, также жегшей людей не для удовольствия, но для водворения на земле единства веры, то есть для их устроения, для их спасения за гробом, то есть «для наибольшего счастия наибольшего числа людей»[18 - Формула дели человеческой жизни в утилитарной теории, которая в 60–70-х годах была общераспространенною.], разумея счастие по условиям своего времени, своего воспитания, своих умственных способностей, – как иначе и не могут разуметь счастье люди и никогда не будут его разуметь. Этот недостаток универсальности в приложении принципов – было второе, что нас поразило тогда. «Мера одна для нас, которую мы требуем, а для других будет та мера, которую мы приложим к ним», – это всегдашнее требование эгоизма и несправедливости продолжало действовать и в тот момент, о котором нас хотели уверить, что он открывает собою эру изгнания из истории всякого насилия, эгоизма и несправедливости. Ясно, что не было никакой «эры»; было обыкновенное политическое волнение, с взволнованными страстями, с придуманными теориями – момент в излучистом течении истории, но вовсе не ее увенчание. Понять частный факт истории как всеобщий, принять будни за Светлый Праздник – этого мы не могли и не хотели, по простой невозможности не видеть, когда зрение дано, или не слышать, когда есть ухо. Но, повторяю, это впечатление было лишь последнее и самое яркое, необыкновенно важное в своем долгом одиночестве, не мешавшем думать. Детальные же, подготовительные впечатления – они шли издали, начались уже давно.
В 70-х и в начале 80-х годов мы все учились несколько иначе, чем учатся теперь. Мы все были теоретиками и мечтателями с ранней школьной скамьи. Средняя школа для нас проносилась, как в тумане, и мы все смотрели, из разных захолустных уголков России, в ту неопределенную даль, где для нас и было только одно – сияние милого, обвеянного мечтами, нас ожидавшего университета. Собственно, только эта поэзия ожидания и согревала нас в те ранние года, и ничем учитель не мог так привязать к себе и заинтересовать в классе, как рассказав что-нибудь о годах своего университетского учения – какие бывают профессора, что они читают, какой они имеют вид, наконец. Мы уже во многом были серьезны, но если в чем были детьми, со всей поэзией детства, со всею нескрываемою и нас несмущавшею наивностью, так именно в этом ожидании, в этих условиях представить людей, занятых только наукой, т. е. изысканием истины, и совершенно непохожих на всех окружавших нас, которые нам наскучили, которых мы часто не любили и не уважали. Помню эти долгие, уединенные прогулки по нагорному берегу Волги, с определением по положению солнца того направления, где был университетский город и куда вот уже скоро умчит поезд и. т. д., тогда начнется совсем, совсем другое. И ничего другого не было… Все было обманом старых литературных воспоминаний и немногих, избранных впечатлений наших школьных учителей. Университет – universitas omnium litteratum[19 - Совокупность всех наук (лат).], вся эта «филология» наша была неправильна. Никак нельзя было представить, из каких требований ума вытекло это распределение наук, и в особенности как можно было преподавать науку, совершенно сбиваясь в ее определениях. Было чтение разных вещей о разных предметах, хрестоматия или сборник практически полезных сведений, но не было науки в смысле теории, своими широкими рамами покрывающей естественные потребности естественно же развивающегося ума. Даже и идеи о возможности и необходимости такого теоретизма нигде не было. Самые предметы науки как-то странно никого не интересовали; интересовали книжки, написанные об этих предметах, репутация широкой в них начитанности. В идее – огромное множество островов, ни к чему не примыкающих; в действительности – просто рассказы об островах, которые давно скрылись под поверхностью воды. А мы ждали материка. О, как удовлетворил бы нас Фома Аквинский, хотя между нами многие пришли сюда атеистами; или Бодэн, Гоббс, Жозеф де Местр, хотя мы вовсе не были «легитимисты». Но мы ждали складности; и кто бы нам ее ни дал – мы бы за ним пошли.
Только немногие старые профессора и спасли в нас идеализм к науке. Это были последние эпигоны людей 40-х годов, каких мы видели, которых мы никогда не забудем. «По-моему, где профессор – там и университет», – сказал один из них, вышедший тогда почему-то в отставку (Буслаев). – Да, конечно, а не большое кирпичное здание, выстроив которое в Томске и повесив на него вывеску, еще без профессоров, без студентов, все почему-то называли: «Сибирский университет». Странные понятия об университете – о святилище наук, где они преподаются, и которое изготовляется печниками на кирпичных заводах. Все извратилось и померкло в наше тусклое, искаженное время. В «университете» университету еще нужно зародиться; завестись чудакам-профессорам и всей студенческой братии слюбиться, сжиться, порасти мхом, кого-нибудь похоронить и справить тризну – и тогда это будет университет. Удостоиться стать им через почетный труд, через доблестную жизнь, через историю – можно; выстроиться университету нельзя.
Тогда в журналах все писали о «кружке молодых профессоров» в нашем университете; о стариках никто не писал и не говорил – только они сами издавали один ученый труд за другим, и до этого никому не было, по-видимому, дела. Работали в пустыне. Молодые же профессора, за исключением двух-трех, все были какие-то розовые или упитанные и чрезвычайно уморительные в своих усилиях показаться «страшными». Наивны они были очень; об одном рассказывали в университете, что он все укладывал в чемодан белье, говоря, что его скоро «вышлют», – конечно, выслать его было решительно не за что, и он до сих пор строчит свою бесталанную макулатуру во многих наших «передовых» изданиях. Этот профессор, охотнее возившийся с чемоданом, чем с книгами, понимая, что это не может не отражаться на лекциях, достаточно темно и достаточно ясно намекал на некоторую бедность развития при всей эрудиции у его старшего коллеги по факультету, который издавал тогда свои капитальные работы по финансовому праву. Эпиграфы к сочинениям обыкновенно брались тоже из какого-нибудь «страшного» философа. «Не плакать, не смеяться – но понимать. Spinosa» – помню, стояло на брошюре из веленевой бумаги у одного профессора, хотя из трех указанных проявлений человеческой натуры известно было всем, что он любил только второе. Все это было наивно, все было порой невыносимо; большее число студентов, как и всякой большей массы, становилось все более и более тем, чего от них ожидали. – «Я не хочу пить за студентов», – сказал один старый, ныне покойный профессор, когда 12 января ему предложили поднять бокал «за молодежь». Об этом рассказывали потом, и я не забуду, с каким уважением начали смотреть на него после этого случая очень многие из студентов. Раскол уже тогда и там начинался. Как теперь помню этого безукоризненного ученого в одном диспуте по палеонтологии: красавец доцент, очень речистый, на возражение невзрачного маленького старичка, ему официально оппонировавшего, сказал скромно и торжественно: «Но, позвольте, значит, вы незнакомы с последними замечаниями знаменитого венского ученого N.N.». Старик смутился и, кажется, ничего не мог возразить. Что же, на седьмом десятке лет, быть может, больной, он и вправду не успел еще, может статься, разрезать последних книжек ученых изданий и, кажется, жалел об этом, считал это стыдным для себя. «Да позвольте», – вдруг поднялся рядом со стариком сидевший профессор и сразу все покрыл своею гигантской фигурою и голосом: – Мой достоуважаемый учитель (и он обратился к смутившемуся старику, о котором я тут только узнал, что это был знаменитый ученый, сам объехавший всю Россию, еще когда доцентик не появлялся на свет), мой достоуважаемый учитель говорит вовсе не то, и вы только путаете дело своими ссылками…» – смял растерявшегося магистранта с его венскими профессорами и в крупных, резких штрихах показал, в чем суть дела и что этой сути даже не заметил опрятно одетый диспутант, все только разрезавший новые книжки и в глаза не видавший ни одного геологического разреза и никаких окаменелостей. Старшие профессора, обросшие седою щетиною, были невзрачны, неуклюжи, сгорблены под тяжестью трудов и лет; но в своих потрепанных вицмундирчиках они были удивительно как внутренно изящны, всегда просты, – это чувствовалось, – возвышенны умом и сердцем. Совсем не то было в кружке «молодых профессоров».
IV
Но печать этого не чувствовала, это старались от нас скрыть, как будто не мы записывали в аудиториях лекции и сидели на диспутах. Замечательно, что в последние годы старики, если не обязывала служба, перестали посещать диспуты – не любопытно было. Не очень любопытно стало даже и для нас. Я помню один диспут, вдруг ярко вскрывший перед нами смысл текущего момента университетской науки: предметом диссертации служили отрывки речи какого-то греческого оратора. Впрочем, содержания отрывков магистрант не касался. В разных Venezianum В, Parisiensis А были разночтения, и среди них попадались очевидные ошибки. Они могли быть просто ошибками переписчика. Начинающий ученый задавался вопросом, не были ли они ошибками не зрительными, а слуховыми: общий оригинал мог читаться одним писцом, а остальные записывали за ним и, не расслышав слова, могли ошибаться в его начертании. Никогда не забуду, как перед диспутом магистрант в пространной речи объяснял об употребленном им при исследовании «индуктивном методе». Начался диспут; оказалось, что, хорошо выдержав метод, магистрант не выдержал хорошо корректуры и, где нужно было сослаться на Venezianum В, он сослался на Venezianum А и т. д. Произошла путаница, и единственная возможная цель диссертации не была достигнута. Несколько почетных гостей дремало на диспуте; студентов было мало за специальностью предмета. Зажгли уже огни, когда кончился диспут. Мы все вышли из аудитории с чувством стыда. «Кое-что о ничем» – так можно было бы озаглавить ученый труд по его внутреннему значению, и, однако, имя ученого, положение профессора было приобретено. Мне почему-то вспомнился при этом случай, как однажды молодой человек, готовившийся показывать перед публикой, как из одной курицы вдруг делается десять и яблоки невидимо перелетают из его рукава в карманы зрителей, предварительно, хотя по возвышению, объяснял нам, смеясь: «Конечно, господа, теперь наукою доказано, что в природе не существует чудес, и все, что вы увидите, основано просто на законах физики и оптики». И я вспоминал об «индуктивном методе», и уважении к нему начинающего филолога, и весь тот диспут в большой словесной аудитории. Не то же, конечно, но в этом роде. Все стало как-то очень обыкновенно, слишком просто; все стало ассимилироваться, терять очертания и внешние разграничения.
Помню, как однажды, по окончании лекции, сойдя на крыльцо, служившее курильней двух смежных факультетов, я увидел знакомого мне студента в чрезвычайном волнении. Это был один из серьезнейших молодых людей, каких мне удавалось знавать в то время, и чрезвычайно нравственный. Будучи очень беден, он содержал (еще с гимназических годов) при себе старуху мать, которую перевез с собою и в университетский город. Несмотря на трудность положения, он никогда не обращался за стипендией и перебивался уроками. Поздоровавшись, я спросил его, что с ним? Он рассказал мне, как, толкуя на лекции какой-то старинный памятник, молодой профессор с особенною любовью стал останавливаться на неприличных выражениях в нем (в старину, по простоте, не пропускаемых) и все повторял одно название, посмеиваясь и посматривая весело на аудиторию. Об этом профессоре я уже ранее и от многих слышал как об ужасающей бездарности, и он, очевидно, решился утилизировать неприличные слова, чтобы несколько оживить свои чтения. «Это нахальство, – рассказывал мне товарищ, – и, главное, видимая уверенность в нашем сочувствии ему до того меня возмутили, что, когда он вышел из аудитории, я, затворив дверь, предложил тотчас пойти всем курсом к ректору и попросить, чтобы от нас убрали этого профессора, чтоб он больше не читал лекций, соглашаясь взять на себя выражение ходатайства» (что, конечно, было очень рискованно). Но студенты заколебались и, по идейной инерции, решили бросить все это, тем более что еще неизвестно, кого дадут взамен его, а не дадут, то и т. д.
В другой раз, на том же факультете, очень многолюдном и очень шумном, с лестницы спускался молоденький профессор и за ним толпы шумно разговаривающих студентов. Совсем в углу, на повороте лестницы, я увидел товарища своего по гимназии, Б., с лицом, залитым краской, и как-то ужасно смущенным. Думая, что что-нибудь произошло на лекции, я обратился к нескольким студентам с вопросом, но они, махнув рукой и продолжая разговаривать, прошли мимо. Увидав Б., я обратился к нему, и он, все запинаясь, не сразу начал: «Черт знает что такое! Этот NN. – он указал на пухленькую фигурку совсем юного лектора, – все пыжится изобразить из себя какого-то красного. Сегодня – лекция была о республике Платона – когда уже давно дали звонок, он вдруг вскакивает и, подняв руку, своим тоненьким пискливым голоском кричит: “Господа! Государство, в котором ultima ratio[20 - «Последний довод (лат.).] есть штык и нагайка, такое государство, господа, гибнет” – и бегом почти выбежал из аудитории. Мне стало до того стыдно – и не знаю чего: ведь не я сказал, и, кажется, черт бы с ним, но лучше бы провалиться, чем видеть его в эту минуту». Все дело в том, что к кому идет. Все эти Бруты и Гармодии с обликом молодой купчихи были нам эстетически противны. Впрочем, на нашем факультете, по его крайне мирному характеру, подобных выходок не было, и он, вместе с физико-математическим, был самым серьезным в университете.
V
Итак, что касается до идеализма в науке, то мы видели только закат его – последние прощальные лучи, которые бросала нашему времени уходившая в могилу старость. Эти лучи один за другим тухли, и наступала сырая холодная темь, сквозь которую можно было рассмотреть только какие-то скверно-вызывающие улыбки и куда-то зовущие объятия. Мы их оттолкнули: этого цинизма к науке в ее святилище мы не могли вынести. И потом за пределами университета был все тот же цинизм умственный. Строгой, печальной в своих выводах науки мы не находили и в текущих книгах. Нужно было обращаться к кожаным переплетам, к очень старым журналам, чтобы наконец хоть где-нибудь найти серьезную заинтересованность предметами, которые и нас интересовали, и серьезную речь о них. Приходилось следить и за текущими научными спорами[21 - Напр., спор о дарвинизме, долго тянувшийся в последние годы.]. Истине засыпались глаза песком, ее проницательного взгляда больше не выносили. Присмотревшись в университете, мы были уже несколько опытны в различении всего этого и, хотя обычно молчали, но впечатления в нас оставались. Так далее и далее расходились мы со временем, которое нас вскормило и воспитывало.
Один из видных публицистов старого лагеря горько сетует на нас. Он говорит о «пренебрежительном, высокомерном, вообще отрицательном отношении детей к лучшим заветам отцов». Наш отказ от «наследия 60-х годов» он называет «ничем не оправдываемым» (статья г. Н. Михайловского: «Литература и жизнь»; Русская мысль, 1891 г., июнь, с. 144). Положа руку на сердце, может ли он сказать, что мы могли быть другими, вынеся с ранних годов все эти впечатления? И сам он, ясно, как мы, сознавая унижение науки ее служителями, не попытался ли бы вырвать у них по земле волокущееся знамя и понести его хоть как-нибудь самому? Не встал ли бы он, оставаясь таким же и только родясь в наше время (то есть не будучи сам инициатором многих идей, естественно не могущим отнестись к ним «со стороны»), в ряды самых горячих борцов с поколением отживающим, в котором стоит теперь? Все мы, поколение за поколением, в самих себе не имеем значения: наше значение обусловливается лишь тем, как относимся мы к вечным идеалам, подле нас стоящим, которые с отдельными поколениями не исчезают. Сохраняет поколение верность им – и значение его не пропадает; изменяет оно этим идеалам – и его значение тотчас меркнет. В сфере умственной любить одну истину – это не есть ли идеал? В сфере нравственной – относиться ко всем равно, ни в каком человеке не переставать видеть человека – не есть ли для нас долг? И если мы видели, как опять и опять человек рассматривается только как средство, если мы с отвращением заметили, как таким же средством становится и сама истина, могли ли мы не отвратиться от поколения, которое все это сделало?
В чем главный недостаток «наследства 60–70-х годов»?
I
В одном рассказе мне пришлось, почти еще в детстве, прочесть, как в один незнакомый город вошли два путешественника. Побродив по улицам, они заметили, как толпы народа направляются все в одну сторону. Так как путешественники не имели никакой определенной цели, то, увлекаемые любопытством, и они пошли вслед за народом. Пройдя несколько улиц, искривленных и тесных, они увидели, наконец, площадь и на ней очень высокое и обширное здание, куда входил народ. С волнами его и путешественники вошли под своды этого здания. Из них один, очень деловитый, тотчас начал осматривать здание и, незаметно подвигаясь, чтобы не нарушить непонятной ему тишины, приближался ко всему, что поражало его сохранившеюся позолотою или казалось ему ценным камнем. Здание было удивительно велико, но вместе и очень старо, с потемневшею по стенам живописью и кое-где обвалившимися уже камнями. Он мысленно измерил высоту его стен и сообразил, сколько приблизительно строительного материала пошло на эти стены. Подивился и общему искусству в его постройке, потому что у себя на родине он не видел таких больших зданий, но все недоумевал, зачем столько труда и денежных средств было употреблено на него, потому что очевидно здание было неудобно, как-то неуютно, и трудно было представить себе человека с такими потребностями и вкусом, которому оно понравилось бы. Все запомнив, все сосчитав и решительно не находя, что ему еще делать, он вышел из здания, только мельком взглянув на своего товарища, стоявшего в задумчивости и, очевидно, еще не расположенного выходить. Между тем другой путешественник, чем долее стоял, тем в большее впадал очарование. Ничего подобного не видал он у себя на родине, и созерцание общего, прежде чем рассмотреть что-нибудь подробно, охватывало его все сильнее и сильнее, так что он все боялся потерять точку, на которой он стоял, и не решался пошевельнуться, чтобы к чему-нибудь подойти. Он не понимал, почему его влекли эти причудливые изгибы линий в сводах, но ощущал, что какие-то всегда жившие в нем чувства, прежде не пробуждавшиеся, неудержимо поднимаются теперь, и он, всегда бывший, как и все люди, точно становится другим человеком. Он был неизмеримо серьезнее и несравненно чище теперь, нежели когда-нибудь. Вокруг него стояли толпы народа, все так же тихо и только по временам совершая какое-то движение. Вдруг слух его поразила тихая музыка, и очарование еще возросло. Музыка доходила до самой глубины его сердца, и он, грубый и легкомысленный, впервые понял, к каким нежным ощущениям был способен. По мере того как храм перед ним раскрывался, он перерождался (по лицам окружающих он догадался теперь, что это в самом деле было нечто вроде тех убогих молелен, куда по временам собирались бедняки его города). Прислушиваясь к музыке и все более очаровываясь, он заметил, что к нему доносятся какие-то голоса и даже что музыка сопровождает какое-то пение. Заинтересованный, он решился наконец оставить свое место и продвинуться дальше сквозь тесно стоящие толпы народа. Голоса стали внятнее, и он уже мог разобрать их смысл. Все, что он пережил раньше в своей душе, чего он не мог преодолеть в себе, поддаваясь вихрю темных и мучительных ощущений, – он чувствовал, что все это в какой-то великой душе было преодолено, прояснено, и этот свет все победившей души выражался в смысле слышанных им слов. На все в душе своей он нашел в них ответ, какого не предполагал и который успокаивал. Вся его жизнь осветилась новым светом, и он понял, как много мрака было в этой жизни. Все более и более удивляясь, он понял, что, однако, не все слова относились к человеческому сердцу только. Много было совершенно неясных слов, говоривших о предметах вовсе ему не известных, и по тону пения можно было заметить, что эти слова были главные. Сколько он ни напрягал ума, чтобы понять их, это было выше его сил, и это тем более волновало и мучило его, что было ясно, как за разгадкой этих слов объяснится для него и все остальное. Между тем времени прошло уже много, необъятные массы народа вдруг зашевелились и, незаметно для него самого, вынесли его вон из-под темных сводов ставшего для него навсегда дорогим, непонятного здания. На одной из улиц он встретил своего скучающего товарища, который с изумлением спросил его, неужели он до сих пор пробыл в этой стареющей развалине, и что-то заговорил про материал, из которого она построена. Но другой путешественник ничего не слышал из его слов: он все думал о главных, непонятных ему словах и решился посвятить свою жизнь их разгадке.
Этот рассказ, помню, чрезвычайно поразил меня (в каком-то переводном французско-русском сборнике 20-х годов), и с тех пор всякий раз, как мне приходится мысленно оценивать различные исторические эпохи или присматриваться к своему времени, я всегда и все оцениваю в свете этого рассказа. Мы все приносим с собою, рождаясь, различное; мир открывается нам в меру того, что мы с собой приносим в этот мир. Поэтому, когда в данное время все идеи суживаются, горизонт становится тесен и люди как будто погружаются в какой-то глубокий колодезь, я думаю, что это только на время и со следующим поколением все станет видно иначе, чем теперь. Во всем дурном или ограниченном виновны всегда люди, а не природа, которая и безгранична, и всегда остается хороша.
II
Никак нельзя сказать, чтобы путешественник, первым вышедший из храма, видел в нем что-нибудь не так или не то, что там было. Его глаз не делал никакой ошибки, и так же все его соображения, которые следовали за осмотром той или другой части, были правильны, неторопливы, соответствовали действительности. Но только не всей они действительности соответствовали: была неполнота в его наблюдениях, и только отчасти зависело от него, что он поторопился выйти. Главная причина заключалась в том, что он как-то вовсе не обратил внимания на общую скомпановку частей и, рассмотрев порознь каждую из этих частей, был уверен, что видел уже и целое, конечно, из них состоявшее. От него ускользнуло самое главное: эта общая бегучесть всех линий здания, пересекавшихся так, что у всякого смотрящего на них невольно пробуждались какие-то особенные чувства, не имевшие ничего общего с линиями как геометрическими протяжениями. И в храме, им так подробно, детально изученном, он ничего не понял. Он не понял того замысла, который был некогда в него вложен, всеми ощущался непреодолимо и заставлял эти необозримые толпы народа, оставляя самые нужные дела свои, приходить под его своды и, на минуту ощутив в себе могучую мысль, возвращаться с новыми и освеженными силами к своему труду, заботам и страданиям.
В поколении, которое сетует теперь, что оно оставляется, была эта же главная ошибка. Оно было хлопотливо, зорко, ежеминутно деятельно. Но в том, к чему оно прилагало свою деятельность, оно ничего не поняло. И вместо того чтобы своим неустанным трудом залечить, наконец, все раны, покрыть тысячелетние страдания – оно разбередило эти рапы, увеличило эти страдания. Послышался, наконец, крик, почувствовалась ненависть – и люди, которые думали, что они станут для человечества как боги, стали только грудой черепков, с презрением отталкиваемых. В жизни, в природе человека, в окружающем его мироздании это поколение поняло только одни подробности и вовсе упустило то главное, что их связует, формирует в разбегающиеся группы и оживляет собой. Неполнота знания, при его верности; отсутствие в этом знании самых глубоких и значительных частей – это было самое важное, чего сходящее с исторической сцены поколение не заметило в себе. И уже из этого, как вторичное, вытекла грубость всех чувств и отношений, в которой так часто и справедливо его упрекают. Все искажающая, все живое мучащая деятельность его была естественным завершением этого поверхностного внимания ко всему живому.
III
В человеке, со стороны должного, они поняли только его потребности; в жизни увидели только игру слепых отношений, которые не могут не улучшиться, если к их направлению будет приложено сознание; в целом мире заметили только протяжения, которые можно измерить, исчислить и, сообразив подробности, – понять остальное в нем, как их простую сумму. Во всем, к чему они обращались, они надеялись и хотели найти только соответствия другим сторонам своей природы. Те сухие, бледные формы человеческого существования, которые впервые были замечены и описаны Аристотелем, потом дополнены Бэконом, – эти формы, в самом существе человеческом задевающие лишь часть, – они думали, охватывают и части, и целое всего мироздания. Общих, разбегающихся и пересекающихся линий, которые бы открыли им главный смысл этого мироздания, они не заметили, все только анализируя его; напротив, себя самих и то, из чего слагается их жизнь, они не поняли и не узнали до конца, все только синтетически слагая и перелагая жизнь человеческую по грубым потребностям человека. Эта неумелость отнестись мыслью к предмету и была главным источником неполноты их знания. И в самом деле, категория мышления, правильно развивающихся понятий, есть едва ли единственная, по которой создана природа. В какие логические формы может быть уловлено чувство радости, которое мы порою испытываем?
И, однако, эти акты нашей душевной жизни суть такая же действительность, как и то, что мы видим или осязаем: они суть части природы, которую мы хотели бы постигнуть только своим умом. И в самой природе этой, которую мы надеемся охватить только научными формулами (то есть подвести всю под категорию мысли), – разве мы можем утверждать, что в ней нет ничего подобного этим актам, если именно ее продолжительное созерцание и смущает, и тревожит, и неизъяснимо волнует нас? Эти чувства, пробуждающиеся в нас в ответ на впечатления природы, чему в ней отвечают, когда мыслимое в ней только мыслится, опасное – угрожает, или, наконец, благотворное – приносит пользу? Не ясно ли, что если всякому ощущению есть соответственное ощущаемое, как следствию есть сообразная причина, то и те особенные, не укладывающиеся ни в какую форму мысли и волнения, которые всегда и всюду испытывали люди при созерцании мироздания и которые они выразили в своей поэзии, в своих религиях, имеют также в самой природе нечто отвечающее себе, хотя бы это отвечающее было так же мало уловимо для определения или даже просто выразимо в ясном слове, как, например, то, что выражено в мелодии, мало может быть передано в рассказе или изложено в рассуждении. Мы здесь коснулись одного соответствия, а между тем природа вся состоит из них, и ничто другое, как эти соответствия, не проливает такого света на ее цельность. Опуская их из виду, занимаясь лишь изучением причин и их действий, целая школа мыслителей, и за ними наше старшее теперь поколение, лишили себя одного из самых могущественных средств проникновения в природу и даже простого знания множества ее подробностей. И в самом деле, из этих последних каждая есть только часть иного, и, как таковая, она полна бывает отражений в себе и этого иного, и других частей его. Нередко ни части эти, ни целое, в которое они входят, не бывают доступны прямому наблюдению, и между тем знание их важно и необходимо. Всматриваясь же, с чем могла бы быть в соответствии наблюдаемая нами часть, мы приблизительно, а иногда и точно можем открыть и узнать и недостающее целое, и его остальные части.
Все сказанное яснее и убедительнее станет, если мы возьмем какой-нибудь пример. Так пусть перед нами находится какой-нибудь обрывок кривой линии. Всматриваясь в него, мы можем заметить, что кривизна его или правильно изменяется, или остается всюду одинаковой. В последнем случае мы умозаключаем, что он составляет дугу круга с определенным радиусом и определенным же центром. По обрывку, уцелевшему пред нами, всматриваясь в его кривизну, мы без труда находим и этот центр, и этот радиус и, наконец, отыскиваем полный круг, хотя все это более не наблюдается нами. Но это все отражается в искривлении той маленькой линии, которая одна теперь перед нами и которую мы поняли как часть. Таким образом, связность природы и ее цельность ни через что не может быть видима так удобно, как через это изучение в ней соответствий; только последние образуют собой истинные, хотя и не ощущаемые границы всякой вещи и явления, далеко преступающие их осязаемые, грубые границы, одни доступные грубому прямому наблюдению. Через эти именно, одной мысли открывающиеся, границы и происходит взаимодействие вещей, которые иначе в своих грубых формах лежали бы всегда неподвижно друг возле друга, толкаясь или давя одна другую и более неспособные ничего произвести. Два факта – химического сродства вещей и всемирного притяжения – именно здесь и находят себе хотя какое-нибудь объяснение. «Причина действует только там, где она есть», – повторяли схоластическую и, по-видимому, очень точную формулу при открытии Ньютоном его закона и не могли понять, каким образом одно тело, здесь находящееся, может действовать на другое тело, от него удаленное; причем границами предмета или явления, составляющего причину, считали его физические, внешние очертания. Но где границы обрывка линии, пред нами лежащей? Ясно, что, сверх тех точек, которые в ней еще не стерты, еще не успели исчезнуть, от нее идут другие, неощутимые ряды точек, которые, взяв карандаш и присматриваясь к сохранившемуся обрывку, мы безо всякого затруднения восстановляем около него – и линия в действительности оканчивается только там, где оканчивается круг, к которому она принадлежит. Подобным образом и во всемирном тяготении проявляется связанность всей вселенной, и взаимное действие в ней отдаленных друг от друга тел происходит потому, что они, как части в великом целом, все ощущают друг друга через те невидимые, неощутимые границы свои, которые далеко преступают их геометрические очертания и могут быть открыты только уму. Так в обрывке дуги, пред нами лежащей, если бы мы стали медленно разгибать ее, – медленно же удалялся бы от нее центр круга, к которому она принадлежит, и при ее окончательном выпрямлении отошел бы на бесконечность. А между тем физически мы не коснулись бы этого центра и, заставляя отходить его, – вовсе бы его не видели.
Когда были открыты физические элементы, то, изучая их сродство, ученые думали вначале, что они влекутся друг к другу, потому что они одинаковы и их семейства схожи. Однако при детальном изучении каждого элемента порознь они с удивлением заметили, что свойства влекущихся взаимно элементов скорее характеризуются отношением противоположности. Между тем в этом именно и лежит источник самого сродства. Нельзя представить себе, что природа составилась из элементов, как самостоятельных, в себе самих замкнутых тел, которые от начала лежали друг возле друга, потом стали взаимодействовать и через это образовали все тела. Элементы суть продукты насильственного расторжения тел, и эти последние вовсе не позднее их: они – их первое в том смысле, что, ранее, чем элементы появились изолированно, были уже тела, в которые они входили. И оттого с такою силою, иногда взрывом, элементы соединяются. Взрыв есть показатель того чрезвычайного усилия, которое теперь повторяется и было употреблено раньше, чтобы разделить влекущиеся вновь друг к другу элементы. Из них есть многие, которые, несмотря на все усилия анализа, долгие десятилетия оставались скрытыми для человека, то есть они не отщеплялись от тел и, только благодаря чрезвычайному напряжению, при помощи особых и в высшей степени искусственных средств, наконец были удалены из своего всегдашнего гнездилища и предстали пред человеком изолированно. Таким образом, химическое сродство есть то же, что частное сродство, и вытекает из всегдашнего взаимодействия в целом (теле) его частей (элементов). Отсюда разнородность всего влекущегося. Уже в простейшем примере, который мы взяли для объяснения этого явления, – в обрывке геометрической линии, эта линия связуется, восстановляет около себя части не себе подобные, но от себя отличные: радиус, то есть совершенно прямую линию, и центр, то есть точку, находящуюся вне дуги окружности.
И наконец, если бы кто-нибудь, продолжая сомневаться в сказанном, все-таки утверждал, что целое непременно составляется из своих частей, а не потом на них разлагается, тот мог бы быть поколеблен в своем мнении сосредоточением своего внимания на своем собственном теле: в той первоначальной, одиночной клеточке, из которой развился весь его организм, какая часть его тела была заложена? Не ясно ли, что эта клеточка не была ни костью, ни мускульным волокном, ни частию нервной ткани, ни вообще каким-нибудь элементом его тела, а именно им целым, которое потом разложилось на элементы? Хотя, повторяем, клетка была только одна и на всем протяжении однородна, она ни из чего не составилась, но прямо отделилась от родительского организма. Итак, в этом примере мы с очевидностью наблюдаем, что целое может быть первее своих элементов, хотя несомненно состоит из них; подобным же образом, можно думать, от начала мироздания, при всяких высоких температурах, были только более и более разреженные пары воды, но вовсе не было отдельно друг возле друга лежавших элементов, которые, соединившись, образовали из себя воду.
В фигуре геометрической, как чистом протяжении, мы наблюдаем между частями только геометрическую связность; в телах физических эта связность есть и должна быть физическою; последняя и выражается в действии. Дуга круга лишь указывает в своей кривизне на положение центра и длину радиуса; но восстановить их, по строгим указаниям дуги, можем лишь мы. Это потому, что протяженность есть лишь сфера физической возможности, есть условие, при котором все предметы и явления только могут существовать; но действительность начинается лишь там, где протяженность наполняется протяжимым, т. е. веществом. Там, где оно уже появляется, не нужна рука постороннего существа, чтобы указываемое осуществить, намеченные точки наполнить каким-нибудь оттеняющим их веществом. Здесь указание заменяется осуществлением, намечивание – действительным восстановлением около себя целого. Когда химический элемент с силою притягивает к себе недостающие ему (до целого тела) другие элементы, располагает их около себя и получается цельное тело – пред глазами наблюдателя происходит то же явление, как если б из средины дуги, пред ним лежащей, вытянулась линия и, остановившись на известном расстоянии от этой дуги, из точки своей остановки, повторилась по всем направлениям бесчисленное число раз, с каждым разом прибавляя своею оконечностью новую точку к прежней дуге, пока она не сомкнулась бы в полный круг. Природа в наблюдаемых формах своих подобна множеству таких обрывков геометрических линий, которые, по-видимому, изолированы, но в действительности все сцеплены между собой и взаимодействуют чрез не наблюдаемые, только мыслимые добавления себя до целого. Здесь и лежит источник физических сил. Их разнородность, их численность зависит от того, что разнородны и многочисленны самые соответствия, в которых находятся между собой части вселенной. Но что все они вытекают из одного какого-то источника, имеют в своем основании какую-то одну особенность в сложении всей природы, – это видно из того, как все-таки много одинакового в проявлениях самых разнородных сил.
IV
Человек, как часть природы, не составляет в этом отношении исключения; но, вместо бедных и однообразных соответствий, которые связывают каждый физический предмет с окружающею средой, соответствия человеческой природы со всем миром и многочисленны, и разнородны. Как организм, как ряд сгруппированных веществ, он соотносится со всеми физическими стихиями природы. Но, сверх этого грубого соотношения, мы находим в нем другое, неизмеримо более глубокое: в его душу как бы вложены завитки всего мироздания и, повинуясь их естественному расположению, он влечется так своим умом и своим чувством ко всему же мирозданию – воссоздает его в поэзии, понимает чрез науки и философию, стремится разгадать его сокровенную сущность в своих религиях. Нет ничего в природе, не исключая самых тонких и неуловимых ее изгибов, что, так или иначе, не находило бы доступа в человека: и это значит, что в нем самом уже есть предчувствие, предугадывание всего, что лежит в природе. По справедливости, отношение его к ней не только сходно, но и во всей строгости повторяет собою отношение к многолетнему ветхому дереву плода, который наконец вызрел на нем и упал на землю: в скрытой возможности, в законах и силах своего роста, этот плод заключает все, что есть и в дереве, – все элементы его, и все законы и силы, и подобную же жизнь. Мир духовного творчества, вырастающий из человека, есть только последствие этого отношения его к природе.
Понять это особенное существо, и притом будучи им самим, так плоско и бедно, как понят был человек людьми нашего старшего поколения, – это есть одно из самых удивительных явлений истории. Как будто люди эти никогда не задумывались ни над мыслью своею, пи над движениями своего сердца, пи, наконец, над своим рождением и ожидавшею их смертью. Это были дети, которые, найдя в поле яблоко, поняли только то, что его можно съесть; какие-то трудолюбивые муравьи, которые, со всех сторон таща к себе былинки и все, что облетало с природы и было еще прекрасно, знали только одно, что из всего этого можно построить их муравейник. Страшная бедность мысли, отсутствие какой бы то ни было вдумчивости – вот что сильнее всего поражает нас в этом поколении, одном из самых жалких и скудно одаренных в истории. Не беспричинна была и какая-то странная недолговечность его, и это отсутствие хотя бы одного гениального дарования на всем его протяжении, и какое-то органическое отвращение, которое выказывало к нему богато одаренное поколение 40–50-х годов[22 - Тургенев, который, даже и в последние годы, не всегда мог скрыть это чувство (см. его переписку); Достоевский – во всех своих произведениях; Л. Толстой в отношении к сожалеемой им, но лишь в ее уродстве, фигуре Николая Левина; наконец, Гончаров в лице Марка Волохова. Только само это поколение как прежде, так и теперь всегда восхищалось собой.]. С непоколебимостью детей, съедающих яблоко, с твердостью муравья, который, не развлекаясь никакою мыслью, дырявит живое зерно, чтобы положить его в свою кучу, и эти люди перерывали все естественные отношения в сложившейся по глубоким законам жизни, чтобы воздвигнуть среди этой жизни свою кучу-жилище. Так как в богатой, многообразной и могучей действительности, выросшей из истории, не было и тени подобия их бедной и искусственной постройки, то естественно им казалось, что они «строятся в пустыне»[23 - Выражение г. H. Михайловского, поддерживаемое и «Вестником Европы» (см. 1891 г., май, статья «Писатель 60-х годов»).]. Как к песку пустыни, который лепится с глиной в кирпичи и кладется то в основание, то в вершину здания, – они относились к живым людям. И себя не жалели они при этой постройке, лепились, надрывались и падали, как муравьи; не жалели также и других людей, вовсе не знавших, что у них делается. Отсюда – вся боль, которую вызвала эта деятельность. Повторяем, не грубость чувства, но ошибка узкого ума есть главное, что причинило все пережитые нами недавно несчастия. Напрасно окружающие люди говорили, что они вовсе не тем живут, что приписывают им «строители», напрасно о том же говорила им вся история – они слышали все это, но ничего в этом не поняли. Им все казалось, что они лучше всех других узнали человеческую природу, хотя в действительности они только беднее всех ее поняли. Они взяли minimum человеческих потребностей и поэтому minimum’y, с ним сообразуясь, стали возводить здание, которое для них самих было бы тесно и узко (если б им пришлось в нем пожить подольше) и куда они хотели бы навеки заключить все человечество. Эта мечта лишенной воображения мысли стала их инстинктом, нормой их деятельности и мышления. Все, что выходило за ее узкие пределы или что ей противоречило, они считали как бы за призрак Майи, который нужно разорвать, уничтожить, дабы прозреть чрез него в действительность. Народы, тысячелетия, их борьба и страдания – все это было для них менее ощутимо и убедительно, нежели то чувство страшной боли, которое поднималось в их бедном уме всякий раз, как только пытались пошевелить в нем как-нибудь не так овладевшую им идею. Здесь, в этой душевной скудости, и заключалось главное зло, которое могло перестать искажать историю лишь тогда, когда ее вечно растущий ствол покроется новым налетом листьев.
V
И эта смена зеленого убора снова совершается. Напрасны жалобы и сетования опадающих листьев: им не повернуть солнца на зиму. На себе самих, на своей судьбе, хотя бы в последние минуты своего трепетания, они могли бы понять сколько-нибудь ту природу, в которой выросли и на которую никогда не хотели раскрыть глаз.
Мы снова обратимся к сравнению, которым начали эту статью. В храме, в который вошли два путешественника-друга, было для них обоих открыто одно и то же; но увидели в нем они различное, и на этом увиденном и понятом они разошлись навеки. Кто из них был более прав? Тот, кто посмотрел полнее. Ведь и второй путешественник, так долго простоявший в задумчивости среди храма, видел в нем все, что видел и первый, – и высоту стен, и материал, из которого они выстроены, и его приблизительную стоимость; но это было не все, что он увидел здесь. По причинам, за которые ему нужно было благодарить природу-мать, его глазу дана была восприимчивость к гармонии красок и линий, а его слуху – восприимчивость к сочетаниям звуков. Не только шум и не простые переливы зеленого и синего цветов различил он, стоя здесь, но понял выразительную музыку и исполненную смысла живопись и архитектонику частей. Что было делать ему, если его бедному другу не дано было различить всего этого: он не мог выйти вслед за ним. И между тем, когда они снова встретились на улице, ему было чрезвычайно трудно что-нибудь объяснить этому другу. Здесь сказалось простое несоответствие задатков, которые от начала были вложены в их души. Если б он указал ему на сводчатые линии колонн, замыкавшихся в купол, его друг ответил бы, что эти колонны действительно сводчаты и что наверху купол; но что было дальше объяснять ему и как объяснять? Чувство, выраженное линиями здания или красками картины, прошедшее когда-то через душу мастера и вновь пробуждающееся потом во всяком, кто умеет смотреть на его создание, – вот чего невозможно передать другому.
Кстати, в этом явлении, столь непонятном одному и понятном другому, удивительным образом отражается общий смысл двух мировоззрений, из которых одно теперь становится на место другого. Мы уже сказали, что грубость мысли, способной лишь к поверхностным наблюдениям и заключениям, была главным недостатком людей 60–70-х годов и что последствием этого недостатка была неверность их воззрений как на окружающую природу, так и на самого человека. В частности, что касается последнего, он считался этим поколением простым продолжением физической природы, наиболее сложною комбинацией ее элементов и сил. Его дух, его идеи и верования, его стремления в истории – все это считалось только производным от его физических данных на основании того, что с изменением этих данных всегда наступало изменение психической деятельности. Но вот пред нами нарисованный образ, и всякий раз, когда мы на него смотрим, в нас пробуждается чувство неопределенной грусти. Это чувство, нам передающееся от картины и уже в ней заключенное, есть по отношению к краскам, которыми она нарисована, то же, что душа в человеке по отношению к телу, в организации которого она выражена. Это – слабая, мерцающая тень, которая в своем отражении верно показывает взаимные границы двух связанных существ, на которые взглянуть прямо нам никогда не суждено. И в самом деле, не изменяется ли чувство, выраженное в нарисованном образе, всякий раз, как только изменяется в нем какое-нибудь расположение красок? Вот кто-нибудь берет кисть и подходит к нему: по мере того как кисть снимает что-нибудь в краске или сдвигает прежде разделенные линии – непонятным образом чувство, прежде проникавшее картину, начинает померкать и померкать, оно становится менее отчетливо, труднее воспринимается смотрящим и, когда перемещение красок делается значительным, – пропадает окончательно. Мы имеем перед собой краски – те же, какие и были, – но иначе размещенные, из которых совершенно исчезло то, что прежде светилось сквозь них и так привлекало и волновало каждого. Теперь они могут быть размещены как угодно, никакой принудительной необходимости в их расположении нет: это – только безжизненное вещество, свободно движущееся туда и сюда. Но прежде они были связаны в своем расположении. Что их связывало? Чувство, прошедшее некогда по душе неизвестного мастера, которое он захотел выразить, и для этого собрал и расположил краски ему известным, определенным способом. Именно это чувство – акт живой человеческой души – необъяснимо завязалось в вещества, которые, по-видимому, только известным образом поглощают и отражают лучи спектра. Есть ли этот психический акт только последствие, вытекающее из размещения красок? Нет, он по времени предшествовал этому размещению, и никогда бы не произошло последнего, если бы не было нужды закрепить этот акт. Куда же исчезает он, когда картина погибла? В гибели ее, в стирании красок мы видим обратное геометрическое передвижение веществ, некогда сдвинутых для восприятия психического акта, который предшествовал этому движению. Там, мы знаем, этим сдвиганием не был создан психический акт, – и он не мог исчезнуть здесь – в обратном перемещении красок, он просто стал неощутим, не выражен более. Но в душе, одно движение которой он составил когда-то, он запомнен и продолжает быть. Здесь, в этом явлении, каждая черта которого нам известна и понятна, мы с очевидностью наблюдаем, как самая тесная обусловленность двух существ совершенно соединима с их полною разнородностью, и также видим, как появление и исчезновение пред нами одного существа в зависимости от изменения другого есть только обнаружение и скрытие того, что в действительности было прежде этого обнаружения и всегда после него останется. Простая ошибка в умозаключении была причиной, что мир поэзии, религии и нравственности остался непонятым и навсегда закрытым для поколения, которое должно бы сетовать на себя только, а между тем сетует на других.
Европейская культура и наше к ней отношение
I
В июньской и июльской книжках «Вестника Европы» за 1891 г. рубрика «Из общественной хроники», всегда наиболее живо отражающая текущие интересы журнала, посвящена обсуждению и осуждению разных замечаний, высказанных в последнее время нашими публицистами относительно западноевропейской цивилизации.
«Запад гниет, запад разлагается» – такова была, говорит почтенный журнал, пятьдесят лет назад одна из любимых формул только что зарождавшегося славянофильства. Теперь славянофильство как организованное целое более не существует. Его основатели давно сошли со сцены; исчезли и непосредственные их преемники, поддерживавшие так или иначе первоначальные традиции школы; остались только кое-какие обрывки некогда стройного учения, повторяемые другими людьми, в другом тоне и с другою целью. Уцелела в этом смысле и формула, приведенная нами выше. По-прежнему чувствуется в ней высокомерное отношение к «чужим» и «чужому», по-прежнему слышится благодарность судьбе, сделавшей нас иными – лучшими, более сильными и свежими, чем наши «ближние» (июнь, 1891 год, с. 882).
В этом отрывке, как в крошечном лоскутке огромного покрывала, которым вот уже несколько десятилетий писатели враждебного лагеря силятся задернуть от общественного внимания славянофильскую теорию, ясно можно видеть истинную причину постоянной безуспешности подобных усилий: в сфере мысли можно бороться только мыслью, но ничего нельзя сделать словами, как бы много их не было набрано. И в самом деле, в приведенной тираде все слова стоят как-то врозь, едва цепляясь друг за друга грамматически и совершенно не удерживаясь в какой бы то ни было логической связи: какое отношение между смертью основателей славянофильства и их непосредственных преемников и самою теорией, ими завещанной? Кто и когда «организовал» славянофильство и что вообще могут означать слова «организованное славянофильство»? Но написавшему все эти непонятные выражения кажется, что в них есть какая-то убедительность, и в неприятном учении он уже видит «обрывки».
В том и заключается сила славянофильства, что, будучи идеей немногих избранных умов и имея против себя всю огромную массу образованного общества, оно всегда критически относилось к своему содержанию, постоянно пополняло его и очищало. Отсюда такая органичность в развитии этого учения, постоянный преемственный рост, какого и тени мы не находим в учении «западников», и до сих пор все повторяющих общие места, встречавшиеся уже у Белинского и его современников[24 - Вообще в развитии «западнического» учения нет ни преемственности, ни роста, и это выражается в простом факте, что история его не написана и не может быть написана. Напротив, история славянофильской теории существует.]. На какой труд, подобный, например, «России и Европе» покойного Н. Я. Данилевского, по сложности, по системе развиваемой мысли, могут указать «западники» в своем лагере? Где у них эта страстность и чистота убежденности, какие есть у Константина Аксакова? Эта прелесть и сила речи, которою, – независимо от всякого содержания, мы любуемся невольно в «Национальной политике» и других многочисленных статьях К. Леонтьева? Поистине, силою и разнообразием дарований, богатством и сложностью мысли, высоким уважением к Европе и страстною любовью к своей родине славянофилы так ярко выделяются на тусклом фоне нашего общества, что, как бы ни было многочисленно последнее, раньше или позже ему придется только преклониться перед этими избранными натурами, которые оно из себя выделило. В этом ряду мыслителей, художников и поэтов, соединенных между собою единством воззрений и симпатий, мы находим такую твердость убеждения и силу преданности, о которую всегда разобьется всякий праздный смех, к какому уже с самого раннего времени стали прибегать их противники. Высказанное впервые И. Киреевским, развитое и углубленное Хомяковым, возведенное в систему Н. Я. Данилевским, учение это продолжает развиваться и до сих пор. В замечательных трудах К. Леонтьева мы видим последнюю трансформацию этого учения, и если бы западническая критика не ограничивалась повторением общих мест, если б она действительно имела силы бороться – она давно подвергла бы систематическому обсуждению идеи, высказанные последним в книге «Восток, Россия и Славянство» или в брошюре «Национальная политика как орудие всемирной революции». Мысль, кажется, заслуживает того, чтобы к ней отнеслись с мыслью. «Я праздновал бы великий праздник радости, если бы кто-нибудь несомненными доводами убедил меня, что я заблуждаюсь», – сказал этот писатель в одном из своих трудов; и неужели это сознание своего бессилия отказаться от того, что, быть может, составляет мучение жизни и, однако, истинно, – не в состоянии пробудить в окружающих людях интереса к этим особенным и печальным мыслям очевидно сильного ума и честного сердца?
Но если таково отношение к живой мысли в недрах самой литературы, то не утрачивает ли эта литература всякое право на какое-нибудь особенное уважение общества, руководить которым, однако, берется? «Спор выясняет истину», – повторяется в печати постоянно, и этим она высказывает требование для себя свободы и влияния. Но вот истина высказана: она ярка и значительна; но только потому, что она вместе и неприятна, она заволакивается от общества молчанием и погибает под тяжестью голосов, сегодня интересующихся одним, завтра другим – без которых, быть может, эта важная истина была бы услышана обществом и обдумана. В частности, «Вестник Европы», который вот уже четверть века держит среди нашего общества знамя западноевропейской культуры, если бы он хоть сколько-нибудь понимал обязанности, вытекающие из положения, занятого им в литературе, – давно и первый заговорил бы он об этих идеях, столь глубоко и тревожно осуждающих судьбы проповедуемой им культуры. Не может же орган печати, если только он действительно серьезен, упустить повод обстоятельно высказать свои взгляды, когда сильный соперник вызывает его на сильный отпор? Но вот, по предмету, где он должен бы высказываться, он ограничивается остроумием и, вместо этого, на десятках страниц излагает книги, которые могли бы быть изложены во всяком другом журнале, теперь, или после, или даже никогда – все равно. Покойный Шелгунов или г. Скабичевский, может быть, добрые люди и очень усердные писатели; но к идейному содержанию нашего общества, насколько оно уже высказано, и гораздо лучше, другими людьми, они не прибавили ничего. Итак, их можно оставлять, как высказывающих, быть может, верные мысли, в покое; но что же в их мнениях излагать?
II
Мы заметили выше об органичности, которой отличается развитие славянофильской теории. И действительно, все ее отдельные элементы являлись сначала в форме догадок, предчувствий, необоснованных воззрений и требований, и только потом, путем нового движения мысли, все это слагалось в твердые члены связной системы. Можно сказать, что славянофильство не изобретено, не придумано, но философски открыто: до такой степени оно соответствует текущей действительности и истории – так оно оригинально, настолько преобладают в нем начала научного объяснения над догматическим требованием. Частный случай, о котором мы заговорили, как нельзя лучше подтверждает общую истину. Недоверие к западному прогрессу, слова о «гниении» Запада действительно уже много десятилетий не сходят с уст славянофилов. Но одно указание на недостаток в Европе некоторых свежих и здоровых чувств, какие сохранились у нашего народа, или даже указание на резкую ложность и несправедливость многих распространенных там понятий и учреждений, конечно, не было бы еще подтверждением столь общей мысли, что западная культура, в ее целом, падает или что прогресс вообще есть зло. Истинный взгляд на все подобные указания должен быть тот, что они выражали бессильное желание чем-нибудь подтвердить смутное и, однако, очень сильное предвидение, чувство. Это были вопли Кассандры, совершенно лишенной каких-нибудь средств убедить тех, кто над нею смеялся. Но вот прошли десятилетия, и вопли оправдываются, а из смеявшихся еще смеется только тот, кто уже совершенно ничего не понимает и ничего не способен видеть.
В лагере прежних славянофилов, если б услышан был человек, говорящий, что две-три проигранные битвы, которые заставили бы нас навсегда отречься от западных славян, были бы очень дешевой ценой, какой мы могли бы купить это драгоценное для нас отречение, – в лагере ранних славянофилов этот человек, вероятно, был бы сочтен величайшим врагом Славянства и противником всей славянофильской партии; и, однако, так велико богатство внутренних задатков этой теории, что именно К. Леонтьев является одним из самых глубоких исполнителей славянофильской идеи. Политическая сторона этой идеи, над которою так много работал И. С. Аксаков, о которой шумели в свое время д-р Ригер и множество других, – все это осело, как пыль, пред истинно великою задачей: продлить культурное существование человечества чрез отсечение славянского мира от очевидно разлагающейся культуры Западной Европы. Если у человечества в его целом, у культуры, у цивилизации, у истории просвещения был когда-нибудь друг, боровшийся за все это, не жалея своего имени, своих сил, произнося в минуты отчаяния самые безумные о них слова, способные покрыть произнесшего только позором, то это – мало известный, пройденный у нас молчанием писатель, труды которого мы только что упомянули. Он нашел объективные признаки всякого разложения и всякого развития и, приложив их к западноевропейскому социальному строю, – по ним определил его несомненное падение. Отринув показание субъективного чувства, которое у каждого человека изменяется сообразно темпераменту, воспитанию и окружающей среде, он чрез это одно поднялся над всеми партиями и стал на высоте наблюдателя-мыслителя. С этой высоты он открыл, что как в природе, так и в истории человечества процессы развития имеют одно течение: восхождение от первоначальной простоты, слитности – к многообразию форм, в одно и то же время раздельных и связанных прочно единством общего типа; далее, непродолжительное стояние на высшей точке этого многообразия форм и, наконец, падение вниз, вторичное и более быстрое нисхождение к прежней слитности, однообразию всех частей. Племя, в котором возникает государственная организация, появляются сословия, расцветает религиозный культ, военные подвиги, наконец, поэзия и философия, – вот пример восходящего развития; минеральная масса, слагающаяся в определенные грани, не переступаемые ни для одной частицы вещества, замкнутая в строгой геометрической форме, – вот еще восходящее развитие; наконец, сюда же относится последовательное образование из туманного звездного пятна центрального светила и системы планет, распадение каждой из них на атмосферу, воду и сушу и выделение последней над водой в форме материков. Всюду, куда бы ни обратили мы взгляд, будут ли то космические массы, наша земля и населяющие ее организмы, наконец, человеческий дух и его история, – везде восхождение жизни, повышение развития сопровождается распадением прежде слитной массы на свое образные и обособленные части. И напротив, все в природе, разлагаясь, проходит чрез процесс вторичного смешения частей и упрощения всего своего сложения: в гниющем трупе границы органов смешиваются, жидкости разливаются по всему телу. Все становится однородною массой, которая, разложившись на свои элементы, сливается, наконец, с окружающею физическою природой; также утрачивает свои грани и твердые утлы расплывающийся кристалл, который готов исчезнуть в растворяющей его жидкости; и в солнечной системе, если бы каким-нибудь образом ослабли законы, принудительно удерживающие каждую планету в своей орбите, вскоре бы наступили хаос и смешение, и простая груда однообразных развалин заменила бы сложный, цветущий разнообразием мир. Наконец, государство, умерев, оставляет на своем месте неустроенную этнографическую массу, столь же простую, лишенную внутренней морфологии, как и та, которая предшествовала его возникновению. Итак, сложность внутреннего содержания есть показатель внешней крепости и общего жизненного напряжения во всем, что существует; напротив, возвращение к простоте, начинающееся смешение элементов есть симптом умирания.
Возможно ли сомневаться, что все это действительно так? И неужели раздражение страстей в борющихся теперь партиях так велико, что в самом деле наступило время, предвиденное одним политиком, когда аксиомы геометрии будут оспариваться, раз это потребуется для собственной победы и для того, чтобы не сдаться правому, но ненавидимому противнику?