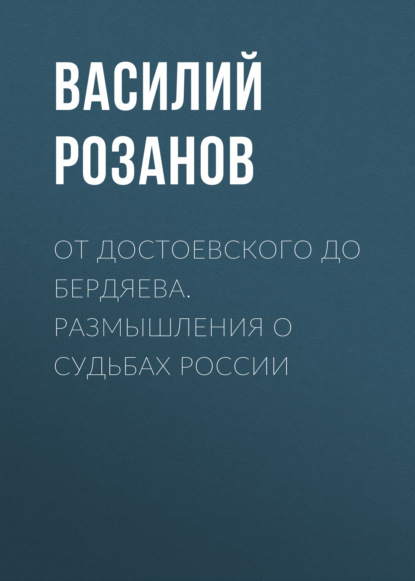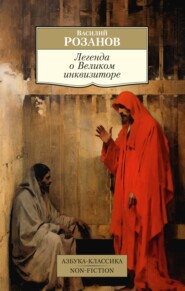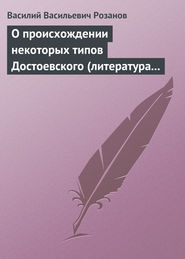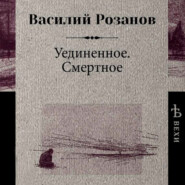По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
От Достоевского до Бердяева. Размышления о судьбах России
Жанр
Серия
Год написания книги
2017
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В религии, в поэзии, во всем другом мы также заметим сложность форм в цветущий средний период развития и простоту в первичный момент и в эпоху упадка. Религия как начинается неопределенною верою в высшее духовное существо, в загробное существование, в награду за добрые дела и наказание за злые, так и оканчивается этими же простыми и смутными верованиями: деизм философа и фетишизм дикаря совпадают между собою в простоте содержания. Напротив, строгий внешний культ, сложная духовная иерархия, обильные религиозные представления и понятия – все это нарастает только к средине развития и разрешается к концу его; в момент высшего расцвета, религия соединяется со всеми формами творчества и проникает все черты быта, становясь одновременно высшею философиею, на исповедании которой сходятся все люди, и высшею поэзиею, на созерцании которой они все воспитываются. Она дает формы для выражения самых противоположных чувств, ее языком выражают радость и в ее же священных словах изливают печаль. В полном смысле слова она становится неотделимою от человека и от жизни, и вот почему ни за что другое не было пролито в истории столько крови, как за нее. Что касается до поэзии, то о большем разнообразии ее в средний, цветущий период едва ли предстоит надобность говорить: она начинается с простой песни и сказки, и с другой стороны оканчивается безжизненным пересказом, однообразною сатирою и одою. Между этими фазами вырастают оживленная драма, напряженная лирика, неуловимо разнообразные виды эпоса. Но гораздо важнее здесь разнообразие внутреннее, а не внешнее: в моменты высшего развития поэзии творчество каждого отдельного поэта приобретает глубокую индивидуальность; будучи выражением своего времени, оно, сверх того, раскрывает неисчерпаемое содержание и личного духа (как это мы видим, например у Шиллера, Гёте, или у Вальтер Скотта и Байрона).
Напротив, в периоды упадка поэзии, как и при ее зарождении, все в ней бывает не только малоформенно, но и безлично: все создают приблизительно одинаково, приблизительно об одном и все в том же духе. Внутренних, неуловимо разграничивающих особенностей, налагаемых личностью поэта на его творчество и делающих из созданий его своеобразный мир, никогда более не повторяющейся в истории – уже не наблюдается. Есть тусклое, не многосложное выражение эпохи, над которым трудится бесчисленное количество людей; но нет выражения углубленной личности, которую за своеобразие ее и мощь мы называем гением.
V
Приложимый к видам творчества, этот критериум развития не приложим ли и к самому источнику их, человеку, т. е. к исторически развивающимся племенам, нациям и, наконец, группам их?
Содержимым здесь является племенная масса, а нервною тканью, которая проникает ее, разграничивает и внутренне формируете – учреждения и им соответствующие формы быта. Самая общая и резкая грань, которая обусловливает индивидуальность племени, делает миллионы рождающихся и умирающих существ живым лицом в истории, полным смысла, определенного выражения и воли – есть политическая форма, т. е. государство. Насколько народы слагаются в государства – настолько живут они в истории, и насколько по оттенку своему политическая форма каждого из них отличается от других – настолько жизнь самого народа привходит в историю новою чертою, которая не сливается с остальными. В этом отношении творить, создавать – значит быть своеобразным; быть тожественным с другими – значит быть звуком, усиливающим шум других звуков, но не образующим с ними никакой гармонии. Спарта или Македония были ниже Афин по своей исторической роли; но если бы вместо Спарты, Афин и Македонии было трое Афин – история была бы беднее своим содержанием. Вторые и третьи Афины уже не нужны после первых.
Политическая форма только обособляет одно племя от другого, и если бы внутри этой формы не было еще других граней, – оно было бы бедно организациею, в высшей степени не развито. Развитость здесь, внутри, выражается в проходящих горизонтальных и вертикальных делениях; первые расслаивают племя на сословия; вторые разграничивают на области территорию, им занимаемую. Чем более своеобразия в пределах тех и других граней, чем полнее в них жизненное напряжение, разбегающееся в различные стороны, тем ярче жизнь целого исторического народа, глубже и разнообразнее его творчество, ценнее то, что он вносит в общую сокровищницу человечества. Но при этом единство типа должно быть сохранено – как у самого народа с остальным человечеством, так и внутри его – между всеми обособленными частями.
Единство человеческого типа у всех исторических народов выражается как в общности некоторых основ их психической жизни, так и в том, что эта психическая жизнь у каждого народа в высшем и самом мощном своем проявлении всегда является только частью, которая, очевидно, входит слагающею чертою во что-то иное целое. Общи всем народам стремление к истине, к справедливости, к красоте, наконец, искание Бога, и общи же законы, по которым они находят все это, в меру своих сил и способностей. Это единит всех людей между собою, делает их на расстоянии тысячелетий помощниками друг другу на пути к немногим и далеким целям. В противоположность этому унитарному началу истории, заложенному в душу всякого человека, в нее же заложено другое начало, но уже проявляющееся в жизни целых народов, которое их разъединяет, по-видимому, в действительности же гармонирует. В силу этого второго начала, ни один истинно исторический народ не является повторением другого ни в характере своем, ни в судьбе, – но, не повторяя, он дополняет. Есть внутренняя согласованность в чертах этого характера и этой судьбы с характером и судьбою других народов, в силу чего лик человеческий и уже полный – не есть бессмысленный, но мы читаем в нем живую мысль и выражение. В самых неудержимых порывах и вековом труде, в прихотливой игре гения и в упорном постоянстве воли мы видим, как великие народы выводят каждый свою черту в истории, о которой они, обыкновенно, ничего не знают при жизни сами, по которую мы находим готовою или выполняемою, когда они сами становятся уже трупом или когда сквозь подробности их жизни мы начинаем разглядывать ее существенный смысл. Которое бы из двух великих племен, сложивших своею деятельностью историю, мы ни взяли, мы и в них самих, и в широких группах народов, их составляющих, одинаково найдем присутствие этих, взаимно согласованных, черт, которые в одно и то же время и противоположны одна другой, и дополняют друг друга до целого. В монгольской расе одна часть, южная, является, как никакой другой народ в истории – зиждущею, повсюду и неустанно, почти без способности отдыха и праздной лени, и без способности же задумать среди этой праздности что-нибудь гениальное, великое, особенное. Как будто самою психическою природой своей она согнута над землею, по которой ползти, ее разрывать, ею питаться и удобрять ее своим прахом – составляет вечный удел, над которым она не в силах подняться ни своим воображением, ни мыслью. Мирное, обширное государство китайцев, их причудливо сложный и бесполезный быт, безбрежные нивы, обделанные с тщательностью маленькой игрушки, их живопись без теней, мастерство без искусства, долгая и утомительная история без всякой примеси героизма, – все это лишь многообразное развитие одного символа, в котором перед лицом других народов это племя как будто молчаливо выразило свою мысль в истории – символа царя и сына неба, мирно идущего за своим плугом однажды в году в назидание миллионам людей, которые это же делают во все остальные дни жизни своей. И в то время, как южная часть этого племени неустанно и тысячелетия трудится между Гималаями и Великою Стеною, его северная часть, от Великого до Атлантического океана, не однажды проходила бурною, все разрушающею волною. С подобным инстинктом разрушения, с такою ненасытною жаждою видеть растоптанным чужой труд, с каким появлялись в истории Тимур, Аттила, Чингисхан и другие меньшие, все из одного племени и только из северной его части, мы совершенно не наблюдаем народов из других рас на всем протяжении земной поверхности. Эти «бичи Божии» для мирного человечества, эти «порождения дьяволов» для перепуганных народов, со странною ролью своею в истории, которую нельзя ни исключить из нее, ни к чему-нибудь приспособить, в действительности являются как строгая, ни в чем себе не изменяющая черта, восполняющая до целого монгольский тип. Сущность этого типа, последней цветной расы в человечестве, составляет длительность, как низшая степень выражения духа в истории, высшие формы которого, чувство и разумение, составляют удел кавказской расы. Но в пределах этой слабой одухотворенности высшее сознание, управляющее жизнью народов, выразило одинаково ясно обе возможные стороны: и положительную, которою является созидание и отрицательную, которою является разрушение. Земледелец, никогда не отрывавшийся от своего поля, и кочующий разрушитель царств, один в труде своем и другой в завоеваниях, одинаково слепо, но отчетливо для наблюдателя, выражали неизвестную для них волю и оставшуюся навсегда непонятною мысль. Если, далее, мы перейдем к кавказскому племени, то и здесь найдем подобное же выделение взаимно дополняющих друг друга особенностей. Прежде всего, в своем целом, это племя представляет противоположность монгольскому по крайнему перевесу в нем внутреннего содержания, одухотворенности, над внешним выражением ее, т. е. деятельностью: мир наук и философии, религиозных созерцаний и поэзии – все это есть субъективное развитие духа, неисчерпаемые сокровища его, почти не выраженные. Но если, помня только эту противоположность, мы обратимся к составу народов самого кавказского племени, мы увидим продолжение в них того же процесса выделения противоположностей. Прежде всего, семитическому духу, столь ясному и простому, так неизменно направленному внутрь себя, противоположен арийский дух, который открыт для восприятия всех впечатлений, и не только усваивает их все, но и жадно их ищет. Это удивительное явление, что, не поверив истинности тех пределов, которые открывались ему в пространстве и времени, ариец переступил их все с помощью своих наук, этих чудных изобретений своего гения, – факт этот обнаруживает непонятную и, однако, несомненную связь, которую имеет его душа с мирозданием во всем, а не видимом только ее объеме. Душа семита как бы свернута к какому-то внутреннему средоточию, без сомнения к самому прекрасному и глубокому, к чему может только обратиться человек: напротив, от этого средоточия, вовсе не перерывая связи с ним, душа арийца развернута и, обращаясь во все стороны, жадно пьет отовсюду дыхание природы. Далее, в пределах собственно арийского племени, мы прежде всего встречаем ясно расчлененный греко-романский мир. Как ни разнообразен был гений Эллады, мы можем все-таки отметить в нем одну черту, которая, не заглушая остальных сторон его, однако, господствовала над всеми ими: это – чувство красоты. Не то важно, что греки создали, в поэзии и в пластических искусствах никогда не превзойденные памятники (тогда как и в философии даже они все-таки превзойдены были новыми народами), не это одно значительно, что простым идеям Гомера и статуе Венеры Милосской на протяжении более чем двух тысячелетий еще не утомились удивляться люди: гораздо значительнее удивительная пластика их жизни и истории. Вся эта жизнь ясна и проста, как обнаженная статуя, она и чрезвычайно к тому же кратка. Но странно, что в течение всех событий греческой истории есть какая-то удивительная мера, странно, как каждое из них оканчивалось именно тогда, когда нужно, и так, как нужно. Бесполезная деятельность Демосфена, бегущий с Марафонского поля мальчик, Фукидид в числе слушателей Геродота – все это вещи вовсе не необходимые, все это – прихоть игривой фантазии, которая, творя историю, не имела других целей, кроме как украшать. Мальчик мог бы не умереть, Фукидид – родиться несколько позднее, Софокл мог бы и не иметь дурных детей, но вся греческая история, от этого была бы менее прекрасна, и все это было, чтобы ничего не недоставало красоте ее. Без сомнения, позднейшие законодательства и учреждения более сложны, глубоки и мудры, нежели те, какие оставил Солон и какие приписаны Ликургу; итак, во всем они превосходят их, безмерно уступая, однако, в одном – в ясной гармонии, в какой-то безотчетной красоте, которую мы и здесь чувствуем. Можно в высшей степени сомневаться в плодотворности всех замыслов Перикла’, всех достижений его; в них сомневался и Фукидид; но и он не мог оторвать очарованного взгляда от личности врага своего, и мы знаем также, что Перикл – один в истории. Есть еще другая личность в греческой истории, быть может, более удивительная в этом отношении: это Алкивиад. Мы все не сомневаемся ни в его пороках, ни в полном вреде его для государства, которое любим как свое родное: но, замечательно, мы так же бессильны ненавидеть его, как и афиняне, которых он губил. Измените кое-что в его образе, придайте его тщеславию напыщенность (что так естественно), его увлекающим речам – торжественность, чуть-чуть смягчите его бессовестность – и очарование пропадет, как в чудной картине, в которой всякий штрих на месте и с его передвижением – пропадает вся красота ее. И если бы не было этого удивительного юноши, мы ясно чувствуем – чего-то глубоко не доставало бы в греческой истории; ей, которая, конечно, должна была окончиться, нужно было, чтобы конец соответствовал содержанию: чтобы он не был слишком тягостен и, в особенности, чтобы чувство интереса, с ним связанного, не падало. Греции нельзя было пасть, как Риму или еще кому-нибудь, в грязи, в бездарности, в отвратительном худосочии: после гениальной жизни ей нужно было гениально и умереть. И как торжественно-ясная греческая трилогия заканчивалась искупляющим смехом заключительной комедии, – так и Греция после неясного детства, которое она пережила в мифах, после героической юности, когда она боролась с «великим царем», после зрелого плодоношения в веке Перикла, окончилась и страшно, и вместе как-то светло в этом чудном походе в Сицилию, в странной ночной оргии с разбитыми статуями, и во всех, то жалостных, то гениально-забавных перипетиях афино-спартанской распри, с чудным Алкивиадом в центре. Все в ней поразительно, но вовсе не заставляет отвращать от себя глаз, как заставляет это делать отвратительный трупный запах, который мы ощущаем, напр. в Риме еще задолго до его смерти. Ничего, на всем протяжении греческой истории, мы не находим ни отталкивающего, ни бездарного, ни утомительно скучного; все исполнено жизни и движения, и как во время приходит, так и уходит своевременно. И если, поняв эту главную черту греческой жизни, мы обратимся к Риму, то без труда заметим, что его жизнь представляет как бы отрицательный полюс только что рассмотренной: в противоположность идее красоты господствующею идеею в нем является начало пользы. В учреждениях, как и в религии, мышленьем, как и волею, римляне всегда ощущали только удобную сторону во всем и, скользя поэтому одному уклону, создали всемирное государство и вековечное право – нормы человеческих отношений, не обращенных пи к чему высшему, идеальному.
Переходя, наконец, к народам, история которых еще продолжается, мы встречаем индивидуализм германцев, противоположный универсализму южно-европейских народов. Все обобщить – все слить единством формы – это составляло на протяжении веков мучительную заботу романского гения, – как все разорвалось на отдельные миры и в каждом из них поставить центром личное «я» составляло недостаток и вместе достоинство гения германского. Одна молитва для всех народов, одинаковые права для всех людей и, наконец, им всем равное имущество – это стремились утвердить на земле папство, революция и социализм, все одинаково возникшие в недрах романского племени. Костры инквизиции и гильотина конвента, залитые кровью Вандея – Нидерланды – все это страницы романской истории, говорящие о различном, но всегда в одном духе, с одним настроением. Менялись начала, во имя которых стремилась эта раса утвердить цель свою, но никогда не изменялась в истории самая цель, ради которой избирались эти начала: слить и обобщить человечество, так далеко разошедшееся в путях своих. Совершенным отрицанием этого начала является в истории дух германский, всюду разрывающий единство – в государстве, в религии, в праве и даже в науке и в философии. Раздробленная империя, рассыпавшийся феодальный строй, наконец, безбрежно расплывшийся в сектантстве протестантизм – все это факты одного порядка, следствие неудержимого стремления человеческого духа уходить, оторвавшись от единящего центра, все дальше и дальше к периферии. Специализация знаний, почти индивидуализм в науке и в философии есть продолжение в новое время того же явления. Уже Тацит заметил, что германец всегда ставит себе жилище среди своих полей, а не к ряду с соседями, не в деревню, не в село; и эта черта духа, замеченная полторы тысячи лет назад, является господствующею во всем и теперь. Всюду, что бы ни делал германец, он «ставит свою хижину особо», – мало заботясь о других и избегая всякой заботы о себе. Так в политике и в церкви, и даже так в поэзии. Ни к кому не обращенный монолог – это сущность не только германской лирики, но также и эпоса в значительной степени[53 - Сюда относятся многочисленные повествовательные произведения, имеющие форму дневника, записок и пр., лучший образец их – «Страдания Бергера» Гёте.], и лучшей драмы. В «Гамлете», в «Манфреде», в «Фаусте» наиболее глубоко выразил германский гений свою личность, и что все эти трагедии, как не уединенные монологи, лишь для разнообразия и изредка прерываемые незначащими диалогами. По справедливости, те неощутимые нити, которыми природа каждого из нас связала с природою всех остальных людей, как будто особенно слабы в этой части человечества и, ничем не одерживаемая, она даже тогда, когда должна бы единиться (как в знании, как в вере) – неудержимо рассыпается, как рассыпаются монады ее Лейбниц или мир «целей в себе» ее Канта.
Мы взяли лишь самые крупные деления и наиболее резкие черты, проходящие по движущейся в истории массе человечества, но их всюду отталкивающийся взаимно характер не оставляет никакого сомнения в том, что они произошли не случайно, но в силу действия высших гармонирующих законов. Та самая причина, которая удерживает в нашем теле всякую часть на своем месте и препятствует всем им смешаться и слиться, – эта самая причина, или ей подобная, расчленив человечество на расы, дала каждой из них свой особый духовный строй и определила для каждой особый тип развития. Ясно, что обезличение народов, их взаимное уподобление (если бы оно когда-нибудь наступило в истории) могло бы быть следствием только того, что эти гармонирующие законы уже перестают действовать в человечестве.
Мы остановились так долго на сдерживающем единстве, потому что, сосредоточив свое внимание на начале разнообразия, г. К. Леонтьев только указал его, но fie определил и не объяснил. Теперь мы можем обратиться к этому начету разнообразия, которое наряду с единящею силою является вторым зиждущим элементом истории.
VI
Из расчленения человечества на племена, взаимно противоположные по духу, вытекает своеобразие каждого отдельного племени, его национальный тип. Принудительный для каждого индивидуума, для всякого сословия или какой другой группы в пределах племени, этот тип сам обязан происхождением своим исключительно соотношению, в котором находится данное племя ко всем остальным племенам рода человеческого. В силу этого соотношения, оно является в среду других народов, чтобы восполнить некоторый недостаток в них, заместить пустоту, ими оставленную, но которой они обыкновенно не чувствуют и не замечают. Ясно, что несливаемость с другими типами, борьба против них, их отрицание – есть только наружная и необходимая черта в своеобразном народе, по которой мы именно открываем, что он гармонирует с этими отрицаемыми типами, дополняет их, как недостающий звук, который только не сливаясь с другими звуками, образует с ними необходимый аккорд. Борьба есть здесь симптом глубочайшей связи, стремление каждой части подавить остальные – только признак высокого напряжения жизни в целом.
Этот расовый антагонизм, следствие расовой соотносительности, принудительно действуя на то, что лежит внутри каждой отдельной из них, является источником ее целости и единства. Но мы сказали выше, раса есть слишком крупное деление, и внутренняя ткань исторически движущегося человечества была бы слишком груба, если бы внутри его проходили еще другие деления. И эти последние, действительно, есть: они расчленяют каждый народ и территорию на своеобразные части, из которых самые обыкновенные – сословия и провинции. Последним делением является род и семья, внутри которого уже находится только личность, индивидуум. Закон антагонизма, как выражение жизненности, сохраняет свою силу’ и здесь: сословия, провинции, отдельные роды, наконец, личности, в пределах общего для всех их национального типа – борются все между собою, каждый отрицает все остальные и этим отрицанием утверждает свое бытие, свою особенность между другими. И здесь, как в отношении рас, победа одного элемента над всеми или их общее обезличение и слитие было бы выражением угасания целого, заменою разнообразной живой ткани однообразием разлагающегося трупа.
Убедительность и верность этого общего правила становится особенно яркою, если мы обратимся к живой действительности, т. е. к истории. В какую точку ее мы ни направили бы наблюдение, раз эта точка есть высшая, если в ней совершается цветение – она исполнена страстной борьбы взаимно враждебных элементов. Все то, что народ оставляет после себя вековечного и удивительного в сфере мысли, художественного созидания, нравственности или права – он производит в немногие и краткие минуты существования, когда каждая часть в нем надеется еще победить, когда ни в одном из них не знаете еще о своем завтрашнем поражении и конечной гибели. Иллюзия победы, самообман от незнания будущего есть истинный источник всех великих напряжений в истории, которые создали вес прекрасное и законченное в ней. Афины времен Перикла, Рим в эпоху Гракхов, Франция Ришелье и Фронды, Германия при начале реформации были одинаково полны внутренней борьбы и духовного сияния. Кровь обильно струилась во все времена, вражда разделяла людей, когда эти люди были особенно прекрасны, исполнены веры, когда был смысл в их жизни и они знали этот смысл.
Отсюда понятно значение некоторых особенностей, которые мы замечаем в человеческой природе. Эта природа всюду ограничена, абсолютное манит ее к себе, но никогда не достигается; ей не дано сил ни к совершенному ведению, ни к ощущению совершенного добра и красоты. Человек слаб и обусловлен, и мы понимаем, что именно поэтому он и живет: глубочайшим образом, скрытно от самого человека, этою слабостью его и обусловленностью связано самое продление его жизни. Жить – значит стремиться, значит колебаться и искать, т. е. еще не знать; развиваться, переходить от несовершенного к лучшему – значит все еще быть далеким от него, значит чувствовать страдание, видеть несправедливость, отвращаясь от нее, жаждать противоположного, чего, однако, не видишь и только предчувствуешь, что неясно и недостижимо, хотя и влечет к себе. Слияние в абсолютном идеале, равно для всех понятном – это было бы уничтожение различий и движения, т. е. самой жизни в том смысле, в каком одном она дана нам здесь на земле.
И, однако, все ограниченное, приближающееся предполагает предел, к которому оно приближается. Поэтому если жизнь, нам данная и известная, держится лишь настолько, на сколько мы сами ограничены, то это только обнаруживает перед нами точный ее смысл. Без всякого сомнения истина и добро существуют не в том только относительном знании, каком они открываются нам, но, хотя скрытые от нас, они существуют и в абсолютных формах; и соответственно этому абсолютно существующему добру и абсолютной истине, есть и другая, более полная жизнь – за гробом. Потому что если уже иллюзия истины и иллюзия обладания добром даст нам силы жить; то истина и добро не иллюзорные содержат в себе неугасающий источник лучшей и вечной жизни; и, однако, здесь, на земле, всякое прикосновение к абсолютному было бы равнозначаще с прекращением жизни (деятельности). Следовательно, эта должная и невозможная жизнь есть, но только там, где оканчиваются условия земной жизни человека, т. е. для него – за гробом. В силу причин, о которых нам ничего не дано знать, человек должен почему-то вечно трудиться на земле, и для этого внушена ему надежда – чтобы он хотел трудиться, и наложено ограничение – чтобы он не переставал трудиться. Но подобно тому, как смутные, неясные и сбивчивые попытки решить математическую задачу вытекают именно из того, что для нее есть решение и даже в уме решающего есть что-то, что соответствует этому решению, но только искажено и неправильно, – так и вечно неудачный труд человека на земле указывает на что-то окончательное и уже удачное, что его ожидает, когда он окончит свой труд.
Но, во всяком случае, это абсолютное не дано нам ни как знание, ни как ощущение, и жизнь наша проходит в формах, определяемых лишь частичным его ведением и частичным же ощущением. Мы снова возвращаемся к этой относительной жизни, самую широкую картину которой представляет собою всемирная история. В этой истории г. К. Леонтьев верно определил признак высшего напряжения жизни: это – разнообразие всех элементов живущего, стремление каждого из них утвердить себя через удаление от остального, через его (придание; однако через отрицание, не подавляющее прочего, но лишь удерживающее его от захвата в себя и ассимиляции с собою отрицающего элемента. Разнообразие положений, обособленность территорий и, прежде всего, богатство личного развития – вот простые и ясные признаки, по которым мы можем судить о большем или меньшем обилии жизни в целом, будет ли то народ, какая-нибудь историческая культура или, наконец, все человечество.
VII
С таким мерилом жизненного напряжения г. К. Леонтьев подходит к своему веку, к тому великому веку, которого мы все – дети, и который своим величием и силою чудовищных оборотов так сковал нашу мысль, поработил желания, так обольстительно вовлек все наши страсти в движение своих форм, что мы обыкновенно ничего другого не хотим, как только любить их, им содействовать во всем, и в этом одном полагаем цель и достоинство своего существования. Нужна была особенная и удивительная сила отвлечения, чтобы стать в стороне от этого движения и обаяния и, прикинув к своему времени строгое мерило, произнести над ним суждение, отвечающее объективной истине.
Чтобы иметь силу к этому, г. Леонтьев прежде всего освобождается от всех тех личных взглядов и субъективных чувств, которыми естественно связан каждый из нас в отношении к тому историческому целому, в чем он составляет часть. Первое и самое главное из этих чувств есть чувство страдания или счастья, которое мы пытаемся уловить в человеке и произнести, основываясь на нем, свое суждение о той или иной исторической эпохе, о том или другом общественном строе. Он указывает на неуловимость этого чувства, на его неопределенность, и вместе сомневается, чтобы оно отсутствовало или смягчалось в каком-нибудь процессе живого развития. Вот прекрасные слова, в которых вылилась у него эта глубокая и справедливая мысль: «все болит у древа жизни людской; болит начальное прозябание зерна; болят первые всходы, болит рост стебля и ствола, и развитие листьев, и распускание пышных цветов сопровождаются стонами и слезами. Болят одинаково процесс гниения и процесс медленного высыхания; нередко ему предшествующий. Боль для социальной науки – это самый последний из признаков, самый неуловимый, ибо он субъективен, и верная статистика страданий, точная статистика чувств, недостаточна будет до тех пор, пока для чувств радости, равнодушия и горя не изобретут какое-нибудь графическое изображение или вообще объективное мерило». Он приводит случай, которого сам был очевидцем, где внешнее движение, по-видимому вызываемое страданием, в действительности вовсе не имело под собою этого чувства: что восстание жителей острова Крита, почти не ощущавших на периферии турецкой империи того давления, которое было очень сильно в ее центре, где иноверное население оставалось, однако, спокойно. «Всякий наблюдатель», говорит г. Леонтьев, «был поражен цветущим видом критян, их красотой, здоровьем, скромной чистотою их теплиц, их прелестной, честной семейной жизнью, приятной самоуверенностью и достоинством их походки и приемов. И вот они и прежде других турецких подданных, восстали, воображая себя самыми несчастными, тогда как фракийские болгары и греки жили гораздо хуже – терпели тогда несравненно больше личных обид и притеснений и от дурной полиции, и от собственных лукавых старшин; однако они не восставали, а болгарские старшины – те даже подавали султану адресы и предлагали оружием поддерживать его против критян»[54 - «Восток, Россия и Славянство», с. 147–148.]. Этот случай действительно поразителен. Мы припоминаем, как Токвиль в своей превосходной книге «L’anciene regime et la Revolution» так же объясняет, что положение французского народа, как городского и сельского, было уже значительно облегчено в царствование Людовика XVI и не могло идти ни в какое сравнение со страшным гнетом, которому он подвергался при деспотическом Людовике XIV, и в распущенные времена регентства и Людовика XV. И вот, однако, в минуты наибольшего гнета он оставался спокоен и, напротив, восстал, как только этот гнет был снят с него.
Как это нередко бывает, свободному отношению г. Леонтьева к своему предмету помогло именно то, что он не постоянно был связан с ним, что круг его наблюдений и интересов долгое время не имел ничего общего с политикой и историей. Он припоминает впечатления из совершенно иного мира человеческих страданий и верно переносит значение, которое они там имеют, сюда: «раскройте», говорит он, «медицинские книги, и вы в них найдете, до чего субъективное мерило боли считается маловажнее суммы всех других, пластических, объективных признаков; картина организма, являющаяся перед очами врача-физиолога, вот что валено, а не чувство непонимающего и подкупленного больного! Ужасные невралгии, приводящие больных в отчаяние, не мешают им жить долго и совершать дела, а тихая, почти безбоязненная гангрена сводит их в гроб в несколько дней» (там же, т. I, с. 147).
На этих-то пластических картинах, на объективном наблюдении, из которого выделена всякая примесь субъективного ощущения, г. К. Леонтьев и основывает свои заключения. Можно отвергать эти заключения, если они почему-либо не нравятся, можно бороться против них волею; но нельзя их оспаривать, нельзя бороться с ними мыслью потому, что они являются строгим и ясным результатом именно ее деятельности.
Прежде всего он останавливает свое внимание на политической стороне европейской истории за XIX в.; как ярче всего выраженная, более осязательная и уловимая, она лучше всего способна осветить истинный смысл этой истории.
Знаменитые и немногие формы политического устройства: монархия и республика, аристократия и демократия, с их типичными извращениями, охлократией и тиранией – все это, завещанное для политической науки еще из древности, есть результат абстракции, в которой не сохранено главного: индивидуальности исторических пародов. Когда люди боролись только за форму правления в городе или в небольшой стране, когда дело шло о преобладании того или иного класса населения, – можно было думать, что в этом преобладании или в этой форме правительства сосредоточивался весь интерес исторической жизни, и они же должны служить постоянным предметом мысли для всякого теоретического политика. Но с тех пор, как поле исторического наблюдения так расширилось, когда вопрос идет о существовании или разрушении целых культурных миров – рамки древнего политического созерцания должны быть оставлены. Нельзя обобщать в одном имени монархию Кира, Тиберия иди Карла Великого, и еще нелепее было бы подводить сюда же «единовластие» какого-нибудь деспотического царька из внутренней Африки. Равным образом, Венеция или Новгород, Флоренция или Рим, несмотря на отсутствие во всех их единоличной власти, не имеют ничего общего в стране и в духе своей политической жизни. Каждый народ, страна или даже город, если они вносят что-нибудь свое, особенное во всемирную историю, имеют и в политическом своем устройстве нечто особенное, несут лицо свое перед другими народами, вовсе не вторящее им, никого не повторяющее в чертах своих. Именно в этих особенных, нигде и никогда не повторяющихся чертах и содержится главная суть политической жизни; тогда как в общих явлениях единовластия или многовластия остается абстрактный ее отброс, не имеющий живого значения.
Исходят исторические народы все равно из безличной массы человечества, в которой первоначально они бывают уравнены единством немногих и простых потребностей и отсутствием всего, что, возвышаясь над этими потребностями, вместе обособляло бы пароды друг от друга. Но по мере того, как, покинув эту безличную массу, единичные страны и племена начинают восходить в историю – их лицо в ней проясняется, индивидуализируется. Можно думать, что именно выработка индивидуальных черт составляет главный смысл истории: до такой степени восхождения или нисхождения в ней народов всегда, и всюду сопровождают только выяснение или затемнение этих черт. Все другое в истории имеет то одно направление, то другое, все не вечно в ней; уклончиво и изменчиво; и вечно только это одно – прояснение лица своего собирательным человечеством, что выражается в формировании народов, государств, наконец, целых культурных миров. В немногих, слишком бледных, слишком скудных словах г. К. Леонтьев отмечает, однако, своеобразные типы политического сложения у всех главных исторических родов. В Египте это была монархия, строго подчиненная религиозному миросозерцанию, ограниченная законами и понятиями священного характера, с народонаселением, резко распадавшимся на состояния по главным формам человеческой деятельности, из которых каждая была предоставлена выполнению особой группы людей (касты жрецов, воинов, земледельцев и другие меньшего значения). Подавленность всех, от фараона до последнего нищего, одним и общим для всех религиозным ритуалом, и в пределах оставленной свободы – угрюмое несение каждым своего долга, вот не повторяющаяся особенность египетской жизни, серьезной и печальной, трудолюбивой и подавленной, в одно и то же время исполненной глубокой практичности и мистических созерцаний, причудливой фантазии и недоговоренных мыслей.
Светлое представление Ормузда и его вечной борьбы со злом придало более открытый характер и сообщило более деятельную, подвижную роль древнему Ирану. Царь персов[55 - Замечательно, что не царь Персии, т. е. не страны, не территории, а именно людей, ее населяющих. В этом титуловании себя цари персидские бессознательно выразили взгляд на свою, и с собою – всего Ирана, миссию в истории.], земное олицетворение Ормузда, то борется с окружающими дикими народами, то отдыхает после победы, наслаждаясь всем, что дает природа. Около него группируются его помощники, всегда и прежде всего воины, ведущие его полчища на другие народы, еще не признавшие его власти. Это странное желание, покорив Азию и Африку, покорить еще и неизвестную, темную Европу, от которой совершенно не видно было, что именно можно получить, есть лишь необходимое и естественное продолжение той мысли, что свет должен окончательно воспреобладать над тьмой и привести всех к единству и к поклонению единому владыке, олицетворение единого всепобеждающего добра и света. Вероятно, никогда еще и ни в какое время царская власть не была окружена таким благоговейным чувством, как здесь, и к этому чувству не примешивалось ничего вынужденного, подневольного. Г-н К. Леонтьев рассказывает, как он удивлен был, прочитав об одном действительно поразительном факте из истории греко-персидских войн, который рисует смысл древнеиранской жизни в несколько ином виде, чем как мы привыкли представлять его себе: «Во время случившейся бури персидские вельможи бросались сами в море, чтобы облегчить корабль и спасти Ксеркса; при этом они поочередно подходили к царю и склонялись перед ним прежде, чем кинуться за борт… Я помню, продолжает он, как, прочтя это, я задумался и сказал себе в первый раз: это страшнее и гораздо величавее Фермопил! Это доказывает силу идеи и силу убеждения, большую, чем у самих сподвижных Леонида; ибо гораздо легче положить свою голову в пылу битвы, чем обдуманно и холодно, без всякого принуждения, решаться на самоубийство из-за религиозно-государственной идеи»[56 - «Восток, Россия и Славянство». Т. 1. С. 88.]. Во всяком случае, этот факт обнаруживает, что в сердце людей, которых мы привыкли считать только варварами и рабами, жили чувства, настолько внутренне сдерживающие каждого, насколько это возможно только при самой высокой и многовековой культуре, при особенных дарованиях народа, при вере сто в высшие мистические идеи, управляющие историей и осуществляемые в жизни народов: потому что ведь как легко было этим вельможам выбросить самого Ксеркса за борт, если их самопожертвование не было сознательно и свободно.
Переходя на европейскую почву, мы встречаем, на утренней заре ее истории, цветущую Грецию с ее миром маленьких автономных государств, слабо соединенных единством общего происхождения, некоторых учреждений, но, главное, языком и религиею. Городской характер этих государств, полное безучастие сельского люда в историческом движении – вот общая и в высшей степени характерная черта всех их без исключения. Город, ?у???, и среди его площадь, вечно шумящая народом – вот что постоянно рисуется перед глазами историка, который занят событиями этих крошечных общин. Речи ораторов, негодующая или ликующая толпа, и воины, поспешно выходящие из нее и идущие к недалеким границам или садящиеся на корабли в близлежащей гавани – таковы обычные сцены, повторяющиеся на всем протяжении Греции и во все время ее недолгого существования. Все как-то дробно в ней, и все – человечно. Нет величия огромных массовых передвижений, нет темных влечений и неясных мистических созерцаний, все в высшей степени отчетливо и ясно как в мышлении, так в чувстве, так и в течении исторических событий.
Мы уже заметили о мерной красоте, разлитой во всей этой жизни, так краткой и, однако, так привлекательной для всех последующих народов, гораздо более углубленных. Следует прибавить, что красота эта была исключительно объективного характера. Вся жизнь Греции, как и все душевное содержание греков, как-то удивительно выпукло выразилось наружу, не оставив в себе ничего затаенного, что они не смогли бы, или не захотели, или не успели высказать. Скульптура была любимым искусством их, и это есть то именно искусство, где за выраженною, ясною чертою ничего не скрывается, нет никакой тени, оставляющей в живописи место для воображения, и нет неуловимых переливов, какие есть в музыке. Оно действует исключительно на зрение, на способность внешнего созерцания, тогда как столь родственная ей живость, вследствие присутствия в ней полутеней, незаметно начинающихся и, оканчивающихся лишь действует главным образом на внутренний мир нашей души: зрение является здесь, как и в музыке слух, не восприемником впечатления, но лишь проводником его. Но даже в статуе или в изваянии греки избегали изображать то, что сколько-нибудь отражало бы в себе состояние человеческой души: бесстрастное, не страдающее и не радующееся, но только прекрасное лицо было вечным предметом воплощения их великих художников. В этих воплощениях, к всегдашнему удивлению людей, никогда не было изображения глаз, т. е. по нашему представлению – главной красоты человека, которая сообщает его лицу осмысленность, внутреннее выражение. Глаза по справедливости называются зеркалом души, и греки не хотели смотреть в это зеркало, они набрасывали на него покров. В преобладании эпоса и трагедий над лирикой так же высказывается объективный характер их творчества, более направленного к воспроизведению внешнего, нежели к выражению внутреннего. В эпосе пересказываются, в трагедии передаются точно движения и слова другого, но не движения своей души. И что бы другое мы ни взяли, всюду мы отметим этот же внешний характер их созерцания или их чувства. В религии, самом сокровенном содержании человеческой души, они не оставили после себя никаких молитв, т. е. никакого уединенного обращения к Богу, как бы они сто ни понимали. Торжественные церемонии, общественные процессии, наконец, жертвоприношения, совершаемые и от лица народа государственным сановником – вот в чем выразилась у них потребность религии, красиво, но и холодно. От этого так легко перешли их религиозные торжества в трагическое и комическое искусство, которому они придали серьезность, а от него получили взамен красоту и пластичность. Искусство было у них религиозно, потому что и религия их была только наиболее глубоким искусством.
Слабость, бессодержательность и безынтересность семейной жизни уже сама собою вытекала из этого объективного склада их души. Дом, как место сна и даже не всегда место обеда (Спарта) и, наоборот, общественные здания, как место постоянного времяпрепровождения – вот бросающиеся черты городского устройства греков. Всегда окруженный толпою, с детства и до глубокой старости, грек среди ее воспитывался, развивался, для нее творил подвиги и от нее только желал и добивался удивления, этой особенной и поверхностной формы любви, к какой одной только, по-видимому, он был способен. И в самом деле, как дружба[57 - Как на особенно знаменитые подтверждения этого можно бы указать на рассказ о падении Пизистратидов у Геродота и на многие указания в диалоге «Федре» Платона.], так даже и брак имел всегда у них собственно чувственную основу, с очень сильною примесью эстетического, но нисколько не нравственного влечения. Так что не очень удивляет нас мысль Платона[58 - Высказанная им в «Республике».], что семьи должны бы быть устраиваемы, пары сводимы – государством. И в самом деле, именно государство есть истинная семья афинянина или спартанца, и отсюда – такая возвышенная любовь к нему, такая привязанность к его интересам, братская любовь между собою всех граждан, открытость всех их отношений, и так же – их простота, безыскусственность, внутренняя непринужденность. Мудрейшие, поучающие среди рынка юношей, беседы в тенистых садах Академии и в Лицее, и это всегдашнее «ты» при обращении, эта неизменная примесь комизма и веселой шутливости при самом серьезном содержании речей – есть уже невольное и естественное проявление широко развившейся семьи – государства.
Слишком понятен и тип политического сложения, который развился отсюда. Так тесно, так близко примыкал к государству, каждый грек являлся как бы кусочком одной кожи, которая, состоя из них – их же и стягивала и единила. Каждый из них уже от природы был носителем и воплощением государства, и только малолетство или безумие могло помешать всякому вмешиваться в судьбу родины, в свою судьбу. Отсюда взгляд их на единовластие, на всякое возвышение, на тиранию. Это было нечто противоестественное в греческой общине, и именно как противоестественное – возбуждало в себе смешанное чувство отвращения, ненависти, почти ужаса. Ни соображения пользы, ни экономические выгоды, ни слава внешняя не искупала того позора, который налагал «тиран» на город, над которым он господствовал. На время тирании община как бы замирала, и хотя события, иногда далее влияния, происходили, история ее, как биение внутренней жизни, останавливалась. Отсюда всегдашнее сочувствие греков к героям, которые восставали против тирана и каким бы путем ни было – свергали его. Среди несчастий или внешнего унижения, при невообразимых внутренних раздорах – все равно была жизнь после тирании, тогда как при ней ее не было. Отсюда остракизм, изгнание всякого слишком выдающегося по дарованиям, как предупреждение тирании; отсюда – предпочтение ей даже внешнего порабощения, как последнего средства от нее освободиться. Властитель во всяком другом государстве есть распорядитель абстрактных функций, лишь задевающих отдельное лицо; в Греции он был присвоителем того, что составляло неотъемлемое внутреннее содержание каждого, – он был врагом и оскорбителем всякого отдельного человека. Отсюда раннее исчезновение неясных теней монархизма на всем протяжении Греции; и самоуправляющаяся община, которою поглощена, сдавлена, но и определена в достоинствах своих, воспитана и увенчана личность. Все государственные функции здесь поручались, как равными равному, и, конечно, не оплачивались, как не оплачивается украшающее и возвышающее доверие, которое оказывается другу. Вспомним, чтобы лучше понять это явление, отвращение и негодование, которое вызвали к себе софисты тем, что стали брать плату за обучение. Они были представителями начинающейся розни, распадения слитой некогда общины на мир индивидуальностей, из которых у каждой есть сбои заботы, нужды и интересы. Ничего подобного, уходящего внутрь себя, не было в первоначальном, не пошатнувшемся греческом мире. Ясное обращение к внешнему, открытость каждого ко всем сказывалась во всякой черте их жизни, во всяком движении. Их душа, как и их боги, всегда была обнажена, и среди шумящего народа, в Экклезии или в Буле их ораторы так же состязались, как борцы на Олимпийских играх. Один взгляд на ясную Афродиту уже мог бы для всякого чужестранца объяснить их государственное устройство; как понимая последнее, без труда было бы можно определить манеру их воплощения красоты в зодчестве, в скульптуре, в трагедии и в лирике.
В высшей степени замечательно чувство отчуждения греков от всех соседних народов, напр., гораздо сильнейшее, чем какое было у древних персов. Оно находится в тесной связи с глубокою общностью между собой всех граждан города, всех городов Греции. Война международная – это все-таки симптом связности народов, хотя и отрицательный, и греки никогда не вели войны с «варварами», пока они не напали на них. Все войны греков – внутренние, между собою, и замечательно, что никогда поводом к войне не было желание для себя территориального расширения за счет соседей. Завоевательных войн, где одно политическое тело поглощает или теснит другие, мы в собственно греческом периоде истории почти не знаем; и это есть признак отсутствия в Греции политического индивидуализма, резкой разграниченности между собою отдельных государств. Обычным поводом к войне была здесь борьба «за гегемонию», или точнее против гегемона, т. е. против выдающегося какого-нибудь города, который, обособляясь от прочих, силился стать над ними тираном. Таковы пелопонесская война против Афин, коринфская и фиванская войны против Спарты. Другим поводом, столь же обнаруживающим тесную связь между собою греческих городов, служило оскорбление какого-нибудь святилища, равно для всех драгоценного (так называемая «священная война») или помощь городу против овладевшего им тирана (например, Спарты – Афинам против Гипния). Таким образом, и внешние отношения, и внутренний строй обнаруживают в мире греческих государств особый тип политического сложения, который не наблюдается раньше и не повторялся потом.
Черта психической объективности и вытекающей отсюда гражданской связности наблюдается также и в Риме, где открытость отношений, общность интересов (res publica), поручаемость и безвозмездность государственных функций господствуют над всем остальным, как и в Греции. Но в замене конкретности в способности представлений, какую мы находим у греков, мы встречаем у римлян абстрактность ума, более способного к образованно понятий, нежели к созданию образов. Неразвитая мифология, божества как символы понятий или отношений (напр. божество границ – «термин», или храм Согласия), слабость всех образных искусств, великое развитие права есть последствие этого абстрактного склада ума, направленного, как сказано уже было, на полезную сторону во всем. Образцы чередуются, тогда как понятия развиваются, т. е. растут и усложняются, захватывая все более в себя содержания, но не разрываясь, не утрачивая при этом своей истинности или приложимости, – и эта разница в отношении двух продуктов человеческого духа к внешнему материалу есть не последняя причина великой разницы, которую мы находим в судьбах Греции и Рима, столь родственных, столь близких по происхождению и всему внешнему облику жизни. И в самом деле, все растет в Риме, все растягивается, последовательно захватывая в свои политические формы древний Лациум, потом Италию, наконец все побережье Средиземного моря, весь дотоле известный мир. Любопытно, что междугосударственные отношения, какие мы наблюдаем в Греции, одною чертою своею отсутствуют в Риме, другою же повторяются. В противоположность греческим государствам, Рим есть община, постоянно силящаяся разрушить или поглотить соседние, но не территориально, а собственно политически. Рим не столько расширяет свою государственную территорию, сколько отнимает самостоятельную политическую жизнь у соседних общин, подавляет у них волю, независимое проявление своего «я», подчиняя и сливая все это со своим могучим желанием: это выражается в ряде союзных договоров. которыми была связана Италия, но вовсе не присоединена к Риму перед пуническими войнами. И даже после этих последних, когда Рим выступил за пределы Италии и стал собственно завоевательным государством, он постоянно завоевывал собственно право, а не территорию, искал более подчинения, нежели земельного увеличения для себя: все отношения, напр., к Нумидии, к Македонии, к Египту, и наконец, к азиатскому Востоку, ясно показывают это преобладание чисто юридической стороны над грубо физическою. Границ государственных в том смысле, как были всегда и есть теперь границы у Франции, у России – мы не знаем у Рима; и, очерчивая на карте пространство римского государства, мы собственно очерчиваем сферу его мощи, круг народов и стран, жизнь которых текла уже не по собственному желанию, но по указаниям из Рима. От этого самое определение времени, когда какая-нибудь страна стала частью римского государства, всегда так затруднительно. Рим лишь последовательно и очень медленно придвигал к себе, присасывал и, наконец, вбирал в себя ту или иную страну, тот или иной народ. Конечно, во времена Нерона вся Италия уже была Рим; но когда это сделалось, после какого события или в каком году или когда была поглощена Иудея: при Помпее, при Клавдии, при Веспасиане? Эта медленность ассимилирования со своим организмом внешних национальных тел, была одною из существенных причин неудержимого роста Рима: ни в какой момент поглощаемый народ не знал, за что, собственно, он уже поглощается; было незначительное умаление прав, снятие нескольких лишних штрихов, которыми обозначалось его существование в мире, выражалась его личность в истории, – и не казалось необходимым напрягать все силы, чтобы во что бы то ни стало удержать эти штрихи, без которых существование ведь продолжалось и только несколько тускнело. Все войны, имевшие целью отстоять свое существование, какие велись против Рима, были для него борьбою внутреннею, бессильным биением живого тела, вошедшего, по упорствовавшего раствориться в римском теле (напр. борьба с умбро-сабельскими племенами при Сулле, окончившаяся в 88 г. до Р. X., начало же поглощения относится приблизительно к 305 г. до Р. X.).
В соответствии с этим процессом урегулирования отношений к себе всего внешнего шло в Рим и урегулирование от взаимных отношений всего внутреннего, что выразилось в развитии права. Направление созерцания в сторону полезного, абстрактный характер этого созерцания, бессознательно извлекающий из частных случаев их общую и постоянную основу, наконец, объективность всего душевного склада – вот психические задатки, из которых выросло римское право. История, ее нужды и задачи, ею поставляемые, были только возбуждающим стимулом к этому развитию, но не его основою.
Вот указанные особенности античного мира, отразившиеся и на его политическом сложении, сообщают ему две черты: красоты и холодности. В его несложном устройстве, в его внешнем религиозном культе, в его историческом возрастании и самой смерти вес правильно и ясно, все просто, – как красиво и просто все в сочетании линий, которому мы удивляемся в Парфеноне. Почти все, к чему бы ни обратились мы здесь, привлекает и удерживает долго наше созерцание, давая ему наслаждение умственное или художественное. Но нет ничего почти, что нас и трогало бы. В своем геройстве, в своей борьбе, в самом даже страдании и смерти греки и римляне остаются как-то чужды для нас, не вызывают сожаления к себе как почти не жалели они и друг друга. Нет нравственного момента в их жизни и истории, и это от того, что есть великий недостаток в ней субъективного. Они близки были друг к другу, но лишь извне, как граждане, но не как люди, и как гражданам мы удивляемся им, но вовсе не любим их, как людей.
Средние века представляют собою антитезу этому миру: все в них неправильно, все хаотично; невыразимо груб их быт, как и первобытно искусство, понятия о природе и отношения государственные. Но если после великолепных страниц Фукидида или Тацита мы обратимся к какому-нибудь безвестному хроникеру, мы испытаем невольное облегчение, – удовольствие, похожее на радость: наконец мы опять видим людей, а не скованные холодною красотой их подобия – статуи. Вес опять просто и естественно вокруг нас, в этом первобытном хаосе разрушения и созидания, который мы называем средними веками. Люди говорят, а не произносят речи, воюют, а не совершают только подвиги; они несправедливы и жестоки, всегда грубы и никогда не гениальны – и, однако, мы непреодолимо привязываемся к ним, заинтересовываемся в высшей степени их судьбой и, ничему не удивляясь, очень многое в них любим.
Если мы станем искать источника этой разницы, которую наблюдаем, не в степени только развития, но в самом сложении всей жизни, в самых чертах лика человеческого на протяжении полутысячелетия после падения античной цивилизации, то должны будем обратиться прежде всего к христианству.
Из всех религий, какие знает история, христианство есть самая внутренняя, говорящая совесть человека в уединении, т. е. она наиболее запечатлена индивидуализмом. В то время, как даже Моисей давал заповеди целому народу, и к народу же обращены были увещания израильских пророков, Христос – и это впервые было в истории – обратился к одному человеку, к лицу: его беседы с Самарянкой и с Никодимом, его притчи, высказанные ученикам, все это уходит куда-то далеко, далеко от тревог окружающего мира и как будто даже от самой истории. Где-то в стороне от всего, что знали раньше люди и что занимало их, что они считали главным интересом своей души и главной целью существования своего, вскрылась иная цель, иной интерес; и история, которая долго еще шла мимо всего этого с шумом и треском, здесь иссякая и иссякая, все теряя силы, упала, как бы подсеченная в корне, в круге этих стоявших в стороне интересов и с тех нор идет вот уже второе тысячелетие силами, которые были заложены там и в тот миг. Эта особенная неистощимость, эта странная неувядаемость христианской цивилизации вся вытекает из того, к чему обратился Христос: как бы снимая с человека его оболочку, он раскрывает в истории его душу, которая постоянно до тех пор скрывалась за племенем, за государством, за общественною жизнью, за общепринятыми обычаями, – и судьбу души этой в ее падениях и просветлениях сделал всемирной историей, которая, конечно, стала также вечна и неувядаема, как неувядаема в вечных возрождениях своих человеческая совесть.
Личность стала поэтому центром новой истории, как прежде центром таким была городская или родовая община. Там за пределами государства все тусклее становилось то, что непосредственно примыкало к человеку, и наконец он сам – совершенно неясный образ, только менее или более удачный носитель общих черт и общих же интересов, которые налагались на него государством. Напротив, самое и самое твердое теперь становится именно то, что непосредственно следует за внутренним миром человеческой души, что им согревается и его освещает – семья. После религии, после отношения к Богу, первой святыни средних веков – второю святынею становится семейный круг. Классически «с ним или на нем», которое обратила спартанка к рожденному от нее воину, подавая щит, – не имеет никакого смысла в средние века; и, напротив, подушили смысл уединенные молитвы, которые неустанно шлются за сына, где бы он ни был, что бы ни сделал, как бы ни был осуждаем всеми и даже действительно дурень. Все переменило характер от этого перемещения интересов человека: нет торжественных хоров, нет великолепия холодных процессий и всей скульптурности бытовых форм, как и изваянных характеров. Все ушло куда-то внутрь, за стены родного дома, к скрытому очагу, где человек живет, живет не наблюдаемый более никем, и откуда он выходит с лицом, освещенным светом, который никогда не согревал античного мира. Оттуда, из этой скрытой от всех уединенной жизни выходит новая поэзия и новая философия, которая так много сказала человеческому сердцу и так многому научила человеческий ум.
Понятно видоизменение общественных и политических форм, которое все текло отсюда: государство уже не прилегает более непосредственно к человеку, оно удалено от него и даже не так строго необходимо. Только неприятное соседство грубых народов, всегда готовых напасть и разорить страну, да неизбежность присутствия злых людей и безродных бродяг в недрах самого общества заставляет отрывать каждого свое внимание от семьи и часть его посвящать той внешней оболочке над всеми, которую мы называем государством. Таким образом, отношение к нему в новой истории становится внешним и холодным, вынужденным; тогда как в древнем мире оно было внутренним и интимным, ему одному отдавалась не сдержанная страсть. С этим изменением отношения к политической форме изменилось и отношение к ее элементам: монархия есть естественная форма христианского государства, как республика – античного, языческого. Общий интерес, дела, касающиеся до всех, каждое res publica – есть только бремя, которое никто теперь не хочет взять на себя и в которое чтобы вникнуть только – нужно забыть на время самые дорогие и близкие интересы, пренебречь то, с чем слита жизнь. Тот, кто берет на себя это бремя, кто за каждым сохраняет самое драгоценное /для него, уединение и заботы о близких, каждому – оказывает благодеяние, которого он не получает даже от друга. Отсюда – взгляд на царскую власть как на источник благодеяния, поэзия и любовь, которыми она окружена. В античном мире ставший один над всеми, даже когда он и всех благодетель, есть ???????? (похититель власти), всех и каждого враг; в новом мире – это заботливый устроитель общих дел, охранитель над всеми, который отказался от лучших даров счастья, чтобы за каждым сохранить его дары. Его личность неприкосновенна, почти свята, его характеру удивляются, хотят знать его частную жизнь, которую любят почти как собственную. Рассказы о Теодолинде, легенды о Карле Великом или об Альфреде английском, все эти трогательные чувства и воспоминания, обращенные к государю и его памяти, – как далеко отошли они от образов Тиберия, Дионисия Сиракузского или хитрого и жадного к власти Пизистрата и двух сыновей его. Мы говорим не о разнице, которая была между этими людьми, но о разнице чувств, которыми они окружены были, с которыми их встретили на троне и проводили в могилу. А чувства эти, вся психическая атмосфера, которою дышит человек, на которого обращены миллионы глаз, по неистребимой связности каждого рода людского со всеми, ранее или позже налагает свою печать на его духовный образ, дела и тайные мысли, конечно с индивидуальными изменениями; но каждый становится тем, что от него ожидают, и это не менее тогда, когда он отвечает на ненависть ненавистью, чем когда на привязанность – любовью. Но в средние века (и вообще в христианской истории) даже и положительно слабый государь, не успевший ни устроить подданных, ни защитить их, пользовался, однако, их добрым чувством: о его несчастиях на войне, о его падении с престола вспоминали с большим участием, чем даже и о собственных бедах, о разорении целой страны – факты неизвестные в античном мире, непонятные в Риме, в Афинах, в Спарте (судьба Цезаря, подозрительное отношение даже к Периклу). Отсюда слияние всей новой истории с личною историею государей, с рассказами о судьбах династий, – как в древности слияние ее с форумом, с ?????, сенатом – экклезией. Замечательно, что до последних десятилетий нашего века это не понималось, как ошибка, не чувствовалось тут какой-либо неправды: Мишле и Маколей одинаково писали свою историю. И в том, что никто не чувствовал здесь чего-либо ложного, находится оправдание и объяснение гордых слов о себе нового государя: «государство – это я». В совершенно строгом смысле слова эти мог применить к себе и самый скромный из предшественников Людовика XIV: в Европе после падения античного мира, еще от времен Хлодвига, Генриха I Птицелова и Альфреда Великого, – государь, понятно, был носителем государства, т. е. совокупности общих забот о всяком деле, организатором всех этих дел, их начинателем и руководителем. Он был вождь на войне, организатор в мире, а когда еще оставался досуг от всего этого – личный досуг (Людовик IX), учредитель форм быта, строитель наук, литературы и искусства. Только уже позднее, в наше время, когда все стало изменяться, историками был придуман для слов Людовика XIV смысл, которого он вовсе не имел в виду, от которого он гордо и презрительно отказался бы, как от недостаточного, если б можно было как-нибудь объяснить ему этот смысл.
И второстепенные подробности политического сложения христианских народов также вытекают все из начала индивидуальности обращения человека внутрь себя, которое принесла миру новая религия. Руководительство общих дел в античном мире поручалось по доверию некоторым и было, в каждом отдельном случае, как бы добровольным сложением власти многих на одного: это высокое право – принять хоть временно на себя власть других – приобреталась не только выдающимися достоинствами в частности, по и общим, постоянным несением на себе бремени большего, нежели какое несли другие. Отсюда разделение граждан на классы в Риме, в Афинах, и несение почти всего бремени налогов теми, которые могли быть избираемы на государственные должности: за право получить власть от бедных богатые принимали уплату повинностей за них. И они несли также и всю тяжесть военной службы, что было, впрочем, лишь самою общею и, для каждого отдельного лица, низшею формою государственной власти: правом, которое принималось от народа войском. Безвозмездность всякого государственного служения и простое выражение признательности за государственные услуги, лавровый или дубовый венок, наконец – триумф, это все естественно вытекало из античного взгляда на государство, из чрезмерной близости к нему, к его идее и выражению всякого живого индивидуума. И все это стало непонятно и невозможно в новом мире: как только центр жизни, внимания и забот переместился в частную жизнь, для общей можно было найти служителей только за особые выгоды, им предоставляемые сравнительно с прочими. Там эта служба покупалась, как право, здесь она оплачивалась, как обязанность. Отсюда вытекли два великие последствия: перемещение государственных тягостей сверху вниз и развитие бюрократической системы управления, взамен древней, по поручительству. И в самом деле, с торжеством христианства и как бы вопреки его светлым заветам, мы видим, что повсюду, и даже до наших времен бремя уплаты государственных повинностей, как и линейной службы в войсках, всю тягостью своею лежит по преимуществу на крестьянстве и мелких горожанах, из которых не выходят люди, пекущиеся о государстве; и от этой тяжести свободны, совсем или отчасти, классы обеспеченные и свободные: ubi ementum – ibi emolumentum[59 - Где лгут – там успех (лат).]. Эта правовая формула античного мира читается в новом наоборот. Нужна была особенно сильная и постоянно действующая причина, которая в силах была бы породить столь общий факт, столь резкое отклонение от самой основы христианства. И эта причина лежит в том, что именно вследствие христианства государство так далеко отодвинулось от индивидуума для церкви или по предписанию нравственного долга он может взять на себя тяжелое бремя, может посвятить всю свою жизнь заботе, о ближнем, о неимущих, о страждущих.
И факты заботы этой, неизвестные в древности, продолжаются до наших времен вот уже девятнадцать веков. Но для государства, для совершения действий, индивидуально никому не нужных, что может заставить христианина отнимать заботы от своей семьи и иногда даже от церкви, о своем личном загробном спасении? Ради чего он погрузится в весь этот мелочный, неприятный и часто не чистый водоворот текущих или особых дел, где так часто нужно притеснить или наказать, подчиниться слепо или гневно приказать? Для его свободной души, которая хотела бы жить только с Богом, с подателем жизни и грозным судьей, перед которым он должен дать отчет не только за одну свою душу, но и за детей своих, – для него оставить эти высоты и чистые заботы для разбирательства вздорных дел менее дурными людьми, для вымогательства подати с последнего бедняка было нечто отвратительное и тягостное. Вот почему вплоть до начала XV века, когда во всей Европе совершился великий упадок религиозных чувств, самое возникновение отчетливо организованного государства было невозможно. Только с этого времени, взамен феодального строя, где вовсе не было этой удушливо-грязной административности, возникает государство с все приближающимися к этому типу формами. Но одна общая черта сохраняется как в феодальном, так и в новом государстве: та общая сословная масса, из которой выходят сберегатели общих интересов, будет ли то воин или чиновник, в шлеме или в мундире, эта масса, одинаково во все эпохи, религиозные и атеистические, просвещенные и грубые, свободна от денежных и всяких физических повинностей; кроме одной: обязанности давать из себя людей, пекущихся об общем благе, как внешнем, так и внутреннем. С тою разницею, повторяем, что в феодальном строе это обязательное попечение было более свободно по форме, строго индивидуально по выражению, – что вполне согласовалось с религиозным духом эпохи: рыцарь – повсюду, член феодальной иерархии в своем районе был оберегателем справедливости и свободы, действующим по своему побуждению, лишь в слабой зависимости от сюзерена, и притом по преимуществу в отношении к частным людям; что все и производило тогда какую-то чудную смесь личной инициативы всюду – с громадной массивностью народных масс, уже вступивших в историю, и начал религиозно-нравственных – с политическими.
По мере того, как из хаоса феодальных отношений возникло новое государство, эта независимость в проявлении забот о всех стала уступать место принудительности и безличности: возникла бюрократия, как посредствующее звено между государем и страною, как орудие деятельности первого, которая могла бы достать всюду и коснуться всего. В силу той безынтересности государства для каждого индивидуума, о которой мы говорили как о характерной черте новых времен, орудия деятельности этой, т. е. звенья бюрократической системы, могли быть привлечены к деятельности на общую пользу не иначе как платою. Отсюда – оплаченный чиновник, как непременная принадлежность нового государства, будет ли то монархическая Австрия или республика Соединенных Штатов. Всюду за те заботы, которые отнимает он от семьи своей, чтобы передать их безличным и далеким для него массам людей, он требует и получает особенный выгоды, которые передает своей семье. С возникновением бюрократии, набираемой из всех классов, куда идут, по выше объясненным причинам, лишь наиболее грубые элементы общества, наименее ценящие себя и в себе – все высокочеловечное, самое существование особых облегченных классов, утратило всякое основание: они опустились туда, где всегда лежало бремя государственных тягостей, сохраняя одно лишь преимущество – избыток материальных средств. Безличная, не расчлененная масса народа и управляющий класс над нею, как единственное и новое сословие, есть общая черта государств современного типа. Но купленная забота всегда обращена к тому, кто ее купил, а не к тому, для кого она куплена. Отсюда – развитие в новом государстве наружной стороны деятельности, отсутствие на периферии его, в последних звеньях системы, какой-либо жизни, устремленности, достигания, и так как лишь этою периферией система касается реальных явлений текущей истории, то отсюда же вытекло в вечное убегание этой истории от руководительства системы, которая напряженно силится из центра овладеть ею, но не может. Изощрение и изощрение контроля, прибавка к сделанной уплате (жалованье), обещания прибавить еще (награды, повышения, знаки отличия) – все это есть ряд усилий, делаемых из центра для того, чтобы передать свою жизнь и устремленность далеким перифериям, не знающим и не хотящим, не чувствующим в самих себе каких-либо целей. Таким образом, за безучастием в новом государстве хороших сторон человеческой природы, является печальная и осознанная необходимость действовать, возбуждая их, на дурные: на чувство робости в человеке, на его алчность, на какое-то иллюзорное тщеславие. Но, как само собою ясно, не задевая сущности дела, все эти средства были и останутся бесплодны: какая бы цель для деятельности ни была поставлена и какая бы награда возле нее ни стояла, внимание достигающего ее в новом государстве неизменно будет направлено на того, кто поставил ее и держит награду, а не туда, где стоит она и чего должна коснуться ее деятельность. Безжизненность, глубокое бессилие есть неизменная черта новых политических тел, возникших повсюду в Европе с конца XV века, и вытекающая из самой психической структуры их. При этом мы говорим, конечно, о норме, а не об исключениях: но рвение, но героизм, но подвиг для родного города в античном мире был нормою, а равнодушие – исключением. В христианском мире, где государство есть второстепенное для человека, а не первое, это стало наоборот, – при всех формах правления, при всех степенях образования, в века минувшей истории и ожидаемой.
В целях удобства, возможности какого-нибудь действия, это управление не могло не приобрести всюду одного вида: всеоживляющий центр и пробегающая от него деятельность, которая, распределяясь по бесчисленным нитям все утончающейся администрации, завязывается на оконечности их с фактами реальной жизни, силясь овладеть этими фактами. Восхождение движения обратно к центру от фактов хотя возможно и есть, но всюду затруднено, как бы мешая главному движению. Некоторая абстрактность жизни в центре, абстрактность идей его и даже страстей, и затруднительность движения для фактов на периферии системы, где они проскользают сквозь резкую уже и слабую сеть административной паутины и текут по своему особому руслу, никем не направляемому – вот общая картина этой системы, почти без видоизменений установившейся во всей Европе. Ей отвечает повсюду картина самой территории европейских государств, которые, как остов нервную систему, облекают эту администрацию и вполне повинуются ей, ее внутреннему закону в своих внешних чертах: уторопленная жизнь в центре каждого подобного государства, и при том жизнь крайне абстрактная, без ярко выпуклых особенностей, которые были бы наложены историей; национальностью, ее особыми бытовыми условиями и даже климатом. Все столицы Европы становятся чем далее, тем более схожи между собою, как фотографии, снятые с одного лица. И до самой периферии, начиная от этих центров, всюду поблеклая жизнь, медленно движущаяся, без какого-либо значительного интереса в себе для наблюдателя, без какого-либо счастья, кроме покоя, без других забот, кроме насущного пропитания. Все высшие интересы, тревоги, замыслы сосредоточиваются в центре, лихорадочно деятельном, ни на минуту не успокаивающемся; и это беспокойство есть самая главная печать, налагаемая этими центрами на высшие интересы человеческого существования, сюда стянувшиеся.
Таковы резкие, бьющие в глаза особенности повой истории, вытекшие все из незаметного уклона, который получило девятнадцать веков назад развитие человеческого духа в новой религии. С этого времени, повинуясь этому уклону, все дела человеческие текут в сторону, диаметрально противоположную той, куда они двигались ранее, в античном мире. Нам остается добавить еще немного слов, чтобы докончить картину этой истории, и именно – выяснив особый характер, какой имеет здесь участие собственно народных масс в государственной жизни.
Древнему миру вовсе неизвестна была противоположность между государством и обществом: в Спарте, в Афинах или в Риме общество, т. е. совокупность граждан, было вечно деятельным носителем задач, форм и традиций государства. И кто враг был этому государству, или что клонилось к его ущербу, был враг и обществу этому, его интересам. От этого борьба там всегда была борьбою в пределах самого государства, одного элемента его против других, т. е. она носила сирого внутренний характер, была вполне законна, и ее влияние на развитие государства всегда было плодотворно. Напротив, в новой истории, с возникновением христианской семьи, со строгим и возвышенным развитием церкви, общество отделилось от государства и вообще история его не укладывается в историю политическую и не всегда даже совпадает с ней в своем течении: бывали моменты, и их всегда можно ожидать в будущем, когда принципы, задачи и вся установившаяся практика государства вызывала строгую критику и даже осуждение со стороны общества – факт, неизвестный в летописях истории до появления христианства. В античном обществе, слитом с государством, только к концу его, с возникновением философии, могли появиться в ее особых понятиях опорные пункты для критического отношения к политической практике. И это еще раз, но с новой стороны, показывает, как мало гармонировали Академия, Лицей и Стоя с Акрополем и Форумом, со всей этой светлой, связной, в высшей степени цельной жизнью; и насколько сказался в их возникновении скрытый перелом истории к чему-то новому, совершенно личному от прежнего. Но философские понятия никогда не могут быть достоянием многих, и изгнание Анаксагора, смерть Сократа, добровольное удаление из Афин Аристотеля были несложными фактами, в которых выразилось это разъединение личности и государства. Напротив, с появлением христианства этот факт стал всеобщим и постоянным: в заветах Евангелия, в пробужденных тревогах своей совести всякий имел постоянный критериум, который он не колеблясь применял и ко всякому поступку своему, и к каждому государственному акту, которого был зрителем. Слитность между индивидуумом и политическим строем стала более невозможною: стала возможна особая история общества и всего того, что из него свободно вырастало: религиозных движений, искусства, науки и философии. Все это, развиваясь вне воздействия государства и будучи дорого человеку не менее, чем оно, открывало новые и новые точки опоры для индивидуального суждения, для общественной критики государственной деятельности. И мы видели нередко в истории Европы моменты, когда государство с сетью развившихся в нем учреждений, и общество с великим духовным миром, им созданные, становились друг против друга, чтобы победить или умереть. Таков был, между прочим, смысле французской революции, столь враждебной христианству и, однако, возможной только в христианской стране, – по своему основанию, по точке опоры, какой она никогда не получила бы для себя в языческой стране[60 - Сравни судьбу Тиверия и Кая Гракхов, боровшихся за ясные для всех материальные интересы, с судьбой Мирабо и последующих вождей революции, боровшихся за гораздо более отвлеченные принципы.].
Но здесь общество и государство стояли друг против друга; разъединены же и обособлены они были постоянно в новой истории. Этим объясняется особый характер как важнейших чисто европейских законодательств (т. е. возникших без участия римского права и не на романизованной почве), так и характер в новой истории представительных собраний. «Magna charta libertatum», «Habeas corpus», «Билль о правах», эти знаменитые юридические акты все имеют одну цель: охранить личность от посягательств государства, провести вокруг каждого черту, за которой с семьей своей, со своими высшими духовными интересами, он как бы не чувствовал государства и его ежеминутной деятельности. Таким образом, печать глубокого индивидуализма лежит на этих государственных актах, – в противоположность античному миру, где всякий государственный акт расширял сферу общей деятельности (respublica) на счет индивидуальной свободы. И далее (в глубокой аналогии со всем сказанным) тогда как в древнем мире всякое представительное собрание (сенат, комиции, буле и экклесия, герусия) имело характер, ведущий историю, в новой истории всякое подобное собрание имело характер только ограничивающий это ведение, или в нем участвующий. В начале, когда государь стоял один над народом и еще не имел вокруг себя сложной администрации, через которую мог бы действовать, он созывал лучших людей из подвластного народа в помощь себе, для совета или содействия. И понятно, что собрания эти всюду прекратились, заменяясь более деятельною и удобною администрацией. В одной Англии, где не возникло бюрократии, эти собрания сохранились благодаря ряду дурных королей, которых, представляя собою общество, они стали ограничивать. Но в высшей степени замечательно, что где бы ни возникали подобные собрания и в позднейшее время, они всюду имеют тот же ограничивающий характер, выражают критику стоящего в стороне общества, но не его деятельность. Так сделался удален, со времен христианства, мир индивидуальных желаний и далее мыслей от общего интереса всех, что, собираясь даже во имя этого интереса, отдельные личности не могут найти способа осуществлять его, по лишь смотрят и критикуют то, что перед ними осуществляется, – и это одинаково в республиках, как и в ограниченных монархиях. Поэтому, в строгом смысле, res publicae не существует в Европе и не может существовать; есть только монархии, по местами такие, где власть монарха, его скипетр, держится многими руками, скрытыми за спиною остальных необозримых народных масс, которые покорны и безучастны к власти столько же, как и в монархиях не затемненных. Венец царский не сорван нигде, но он разорван на лепестки, которые, однако, сияют на головах нескольких людей, – для большего удобства, говорят они, народа, которому, однако, предоставляется лишь смотреть на это, бессильно желать этого, вечно завидовать и умирать с чувствами, каких они не имели прежде. Таковы различия в политическом сложении древнего государства и всех новых. В бессмертной формуле своей, Аристотель выразил сущность первого; сказал он, думая о современном ему мире, высказывая то, как этот мир чувствовал себя. Величие, поразительная красота, обилие жизненности в государстве и гражданине было простым следствием только этого факта. Был удивительный период в истории, когда человек не только ощущал, но и дышал, но и мыслил, но и желал только внешними покровами своего существа, – подобно тем странным, еще неразвитым животным, которые живут только кожею. И этот период окончился навсегда, как только принесено было на землю евангелие. С ним и через него вырос внутренний человек, вскрылось глубокое содержание его природы, вовсе не укладывающееся в рамки какой-либо политической формы или деятельности. Человек не хочет и не может быть только гражданином; он уже давно сперва христианин, потом отец семьи, на котором лежит высшая ответственность, наконец, – он художник или мыслитель и уже после всего этого гражданин. Но с тем прекрасным и до сих пор не померкающим светом, каким озарилась в силу этой перемены история, неотделимо некоторое и искажение государства: нет прежней красоты в его формах, более безжизненно оно, узко и как-то несимпатично. Всего этого переменить нельзя и не следует. И не подавляя остальное все, как это было в древности, но, напротив, примыкая ко всему, что выросло в новых обществах из христианства, проникаясь началами религиозными, семейными, всюду будя в себе внутренний смысл, а не установляя внешние формы, новое государство может достигнуть высших проявлений своего типа, – менее красивых, чем античные, но гораздо более дорогих человеку и, быть может, более его достойных[61 - Нам могут заметить, что 1) зародыши централизации и бюрократии появились еще в языческой римской империи и 2) что в некоторые эпохи новой истории у тех или иных народов отсутствовали черты этой бюрократии и централизации. На это ответим, что 1) насколько уже в языческом мире (однако не ранее появления христианства) стало подготовляться выясненное нами политическое сложение, в нем, в этом факте, с новой стороны обнаружилось подготовление к принятию христианства: формы перерождались в направлении, строго отвечающем характеру содержания, которое только подготовлялось в это время на дальнем Востоке. Замечательно, однако, что окончательное установление централизации и бюрократии произошло в Риме лишь при Константине Великом, при котором и новая религия от потаенных путей перешла к ясному выражению себя в истории. 2) Из новых народов у всех и во все эпохи есть более или менее выраженный уклон в указанную сторону; но, скользя по этому уклону, многие из них задерживались в движении своем разными историческими обстоятельствами. Во всяком случае, в каждом единичном народе последующая фаза развития всегда была обильнее, чем ей предшествующая, общими чертами бюрократизма и централизации (сравни, напр., Испанию при Карле V и Филиппе II); и по истечении достаточного времени все страны Европы приняли вид, нами очерченный. Но (и это главное) имея задачею высказать лишь схему нового государства, мы указали, что отдельные черты этой схемы должны корениться в особенностях духовного сложения новых народов; а это последнее возникло главным образом из христианства, в котором именно индивидуализм и субъективность могли дать основу для особого строя общественной и государственной организации.].
В пределах этого общеевропейского типа жизнь единичных, сколько-нибудь значительных пародов новой истории приняла своеобразное выражение. Мы приведем здесь слова г. К. Леонтьева, хоть и кратко, но ясно и справедливо указываются важнейшие из этих оттенков:
«Италия, возросшая на развалинах Рима, – говорит он, – около эпохи возрождения и раньше всех других европейских государств выработала свою государственную форму, в виде двух самых крайних антитез – с одной стороны, высшую централизацию в виде, государственного папства, объединявшего весь католический мир далеко вне пределов Италии, с другой же – для самой себя, для Италии собственно, форму крайне децентрализованную, муниципально-аристократических малых государств, которые постоянно колебались между олигархией (Венеция и Генуя) и монархией (Неаполь, Тоскана и т. д.).
Государственная форма, прирожденная Испании, стала ясна несколько позднее. Это была монархия самодержавная и аристократическая, но провинциально мало сосредоточенная, снабженная честными и отчасти сословными вольностями и привилегиями, – нечто среднее между Италией и Францией. Эпоха Карла V и Филиппа II есть эпоха цвета этой политической формы.
Государственная форма, свойственная Франции, была в высшей степени централизованная, крайне сословная, но самодержавная монархия. Эта форма выяснилась постепенно при Людовике XI, Франциске I, Ришелье и Людовике XIV; исказилась она в 89 году.