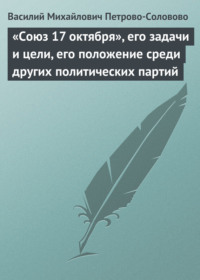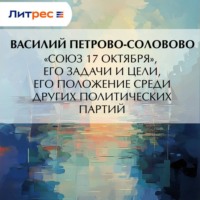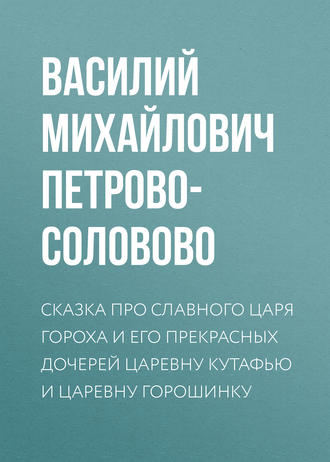
Личная земельная собственность по аграрной программе партии «Мирного Обновления»
Не подлежат урезке посредством принудительного отчуждения и такие имения, которые хотя и превышают установленный для данной местности максимум и таким образом попадают в категорию латифундий, но за которыми землеустроительная комиссия признает общеполезное значение (ст. 40 п. д). Отошедший в вечность приказный строй русского государства знал политическую благонадежность. Теперь вместо неё партия «Мирного Обновления» создает новый вид благонадежности – хозяйственной. Как раньше на первую, так и теперь на вторую необходимо свидетельство от чиновника, и отказ в его выдаче будет иметь теперь еще более серьезные последствия, нежели при старом строе. Есть полное основание опасаться, что «последняя лесть будет горше первой».
Не отчуждаются (п. в ст. 40) земли, на которых расположены фабрично-заводские и промышленные предприятия, а также земельные угодья, обслуживающие их потребности в необходимом для этого размере. Весьма странно, что пункт этот совершенно умалчивает об овцеводстве и коннозаводстве, которые составляют весьма существенные отрасли русского хозяйства и нуждаются, как всем известно, в обширных площадях земли, во всяком случае не меньших, чем любое фабрично-заводское предприятие. Следует ли заключить из этого умолчания, что знаменитые овчарни и конные заводы обречены просто на-просто на распродажу, как скоро с установлением максимума землевладения их существование станет невозможным? Что нужды в том, что на их организацию положены десятки лет труда, затрачены крупные суммы? Дорогих баранов и овец купят мясники, и все дело во имя провозглашенного принципа будет раз навсегда ликвидировано. Pereat mundus et fiat…iujuria! Но в таком случае во имя этого принципа почему не применить ту же самую меру и ко всякому сельско-хозяйственному предприятию? Ведь нисколько не труднее распродать инвентарь свекло-сахарного, винокуренного или крахмального завода, нежели конный завод или племенную овчарню. И почему фабрикация сахара, водки или крахмала должна быть поставлена в более привилегированное положение, нежели выведение породистых лошадей и производство хорошей шерсти?
Партия «Мирного Обновления» в своей аграрной программе не обходит вниманием и кустарей и рекомендует (ст. 59) поддержание кустарного промысла путем подъема технического и торгового образования кустарей и организации дешевого кустарного кредита. Отправляясь от принципа принуждения и ограничения, которые так охотно допускаются ею в отношении землевладения, она могла бы очень легко и скоро разрешить этот вопрос. Для этого стоило бы только законодательным путем установить максимум числа и производства фабрик, заводов и крупных мастерских для каждой местности с таким расчетом, чтобы удовлетворение известной части народных потребностей оставалось на долю мелких кустарей. Такой ограничительный закон был бы, строго говоря, уместнее относительно фабрик, нежели относительно землевладения, ибо как раз в фабричном производстве наблюдается процесс поглощения крупными предпринимателями мелких, что совершенно отсутствует в нашем сельском хозяйстве. Однако ничего подобного не предполагается. И если партия «Мирного Обновления» совершенно основательно исключает из своей программы такие чисто революционные меры, то с таким же веским основанием она должна отказаться от них в отношении сельского хозяйства. Затраты даже и очень большие на постройки, машины, живой и мертвый инвентарь не только окупаются, но и дают хороший доход в имении в две-три тысячи десятин и становятся совершенно непроизводительными, как только размер имения будет более или менее значительно сокращен. В таком случае весь этот капитал рискует бесследно исчезнуть, а это исчезновение представляет собою не только убыток частного лица, но и умаление богатства страны. На стеснениях, ограничениях и запрещениях не возможно построить национального богатства, а можно очень скоро и бесповоротно его разрушить. Экономически безумно и нравственно преступно ставить преграды приложению честного, закономерного и добросовестного труда, совершенно независимо от того, каков объект этого труда: фабричная деятельность, промысел, торговля или земледелие. Исходя, из противоположного принципа, неизбежно придется нормировать количество товара в лавках, число станков на фабриках и пароходов транспортных компаний. Ведь все такие нормировки могут быть мотивированы заботами государства об интересах третьих лиц. Но при таких порядках мы будем жить уже не в свободном государстве, а в работном доме. Если свободная конкуренция должна быть поставлена в основу всякой человеческой деятельности, то из этого общего закона нельзя исключить ни одной из них.
Нас могут спросить: объявляем ли мы себя сторонниками принципа: laisser faire, laisser passer и противниками всякого вмешательства государства в сферу экономических отношений частных лиц. На этот вопрос можем ответить безусловно отрицательно. Мы глубоко убеждены в том, что прямая обязанность государства заключается как раз в подчинении этих отношений общим для всех, в равной мере справедливым, законам. Но это должно быть достигнуто не путем урезок, запрещений, стеснений и ограничений. Государство имеет в своем распоряжении много способов для того, чтобы облегчить всякому гражданину, одаренному трудолюбием и энергией, возможность увеличить свое благосостояние и тем способствовать достижению национальной цели: поднять общее благосостояние страны. Дешевый кредит для нужных государству предприятий, более справедливое распределение налогового бремени, введение подходящего и поимущественного обложения, прогрессивное обложение наследств – все эти меры государство обязано разумно и справедливо использовать в интересах общего блага. Правильное применение этих мер не убьет, а возвысит энергию частного лица, пред которым, будь он торговец, фабрикант или земледелец, будет поставлена задача организовать и вести свое дело так, чтобы оно даже и при сравнительно высоком обложении все же давало хороший доход. Напротив того, всякое ограничение и стеснение в приложении труда, откуда бы оно не шло, от самодержавного монарха или от правительства ультрадемократической республики, в одинаковой мере подтачивает человеческую самодеятельность и дух предприимчивости и этим наносит непоправимый вред государству. Мы достаточно долго боролись с разного рода стеснениями во всех областях жизни русского народа, чтобы в полной мере оценить их вред. Неужели, только что поборов их с одной стороны, мы тотчас же позаботимся о введении их в новый строй в ином виде?
III
Всем известна французская поговорка: «La critique est aisée, mais l'art est difficile»; все хорошо знают, что гораздо легче указывать недостатки той или иной организации, того или иного общественного или государственного порядка, нежели находить способы заменить его лучшим. Эго верно и по отношению предстоящей нашим законодательным собраниям земельной реформы. Мы вовсе не претендуем на всестороннее обсуждение и разрешение в настоящем труде аграрного вопроса. Мы имели в виду отметить в нем те промахи и недостатки, которыми страдает партия «Мирного Обновления». Другими словами мы хотели указать, как по нашему убеждению не надо решать аграрного вопроса.
Мы оставим без обсуждении целый ряд предлагаемых партией «Мирного Обновления» мер для разрешения земельного вопроса. Мы вполне с ними согласны и не имеем против них никакого возражения. Но мы считаем необходимым выдвинуть на первый план одну из них, самую существенную, которая всего более способна разрешить земельный вопрос в благоприятном смысле и без которой все остальные меры бессильны разрешить эту задачу. Мера эта указана партией «Мирного Обновления», но по странной случайности она затеряна в её программе среди других гораздо меньшего значения. В ст. 56 наряду с мерами содействия к переселению на отрубные участки, развертыванием чересполосных угодий указано и устранение препятствий к переходу от общинного землевладения к личному. Вот в этом-то устранении препятствии по нашему глубокому убеждению и заключается ключ к разрешению всего этого трудного и острого государственного вопроса. Мало устранить препятствия к переходу от общинного к личному землевладению, надо содействовать этому переходу всеми мерами, кроме конечно формального принуждения, которое мы нигде не допускаем. Пора русскому крестьянству перестать быть муравейником или пчелиным ульем и стать союзом полноправных русских граждан, вооруженных всеми правами свободных людей, не исключая и самого драгоценного из них, права личной и наследственной собственности. Тогда и только тогда можно будет ожидать от них личной инициативы, пробуждения духа предприимчивости и самодеятельности, столь необходимых для культурного и экономического роста нашего государства. Следует заметить, что вся наша «левая» пресса высказывается по этому вопросу с большой осторожностью и нерешительностью. А, ведь, недалеко еще то время, когда значительная часть её в полемике с славянофилами, защищавшими самодержавие и сельскую общину, как самобытные начала русского народа, относилась к обоим этим институтам с одинаковым отрицанием. Вот в каких мрачных красках рисует русскую общину известный революционер Бакунин: «Гнусная гнилость и совершенное бесправие патриархальных обычаев, бесправие лица перед миром и всеподавляющая тягость этого мира убивает всякую возможность индивидуальной инициативы, отсутствие права не только юридического, но и простой справедливости в решениях того же мира и жестокая бесцеремонность его отношений к каждому безземельному и небогатому члену, его систематическая притеснительность к тем членам, в которых проявляется притязание на малейшую самостоятельность, готовность продать всякое право и всякую правду за ведро водки – вот во всецелости её настоящего характера великорусская крестьянская община». Теперь среди наших левых партий и их печатных органов господствует иное отношение к общине. Не решаясь прямо отстаивать её неприкосновенность, они склонны признать совместимость её дальнейшего существования с экономическим ростом нашего сельского населения. Причина эта ясна: в крестьянской общине наши революционеры, явные и тайные, усматривают удобную почву для социалистического строя, который они надеются ввести в России, тогда как личное землевладение закрепляет в стране диаметрально противный социализму капиталистический порядок. Прн вполне отрицательном отношении ко всяким классовым или сословным привилегиям и перегородкам, мы все-же с убеждением высказываемся не только за сохранение и за возможно большее укрепление капиталистического строя в нашем отечестве, но и за самую энергичную борьбу со всякими попытками перестроить его на социалистических началах, совершенно несвойственных духу русского народа. Мы полагаем, что образование многомиллионного класса мелких личных землевладельцев из элементов наиболее крепких земле, наиболее способных к земледельческой деятельности, наиболее трудолюбивых и энергичных, к которым и перейдет постепенно вся крестьянская земля, как только снимутся с неё оковы сельской общины, явится самым действительным противником социализма. Только тогда создастся в России политически консервативно настроенное большинство населения, крепко хранящее принцип частной собственности, на котором зиждется все современное государство и с упразднением которого везде, а тем более в России, молено ожидать одной только анархии и всеобщего обнищания. Только тогда и у нас вместо нынешнего жалкого, невежественного крестьянства, служащего игрушкой в руках всякой агитации и пропаганды, как бы нелепа она ни была, выступит на арену политической деятельности новая сила, та самая, которая точно так же, как и на Западе, будет и у нас надежным оплотом государственного спокойствия и мира, основанном на равном для всех правовом порядке. К достижению этой цели нужно стремиться как можно скорее.
Насколько нам известно против высказанных соображений не выставляется ни одного более или менее принципиального аргумента, но за то раскрепощение сельской общины, как средство разрешения аграрного вопроса, осуждается с точки зрения практических последствий. Наши противники рассуждают таким образом: «Уничтожение сельской общины, распределение принадлежащей ей земли между её членами в полную, личную и наследственную собственность с правом приобретения и отчуждения её создало бы очень скоро, с одной стороны, немногочисленное зажиточное, а потому и спокойное, крестьянство, с другой, – многочисленный безземельный пролетариат, принужденный личным трудом снискивать себе пропитание». На Западе этот пролетариат поглощается фабриками и городами. Вследствие гораздо меньшего процентного отношения у нас между фабричным и городским населением, с одной стороны, и сельским, с другой, значительная часть этого пролетариата останется неиспользованной, а поэтому он может создать еще большую, нежели нынешнее крестьянство, опасность для государственного мира. Прежде всего надо раз навсегда установить то положение, что как в индивидуальной, так и социальной человеческой жизни не существует такого момента, когда бы при переходе от одного состояния к другому единичная личность, общественный класс или целый народ отбрасывал от себя одни недостатки и приобретал одни только преимущества. Решающим моментом такого перехода, если он не есть результат биологического закона, является лишь уверенность не в том, что новый порядок свободен от всяких недостатков, а в том, что он более приспособлен к требованиям жизни, нежели прежний. Точно также обстоит дело и в занимаемом нас вопросе. – Сторонники сохранения крестьянской общины предостерегают, что с упразднением её большинство сельского населения лишится земли. Это положение ровно ничем не доказывается, и – странное дело! – те же самые исследователи крестьянского быта, которые с убеждением утверждают, что русскому крестьянству земля так же нужна, как свет и воздух, без малейшего колебания допускают не только возможность, но и большую вероятность, что большинство крестьян тотчас же убежит от земли, как только государство перестанет их на ней насильно удерживать. Что-нибудь одно – или крестьяне могут более производительно использовать свой труд, отказавшись от земли, и тогда уже нечего говорить о их земельном голоде, или, если земля им нужна, как воздух и свет, без которых невозможна человеческая жизнь, то они и будут держаться за землю с той самой цепкостью и энергией, с которой человек отстаивает свою жизнь. Настаивать одновременно на обоих положениях есть верх нелогичности. Мы полагаем, что второе положение более верно, что и при новом порядке землеустройства большинство крестьян останется на земле, а меньшинству придется с ней расстаться. Ранее всех уйдут с земли все те, которые фактически и теперь ею не владеют, которые, если не по формально-юридическим актам, но по частному соглашению, давно уже передали свои наделы более трудолюбивым и хозяйственным односельчанам. Конечно, таких неудачников наберется не мало. Можно ожидать, что с упразднением общины этот процесс дифференцирования пойдет быстрее, и что в абсолютных числах безземельный пролетариат через некоторое время представит из себя величину довольно внушительного размера. Поэтому вопрос: что с ним делать? – останется вопросом государственной важности.
Где найти производительное приложение труда для такой массы свободных рук? Прежде всего в самой деревне. Новая форма крестьянского землевладения непременно создаст хуторское хозяйство, которое потребует работников – батраков. Введение земледельческих машин и орудий в крестьянское хозяйство в гораздо большем размере, нежели в настоящее время, вызовет потребность в профессиональных мастерах. Самый домашний быт русской деревни значительно изменится, и с увеличением её благосостояния и образования появятся новые потребности. Удовлетворять им будет призван целый ряд ремесленников, кузнецов, слесарей, шорников, столяров, и т. п., без которых современное село по своей бедности и отсутствию потребностей может свободно обойтись.
С прекращением революционной смуты, – а, ведь, она должна же когда-нибудь прекратиться, – надо надеяться, что фабрично-заводская промышленность получит сильный рост, и если не достигнет того размера, который желали бы дать ей наши марксисты, то все же потребует более значительного числа рабочих рук, нежели теперь. Освободившееся от земли сельское население найдет там заработок и приложение своего труда. Ведь уже и в настоящее время во многих северных губерниях часть населения уходит на фабрики. Со временем это движение с развитием фабричного производства может распространиться и на центральную черноземную полосу.
Весьма значительным местом заработка для безземельного населения империи в очень недалеком будущем должны явиться города. Если верно, что процентное отношение городского населения к сельскому у нас несравненно ниже, нежели на Западе, то не менее верно и то, что нигде на Западе оно не изменяется так быстро в пользу города, как в России.
Наконец, значительная часть безземельного пролетариата будет поглощена частновладельческим хозяйством, которое тогда принуждено будет радикально изменить нынешнюю свою организацию. От практикуемого ныне в широких размерах способа обработки полей и уборки хлебов отрядно, т. е. крестьянским инвентарем и скотом – с уплатою за десятину, землевладельцам придется перейти на, так называемую, батрачную систему, значительно увеличить собственный инвентарь живой и мертвый и держать артель постоянных рабочих.
Трубно решить, будет ли поглощен вышеуказанными способами весь контингент населения, покинувшего свои надельные участки земли, как скоро они сделаются предметом свободной купли и продажи, или останется известная часть населения, которая не сумеет найти себе заработка. Если мы и допустим последний случай, как вероятный, то все же часть эта будет далеко не так значительна, как это могло б представляться на первый взгляд. Этот не нашедший работу у себя дома пролетариат явится в руках правительственной власти весьма ценным и удобным материалом для колонизации окраин, тем более удобным, что для него именно, вследствие его бездомности, переселение не будет сопряжено ни с экономической, ни с нравственной ломкой.
IV
Мы уже сказали, что раскрепощение сельской общины и переход к личному землевладению с полным правом собственности на землю неизбежно вызовет радикальный переворот в частновладельческом хозяйстве. С переходом от отрядного на батрачное хозяйство повысится заработная плата этих батраков, ибо новые крестьяне – собственники явятся сильными конкурентами землевладельцев других сословий. Крестьянин может всегда дороже заплатить своему работнику, ибо, работая с ним вместе, он несравненно лучше использует его рабочую силу, нежели более крупный предприниматель, который не берет сам лопаты в руки. Кроме расходов, вызванных увеличением заработной платы, землевладельцам придется затрачивать деньги на приобретение и ремонт инвентаря как живого, так и мертвого, на постройку и содержание жилищ для рабочих и на многое другое, без чего современное хозяйство может обойтись. В расчете на каждую десятину земли эта затрата выразится в весьма почтенной цифре. Хозяйства, не имеющие вовсе своего инвентаря, что всего чаще в настоящее время встречается в имениях, принадлежащих купеческому сословию, станут тогда совершенно невозможными. Общий основной и оборотный капитал, вложенный в сельскохозяйственное дело, должен будет значительно увеличиться. Между тем нет никакого основания ожидать в ближайшем будущем стойкого повышения цен на продукты сельского хозяйства, главный из которых составляет зерновой хлеб. Напротив того, вследствие германского торгового договора надо предвидеть падение хлебных цен. Вследствие сего будущему сельскому хозяйству придется искать возмещения новых расходов в увеличении производительности земли, в достижении более обильных урожаев и лучшего качества сельско-хозяйственных продуктов. Для этого оно должно будет перейти от архаического трехполья к более сложному многопольному севообороту, от простого «унаваживания» полей, как это у нас производится с грехом пополам, к фосфорным и другим химическим удобрениям. Одним словом, сельско-хозяйственное дело сильно осложнится. Во всех случаях, а таких будет не мало, когда косность, отсутствие знания и энергии, неумение взяться за дело, а главным образом отсутствие капитала помешают благополучно совершить этот переход от старого экстенсивного к новому интенсивному хозяйству, единственным спасением от разорения явится распродажа имения, а тем паче крупного, на более мелкие хозяйственные единицы. Без всякого принуждения, без установления какого-либо максимума землевладения, что, какими бы софизмами не старались доказать противное, резко нарушает только-что провозглашенный у нас принцип свободы личности, цель будет достигнута. Нынешние слабо эксплуатируемые латифундии исчезнут, и земельная собственность распределится сама собою соответственно новым условиям, в которые она будет поставлена. Само собою разумеется, дробление это, предоставленное естественной экономической эволюции, никогда не может дойти до тех пределов трудовой или продовольственной нормы, как это желали сделать насильственным путем трудовики и другие, крайние, левые группы бывшей Государственной Думы, не останавливаясь перед тем, что тогда пришлось бы закрыть все земледельческие школы изничтожить всю сельско-хозяйственную промышленность, совершенно ненужные при том исключительно крестьянском характере, который тогда бы приняла вся земледельческая Россия. Дробление не может пойти далее того минимума, при котором доход имения выносит затраты на оплату специально образованной администрации, строгой отчетности, на приобретение усовершенствованных машин и орудий и на все вообще расходы, вызываемые интенсивным хозяйством. Как велик будет тогда максимум частновладельческих имений сказать невозможно. Несомненно одно: и тогда, как и теперь, будут и мелкие, и средние, и даже крупные имения в зависимости от степени умения, энергии и знаний владельца, а также от размера свободных средств, которые он в состоянии вложить в сельско-хозяйственное предприятие. Но эксплуатация этих владений будет совершенно иная, более соответственная рациональной науке и более выгодная для государства. Русское сельское хозяйство достигнет тогда небывалой в его истории высоты, и не только не придется закрывать сельско-хозяйственные училища, но явится настоятельная потребность в несколько раз увеличить их число, чтобы удовлетворить требованию на специально образованных управляющих, бухгалтеров и техников по разнообразным видам сельско-хозяйственной промышленности. К таковой цели должна стремиться здравая, не затуманенная классовыми интересами и классовой враждой, государственная политика.
Раскрепощение общины, которое как мы видели, будет иметь прямым последствием коренную реформу сельского хозяйства, открывает для государственной власти еще и новое обширное и плодотворное поприще деятельности. Весьма часто и на столбцах периодической печати, и в резолюциях партийных собраний, и в программах политических партий приходится встречаться с требованием немедленного государственного вмешательства в сферу сельско-хозяйственного труда на подобие тому, как оно установлено для труда фабрично-заводского. Это требование заявлено и партией «Мирного Обновления», в её аграрной программе (ст. 61). Тому, кто хотя немного знаком с условиями современного русского сельского хозяйства, совершенно излишне доказывать, насколько детски-наивно такое требование в настоящее время. Когда крестьяне целыми семействами с грудными ребятами, на своих телегах и лошадях, со своими харчами выезжают к землевладельцу иногда за десятки верст на уборку хлеба, и целые недели в собственными руками устроенных шалашах, а то так и просто под опрокинутыми телегами терпят солнечный припек, холод и дождь, то спрашивается: каким образом государственная власть может применить тут свою контролирующую деятельность, и кого привлечь к ответственности, если бы оказалось, что помещение или пища недостаточно удовлетворяли требованию научной гигиены? Но положение резко меняется при батрачном хозяйстве. Тогда над условиями труда и жизни сельско-хозяйственных рабочих, помещенных в принадлежащих землевладельцу жилищах и работающих его инвентарем, может быть установлена инспекция, подобная той, какая существует на заводах и фабриках. В принципе такую меру можно только приветствовать. Но, разумеется, эта новая отрасль законодательства и контроля должна быть тщательно разработана при участии лиц, хорошо знакомых с особенностями сельско-хозяйственного труда вообще, а русского в частности. От них мы не должны услышать требования восьмичасового рабочего дня для полевых работ независимо от погоды и времени года.
Иногда высказывается опасение, что вновь образованный класс безземельных батраков представит из себя очаг политического или социального брожения и опасность для государственного спокойствия. В сущности это можно сказать о всяком классе. Все дело заключается в том, в какие условия жизни он будет поставлен, и в чем будет заключаться его интерес: в сохранении-ли существующего государственного и общественного порядка или в его ниспровержении. От этого зависит, будет ли тот или иной общественный класс строго консервативным или отчаянно-революционным. Задача государства-совокупными условиями правительства и народных представителей создать именно такие условия жизни сельско-хозяйственных рабочих, при которых они бы чувствовали себя довольными и материально обеспеченными. Тогда в их прямом интересе будет стремиться, чтобы та земледельческая культура, которая дает им средства к жизни упрочивалась и развивалась. Что этого возможно достичь доказывает пример батраков в северо-западном крае, которые живут гораздо лучше, нежели многие из наших крестьян, а потому и представляют там элемент не отрицательный, но положительный, в смысле государственного спокойствия. Происходящие там беспорядки совершаются не на экономической, а на национальной почве.