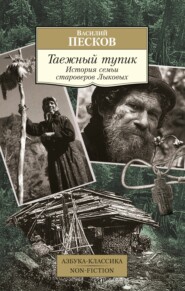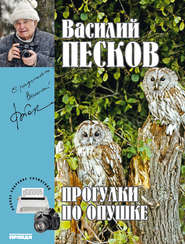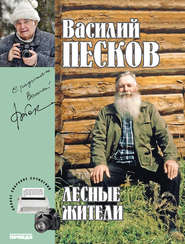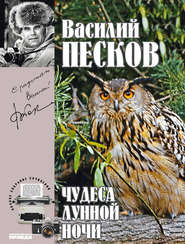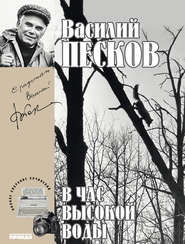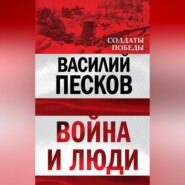По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Полное собрание сочинений. Том 18. Посиделки на закате
Жанр
Год написания книги
2014
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
И вот опять долго-долго бежит по озеру самолет…
Видно над туманом голову Августина, и ничего больше. Полетав минут двадцать над молоком, прикрывающим горы, Бил виновато разводит руками.
Мы вернулись на озеро, и я был готов уронить в его воды слезу невезенья. Ждать погоды мы уже не могли – жесткое расписание путешествия, договоренность с людьми заставляют проститься с мечтой увидеть медвежий пир на реке. С трудом добытое разрешение и пару катушек пленки отдал я плотнику из Чикаго.
– Может быть, снимешь и для меня. И жду рассказа в письме…
Чикагский плотник оказался обязательным человеком – обещанное прислал. Кроме того, о медведях я расспросил наблюдавших за ними зоологов, просмотрел несколько фильмов… Вот что бывает в июле – августе на аляскинской речке Макнейл…
Тут идеальное место для ловли рыбы – река широко разливается по порогам, образует мели и острова. Лососи, главным образом горбуша и нерка, идут плотными косяками. Только уж очень большой растяпа-медведь не может поймать тут рыбы. Но и ему что-нибудь достается с большого стола таежного ресторана. На рыбалку медведи идут с территории радиусом в сто с лишним миль. Обилие пищи гасит конфликты зверей, ведущих в природе уединенную жизнь, ревниво стерегущих границы своих территорий. Пик численности рыболовов приходится на последнюю неделю июля и на первую августа. Сорок медведей в поле зрения наблюдающих – обычное дело, пятьдесят – считается много, восемьдесят – рекорд. Восемьдесят зверей! Нигде, ни в каком другом месте большой земли такую картину увидеть нельзя. Река Макнейл объявлена заповедником. Медведей тут наблюдают, снимают и изучают.
Каково отношение небезопасных зверей к присутствию в их охотничьем мире людей? Фотографов медведи как бы не замечают, могут лечь отдохнуть в метре от площадки, где люди стоят. Никакой агрессивности. Некоторая опасность исходит от зверей молодых, не имеющих опыта. Как реагировать на их поведение, знает гид, без которого на площадке люди не появляются. И вообще существуют строгие правила поведения тут человека.
Самолет садится в двух километрах от места рыбалки. Там можно поставить палатку. Но не разрешается оставлять в ней продукты. Пищу готовят в специальной избушке – запах не должен зверей привлекать. По тем же причинам весь мусор сжигают. Если какой-нибудь любопытный медведь (очень редко!) к лагерю приближается, его прогоняют зарядом дроби.
Из лагеря на площадку уходят утром, возвращаются вечером. С площадки – никто ни шагу. На Аляске при столкновении с медведями бывают две-три человеческие жертвы в год. Тут, на реке, ничего подобного не случилось ни разу, хотя летящих сюда предупреждают: «Риск существует».
Поведение медведей… В первую очередь все бывавшие тут отмечают: что ни медведь – то характер. Есть боязливые, есть равнодушно спокойные, есть задиралы. Рыболовы все – прирожденные, однако инстинкты дополняются опытом. Без учебы ничего не получится. Малыши-медвежата внимательно наблюдают за взрослыми и пробуют сами, но в первый год им мало что удается, получают то, что добывает мамаша. Драки малышей из-за рыбы – обычное дело.
Взрослые ссорятся из-за места. Уловистый островок всегда достанется сильному. И поскольку тут все друг друга хорошо знают, богу тут достается богово, а кесарю – кесарево. Трепка задается неумехе или ленивцу, норовящему поживиться чужой добычей.
Стиль ловли у каждого зверя свой. Одни караулят лососей там, где они выпрыгивают из потока, и хватают их пастью, другие на мелководье бьют лапой, третьи бросаются в воду и выныривают с рыбой в зубах. Отмечен один новатор – приспособился плавать, подобно аквалангисту, погрузив голову в воду.
Голодный, выхватив рыбу, съест всю. Сытый ест только голову и икру. Пресыщенный занимается спортом: поймает и бросит. Подарки «спортсменов» достаются тут чайкам, лисам, белоголовым орланам. Чайки, впрочем, не дожидаются щедрости, а норовят трапезничать вместе с добытчиком. Медведи отмахиваются от них, как от мух. Основные звуки рыбалки – шум воды на порогах и крик чаек.
Сцена, на которой разыгрывается этот спектакль, обширная. Но все действующие лица – на глазах наблюдателя. К фотографу в кадр попадает до двадцати зверей. Но это в лучшие сроки. Наш друг из Чикаго, прождав после нас подходящей погоды еще три дня, попал к финалу медвежьего пира – рыба шла уже слабо, и стали поспевать в лесах ягоды. Джон пишет, что застал он семнадцать медведей, а в кадр попадало максимум пять.
Зоологи, наблюдающие медведей каждое лето, многих знают «в лицо», знают характер каждого, знают, кто из каких мест пришел на рыбалку. Есть знаменитости с кличками: Белая Лапа, Заплатка, Стерлинг…
Медведи тоже, как видно, запоминают людей. И это ослабляет их бдительность. Территорию, по которой они разбредаются после рыбалки, посещают охотники. И если какой-то заметный медведь не явился на пир к реке, то очень возможно, что шкура его украшает жилище охотника в Нью-Йорке, Франкфурте или в Париже.
На Аляске обитает примерно (трудно их сосчитать!) сорок тысяч черных и бурых медведей. Самые крупные живут на острове Кадьяк, а наибольшая плотность медведей – в районе города Ситка: один медведь на квадратную милю. Но нигде эти звери не собираются так кучно, как во время летнего пира на речке Макнейл.
• Фото из архива В. Пескова. 1 марта 1991 г.
Как продавали Аляску
Был солнечный день в августе. Мы ехали по дороге национального парка Денали. Слово «парк» тут надо понимать не в привычном для нас значении. На обширной территории, украшенной высочайшей горной вершиной Денали, – ничего окультуренного. Парк (заповедник) учрежден в самом центре Аляски для охраны дикой, не тронутой человеком природы. Было тепло и тихо. Мы не спешили. А повод остановиться находился все время – на открытом пространстве можно было увидеть медведя, лося, оленей. В одном месте четыре рослых самца карибу паслись почти рядом с дорогой. Я влез на бампер автомобиля – снять живописные темные силуэты на желто-малиновом одеянии тундры. Рядом притормозила еще машина. Двое американцев, скорее всего путешествующие молодожены, скинув обувку, вскочили на крышу своего вездехода и тоже принялись щелкать… Уловив незнакомую речь, американцы спросили:
– Вы откуда?
Акт продажи Аляски. Фрагмент картины американского художника.
Я сказал. И тут началось нечто невообразимое. Молодожены спрыгнули на дорогу и стали трясти нам руки.
– Большое, большое спасибо, что продали нам Аляску!!! Сенк ю вери мач!
Благодарность была искренней. И такой бурной, как будто купля-продажа совершилась позавчера и я, прилетевший сюда из Москвы, был к этому как-то причастен.
Олени потихоньку ушли за гору. Американцы уехали. А мы еще постояли, любуясь сверкавшей вершиной Денали и теплыми красками осени… Да, когда-то, не так уж давно, это все называлось Русской Америкой.
Об Аляске с года ее продажи в России старались не вспоминать. И до сих пор многим не ясно: продали – как, почему? Глупость, недальновидность, чьи-то темные происки? Многие даже не знают время продажи. Раз пять я слышал такие слова:
– Ну что за дура была эта баба, Екатерина II!
Почему-то Екатерине приписывают продажу Аляски. Между тем все совершалось не так уж давно – при царе Александре II, когда было уже отменено крепостное право, когда Львом Толстым были уже написаны «Севастопольские рассказы», когда парусные суда стремительно вытеснялись «железными кораблями» с паровыми машинами, когда из Петербурга в Вашингтон уже можно было послать телеграмму. В переговорах о продаже Аляски телеграф был задействован. Правда, штука эта была еще дорога. За одну только депешу о подробностях сделки русский посланник Эдуард Стекль заплатил десять тысяч долларов золотом.
Из-за того, что царей у нас принято было только ругать, представлять недалекими и безграмотными, в публикациях, приуроченных к столетию сделки (Аляска продана в 1867 году), уступка Америке представлена как совершенное втайне головотяпство с намеком на закулисные силы – «не обошлось и без взяток». И это вполне убеждало: э, вон какой кусок упустили, с какими богатствами!
Мне интересно все же было узнать: а что по тому же поводу написано в «стране-покупателе»? С переводчиком мы перелопатили много статей и несколько книг. Было ясно: царь Александр и несколько важных персон, втайне готовивших сделку, круглыми дураками не выглядят. Я уже вывел на чистом листе заголовок этого очерка, когда узнал: только что вышла книга Николая Николаевича Болховитинова о русско-американских отношениях в прошлом веке и о продаже Аляски. Не без труда я книгу добыл. С огромным интересом ее прочел. Предвижу высокую оценку обстоятельного труда историками. Я же, рядовой читатель, закрываю книгу с благодарностью автору за непредвзятый взгляд на прошедшее и маленькой радостью – результаты скромных моих «изысканий» не разошлись с серьезным научным исследованием.
Итак, почему же продали? Прочтем сначала фрагмент письма, в котором содержится главная суть причины: «…Мне пришла мысль, что нам следовало бы воспользоваться избытком в настоящее время денег в казне Соединенных Северо-Американских Штатов и продать им наши Северо-Американские колонии. Продажа эта была бы весьма своевременна, ибо не следует себя обманывать и надобно предвидеть, что Соединенные Штаты, стремясь постоянно к округлению своих владений и желая господствовать нераздельно в Северной Америке, возьмут у нас помянутые колонии, и мы не будем в состоянии воротить их. Между тем эти колонии приносят нам весьма мало пользы и потеря их не была бы слишком чувствительна…»
Письмо, адресованное министру иностранных дел России А. Горчакову и подписанное «Константин», датировано мартом – апрелем 1857 года, то есть речь о продаже Аляски идет за десять лет до случившегося и говорит о том, что дело решалось не скоропалительно.
Кто такой «Константин»? Это младший брат царя Александра II Константин Николаевич Романов, глава морского штаба России. «Генерал-адмирал-либерал». Так с прибавкой к двум первым официальным словам еще одного можно его называть, имея в виду положение и образ мыслей Великого князя.
Впервые ли Константином высказана мысль о продаже Аляски? Первый раз Аляску американцам попытались продавать фиктивно, задним числом, из-за боязни, что в начавшейся Крымской войне англичане, обладавшие мощным флотом, отторгнут далекую, незащищенную колонию. Фиктивная продажа не состоялась. Очевидна была ее юридическая уязвимость. Изменились и обстоятельства в поведении Англии. Но идеей продажи Аляски, уже не фиктивной, а настоящей, в Вашингтоне заинтересовались. «Не готова ли Россия продать свои американские территории? Страна ведь нуждается в средствах» – примерно так спросили петербургского посланника в Вашингтоне. Тот ответил, что это невозможно, но разговор не забыл и, конечно, рассказал о нем на Неве, изложив и свою точку зрения на проблему. В Петербурге информацию приняли к размышлению, и при сем, естественно, обнаружилось: сосед у Русской Америки очень опасный.
Соединенные Штаты энергично, как выразился Великий князь, «округляли» свою территорию. Наполеону, когда он увяз в европейских военных делах, предложили продать Луизиану. «Маленький генерал» вполне понял смысл предложения – «не продашь – возьмут даром» – и согласился, получив за огромную территорию (двенадцать нынешних центральных штатов) пятнадцать миллионов долларов. Таким же образом Мексика была вынуждена уступить сильному и настойчивому покупателю за пятнадцать миллионов долларов Калифорнию. Купля состоялась после того, как у Мексики силой был отнят Техас.
Слово «округление» – мягкое. Эквивалент ему – слово «экспансия». Интересно, что слово это в середине прошлого века было в большом ходу у государственных деятелей США. В стране царило опьянение непрерывным успешным расширением территории. «Америка – для американцев!» – таков был смысл провозглашенной доктрины Монро. В публикациях и речах содержались мысли о «предопределении судьбы» владеть всем континентом в северной части Америки. Вот образец таких выступлений. «Стоя здесь (в Миннесоте) и обращая взор к северо-западу, я вижу русского, который озабочен строительством гаваней, поселений и укреплений на оконечности этого континента как аванпостов С.-Петербурга, и я могу сказать: «Продолжай и строй свои аванпосты вдоль всего побережья, вплоть даже до Ледовитого океана – они тем не менее станут аванпостами моей собственной страны – монументами цивилизации Соединенных Штатов на северо-западе». Сказал это Уильям Сьюард. Запомним имя. Человек этот станет главным действующим лицом в купле-продаже Аляски.
Стратегически мысливший Великий князь Константин хорошо понимал, что дальнейшее «округление» неизбежно коснется русской колонии, и настаивал: надо продать, иначе отнимут. Его консервативный брат царь Александр тоже все понимал, но колебался – расставаться с территорией, открытой русскими и почитавшейся «царевой гордостью», было непросто.
Отношения России и Штатов в это время были враждебны? Ни в коем случае! Подчеркнуто дружескими, временами даже сердечными. Во время Крымской войны Соединенные Штаты открыто заявили о своих дружеских отношениях с Россией. Они активизировали торговлю, поставляя оружие и снаряжение воюющей армии. Готовы были послать добровольцев и сообщали о продвижении кораблей неприятелей. Россия эту поддержку не позабыла. Во время войны Севера с Югом, когда решалась судьба неделимости Штатов, Россия была единственной крупной державой, заинтересованной в целостности страны. Борьба с рабством в Америке и крепостничеством в России сблизила общественность двух держав. Визиты русских кораблей в США и американских в С.-Петербург сопровождались ликованьем людей.
Наивысший подъем дружеских отношений приходится на 1866 год, когда американским морякам были оказаны высшие почести на Неве и когда они посетили затем Москву, Нижний Новгород, Кострому, Тверь. Общественные деятели всех слоев общества «от Каткова до Герцена» приветствовали дружеское единение России и Соединенных Штатов. Газеты были полны прочувствованных статей о естественности «далекой близости». «Из всех стран на земле наиболее популярными в России остаются Соединенные Штаты. Между русскими и американцами никогда не было ни антипатии, ни серьезного столкновения интересов, и только от России США неизменно слышали слова симпатии и дружбы». Это краткое изложение одной из статей в московских газетах хорошо характеризует атмосферу отношений в то время двух великих держав.
Никакой видимой угрозы Аляске не было. Но оставалась угроза потенциальная. И все, кто это хорошо понимал, приходят наконец к согласию: «надо продать». Побеждает точка зрения Константина: продать «заблаговременно и дружелюбно», иначе вопрос разрешится завоеванием. Посвященные в эту проблему тщательно взвешивали все факторы, толкавшие к нелегкому решению.
Что же учитывалось? Первое – состояние колонии. За 125 лет с года открытия Америки с запада огромная территория была практически не освоена. Очень редкие населенные пункты, фактории и зверобойные базы располагались только по побережью и в нескольких точках по течению Юкона. Проникновение внутрь континента, во избежание стычек с индейцами, колонистам было запрещено. Общая численность русского населения здесь колебалась от шестисот до восьмисот человек. Экономическое положение территории было непрочным и ухудшалось. Сливки доступных в то время богатств были тут уже сняты. Пушной промысел продолжал оставаться экономической базой колонии, но каланы с их драгоценным мехом были почти полностью перебиты. Число котиков, правда, исчислялось еще миллионами, но их шкуры в то время высоко не ценились, а норок, лис и бобров надо было скупать у индейцев, промышлявших на суше. Чтобы как-то устоять на ногах, акционерная компания, монопольно выполнявшая роль «эконома», администратора и стража Русской Америки, была вынуждена продавать уголь, рыбу и аляскинский лед (покупателем был Сан-Франциско, холодильников тогда еще не было). Концы с концами у компании перестали сходиться. На содержание территории нужны были государственные дотации. Последствия Крымской войны, истощившей Россию морально и материально, заставили царя и его дипломатов изменить курс внешней политики. Решено было «сосредоточиться» и отказаться от «округлений» (Россия практиковала их с неменьшей энергией, чем США). Больше того, обстоятельства заставляли сделать «округление» со знаком минус – пожертвовать на Тихом океане Аляской и сосредоточить усилия на освоении Приамурья. Для этой предпочтительной «континентальной цели» нужны были средства. И продажа Аляски обещала как-то пополнить казну.
Но главной причиной продажи была уязвимость колонии. Покоренные алеуты сотрудничали с русскими поселенцами, перенимая их образ жизни. Племена же индейцев покоренными не были. Они «потеснились» на своих землях, но не признали чужого господства и жили с русскими в состоянии холодной войны. Английские и американские торговцы, проникая сюда, снабжали индейцев оружием и подстрекали к мятежным действиям. Сама столица Аляски Новоархангельск могла стать «жертвой ножа и пожара». В удаленной от побережья части Аляски, на Верхнем Юконе, проникнув со стороны Канады, англичане в 1847 году учредили факторию. И русские с этим вторжением были вынуждены мириться. Прибрежные воды Аляски кишели китобойными кораблями разных держав. И с ними колония тоже не могла справиться. Международное право признало ее собственностью лишь полоску воды «на расстоянии пушечного выстрела от берега». И китобои вели себя, как бандиты, лишая аляскинских эскимосов главного средства к существованию. Жалобы в дружественный Вашингтон – «уймите своих флибустьеров!» – цели не достигали. Переписка двигалась долго, и ответы не обнадеживали: «Мы не можем ничего с ними сделать. Ищите средства их отогнать». О золоте, открытом к этому времени на Аляске, памятуя о «калифорнийской горячке», русские благоразумно помалкивали, знали: никакая сила не способна сдержать лихорадку золотоискательства.
И, наконец, перед всеми, кто «присмотрелся» к проблеме, поставлен был главный вопрос: способна Россия в случае войны защитить Аляску? На это сторонники и противники попятного «округления» единодушно ответили нет. И тогда царь будто бы сказал: «Ну и окончен спор. Продаем. Торговаться Россия не будет, пусть сами назначат хорошую цену».
Вопрос был решенным. В присутствии пяти человек «особого заседания» 28 декабря 1866 года царь подписал документ о продаже Аляски. Все делалось втайне по причинам вполне понятным. Сама уступка Аляски была для России делом отнюдь не почетным. И был еще деликатный момент: Соединенные Штаты, еще не пришедшие в себя от Гражданской войны, в данный момент о подобной покупке не помышляли. Посланник Эдуард Стекль, прибывший в Вашингтон, должен был, предложив сделку, повернуть дело так, чтобы инициатива покупки исходила от Соединенных Штатов. Задача посланника упрощалась тем, что государственным секретарем в это время был Уильям Сьюард, философия которого о «предопределении судьбы» изменений не претерпела. Сообщение Стекля о предложении Петербурга было для него великой радостью. Работа немедленно закипела. Было испрошено мнение президента и всех, кто мог быть к делу причастен. Утрясли цену. И Стекль послал в Петербург ту самую, стоившую десять тысяч долларов, телеграмму. Смысл ее состоял в том, что США предлагают России продать Аляску на таких-то условиях. Ответ Петербурга был лаконичным: согласны.
Стекль рассказывает, что с телеграммой в кармане он пришел к государственному секретарю домой. Доложив новость, посланник сказал, что завтра можно будет подписать договор. «Зачем ждать до завтра, мистер Стекль? Давайте заключим договор сегодня вечером», – вскочил горевший нетерпением Сьюард. Было уже поздно, но по городу Сьюард послал курьеров – собрать работников госдепартамента. Работали ночью. К 4 часам утра 30 марта 1867 года договор был переписан красивым почерком, подписан, скреплен печатями. По американским законам его теперь должны были утвердить сенат и конгресс. Объявили за покупку и плату – 7 миллионов 200 тысяч долларов. Это было больше, чем ожидал Петербург, снабдивший Стекля инструкцией: «5 миллионов, не меньше». Но, конечно, это была ничтожная плата за громадное приобретение. И пусть доллары того времени были в несколько раз тяжелее нынешних денег, все равно мы можем сказать: Аляска продана за бесценок. Только одного золота в ней добыто уже на сумму в две с половиной тысячи раз большую той, что была уплачена при покупке. В аляскинских газетах я прочел сообщение: за один только час в 1988 году у берегов полуострова было поймано рыбы на сумму, превышающую плату при покупке Аляски. Конечно, продажа с позиций нынешних выглядит неким абсурдом. Но все происходившее в прошлом мы обязаны рассматривать в контексте существовавших ценностей и обстоятельств. И приговор: головотяпство, совершенно вопреки здравому смыслу, нельзя считать справедливым.
Между прочим, у Стекля и Сьюарда были трудности с оформлением покупки. Брюзжали в сенате: «платим деньги за ящик со льдом», «глупость Сьюарда», а в конгрессе и вовсе дело застопорилось. Пришлось давать взятки. Но не Сьюард давал, а Стекль, опасавшийся срыва сделки. Давал редакторам за поддержку в газетах, политиканам за речи в конгрессе. Больше ста тысяч долларов было списано Петербургом по тайной статье расходов «на дела, известные императору». Двадцать пять тысяч было пожаловано посланнику за труды. Царя Стекль поблагодарил, друзьям жаловался: мало. А что касается «подарка» истории, то дела обстоят так. Именем Сьюарда на Аляске названы полуостров и город. След же Стекля после службы царю затерялся… Так уж сложилось, Аляска не могла быть не продана. Но в продаже доблести не было. Героем был покупатель.
Как реагировал мир? Штаты были довольны, но оценить по достоинству громадный «довесок» к своей территории еще не могли, потенциальное богатство края заслонял образ «ящика со льдом». Недруги России злорадствовали – продажа Аляски была признанием слабости. У англичан к этому чувству прибавлялась озабоченность с огорчением – ее владения в Америке попадали в тиски между новой северной территорией и «нижними» штатами США. В русских столицах общественность глухо роптала – «не амбар продан!» Но широкой огласки «непочетное дело» не получило. И, наверное, тогда же появилась легенда: Аляска продана, но не навечно, а только на 99 лет. Правительство эту легенду, выгодную для успокоения умов, не отвергало, и дожила эта вера до наших дней.
На Аляску весть о продаже ее дошла лишь в мае 1867 года. Для обитателей Русской Америки новость была и горькой, и неожиданной. Губернатор колонии Дмитрий Петрович Максутов «пришел в бешенство». Как личное горе приняли эту весть все, чья жизнь была связана с освоением территории. Сто двадцать шесть лет прошло с года открытия этой части Америки. Карта громадного края пестрела именами русских землепроходцев, моряков и правителей. И теперь вдруг все становилось чужим.
Легко представить, каким тут было «эвакуационное лето». Спешно и за бесценок губернатор продал новым владельцам Аляски несколько небольших кораблей, лодки, недвижимость, меха, табак, продовольствие. Официальная передача колонии в новые руки состоялась 18 октября 1867 года. Площадь под «замком» губернатора в Новоархангельске была заполнена прибывшими с разных мест колонистами, русскими и американскими солдатами. Были тут речи, стрельба из пушек, с высокой мачты спустили российский и подняли американский флаг. «Перегоревший» к этому времени губернатор Максутов «наблюдал церемонию с отстраненным спокойствием, его молодая жена княгиня Мария Максутова смахивала платком слезы».
Видно над туманом голову Августина, и ничего больше. Полетав минут двадцать над молоком, прикрывающим горы, Бил виновато разводит руками.
Мы вернулись на озеро, и я был готов уронить в его воды слезу невезенья. Ждать погоды мы уже не могли – жесткое расписание путешествия, договоренность с людьми заставляют проститься с мечтой увидеть медвежий пир на реке. С трудом добытое разрешение и пару катушек пленки отдал я плотнику из Чикаго.
– Может быть, снимешь и для меня. И жду рассказа в письме…
Чикагский плотник оказался обязательным человеком – обещанное прислал. Кроме того, о медведях я расспросил наблюдавших за ними зоологов, просмотрел несколько фильмов… Вот что бывает в июле – августе на аляскинской речке Макнейл…
Тут идеальное место для ловли рыбы – река широко разливается по порогам, образует мели и острова. Лососи, главным образом горбуша и нерка, идут плотными косяками. Только уж очень большой растяпа-медведь не может поймать тут рыбы. Но и ему что-нибудь достается с большого стола таежного ресторана. На рыбалку медведи идут с территории радиусом в сто с лишним миль. Обилие пищи гасит конфликты зверей, ведущих в природе уединенную жизнь, ревниво стерегущих границы своих территорий. Пик численности рыболовов приходится на последнюю неделю июля и на первую августа. Сорок медведей в поле зрения наблюдающих – обычное дело, пятьдесят – считается много, восемьдесят – рекорд. Восемьдесят зверей! Нигде, ни в каком другом месте большой земли такую картину увидеть нельзя. Река Макнейл объявлена заповедником. Медведей тут наблюдают, снимают и изучают.
Каково отношение небезопасных зверей к присутствию в их охотничьем мире людей? Фотографов медведи как бы не замечают, могут лечь отдохнуть в метре от площадки, где люди стоят. Никакой агрессивности. Некоторая опасность исходит от зверей молодых, не имеющих опыта. Как реагировать на их поведение, знает гид, без которого на площадке люди не появляются. И вообще существуют строгие правила поведения тут человека.
Самолет садится в двух километрах от места рыбалки. Там можно поставить палатку. Но не разрешается оставлять в ней продукты. Пищу готовят в специальной избушке – запах не должен зверей привлекать. По тем же причинам весь мусор сжигают. Если какой-нибудь любопытный медведь (очень редко!) к лагерю приближается, его прогоняют зарядом дроби.
Из лагеря на площадку уходят утром, возвращаются вечером. С площадки – никто ни шагу. На Аляске при столкновении с медведями бывают две-три человеческие жертвы в год. Тут, на реке, ничего подобного не случилось ни разу, хотя летящих сюда предупреждают: «Риск существует».
Поведение медведей… В первую очередь все бывавшие тут отмечают: что ни медведь – то характер. Есть боязливые, есть равнодушно спокойные, есть задиралы. Рыболовы все – прирожденные, однако инстинкты дополняются опытом. Без учебы ничего не получится. Малыши-медвежата внимательно наблюдают за взрослыми и пробуют сами, но в первый год им мало что удается, получают то, что добывает мамаша. Драки малышей из-за рыбы – обычное дело.
Взрослые ссорятся из-за места. Уловистый островок всегда достанется сильному. И поскольку тут все друг друга хорошо знают, богу тут достается богово, а кесарю – кесарево. Трепка задается неумехе или ленивцу, норовящему поживиться чужой добычей.
Стиль ловли у каждого зверя свой. Одни караулят лососей там, где они выпрыгивают из потока, и хватают их пастью, другие на мелководье бьют лапой, третьи бросаются в воду и выныривают с рыбой в зубах. Отмечен один новатор – приспособился плавать, подобно аквалангисту, погрузив голову в воду.
Голодный, выхватив рыбу, съест всю. Сытый ест только голову и икру. Пресыщенный занимается спортом: поймает и бросит. Подарки «спортсменов» достаются тут чайкам, лисам, белоголовым орланам. Чайки, впрочем, не дожидаются щедрости, а норовят трапезничать вместе с добытчиком. Медведи отмахиваются от них, как от мух. Основные звуки рыбалки – шум воды на порогах и крик чаек.
Сцена, на которой разыгрывается этот спектакль, обширная. Но все действующие лица – на глазах наблюдателя. К фотографу в кадр попадает до двадцати зверей. Но это в лучшие сроки. Наш друг из Чикаго, прождав после нас подходящей погоды еще три дня, попал к финалу медвежьего пира – рыба шла уже слабо, и стали поспевать в лесах ягоды. Джон пишет, что застал он семнадцать медведей, а в кадр попадало максимум пять.
Зоологи, наблюдающие медведей каждое лето, многих знают «в лицо», знают характер каждого, знают, кто из каких мест пришел на рыбалку. Есть знаменитости с кличками: Белая Лапа, Заплатка, Стерлинг…
Медведи тоже, как видно, запоминают людей. И это ослабляет их бдительность. Территорию, по которой они разбредаются после рыбалки, посещают охотники. И если какой-то заметный медведь не явился на пир к реке, то очень возможно, что шкура его украшает жилище охотника в Нью-Йорке, Франкфурте или в Париже.
На Аляске обитает примерно (трудно их сосчитать!) сорок тысяч черных и бурых медведей. Самые крупные живут на острове Кадьяк, а наибольшая плотность медведей – в районе города Ситка: один медведь на квадратную милю. Но нигде эти звери не собираются так кучно, как во время летнего пира на речке Макнейл.
• Фото из архива В. Пескова. 1 марта 1991 г.
Как продавали Аляску
Был солнечный день в августе. Мы ехали по дороге национального парка Денали. Слово «парк» тут надо понимать не в привычном для нас значении. На обширной территории, украшенной высочайшей горной вершиной Денали, – ничего окультуренного. Парк (заповедник) учрежден в самом центре Аляски для охраны дикой, не тронутой человеком природы. Было тепло и тихо. Мы не спешили. А повод остановиться находился все время – на открытом пространстве можно было увидеть медведя, лося, оленей. В одном месте четыре рослых самца карибу паслись почти рядом с дорогой. Я влез на бампер автомобиля – снять живописные темные силуэты на желто-малиновом одеянии тундры. Рядом притормозила еще машина. Двое американцев, скорее всего путешествующие молодожены, скинув обувку, вскочили на крышу своего вездехода и тоже принялись щелкать… Уловив незнакомую речь, американцы спросили:
– Вы откуда?
Акт продажи Аляски. Фрагмент картины американского художника.
Я сказал. И тут началось нечто невообразимое. Молодожены спрыгнули на дорогу и стали трясти нам руки.
– Большое, большое спасибо, что продали нам Аляску!!! Сенк ю вери мач!
Благодарность была искренней. И такой бурной, как будто купля-продажа совершилась позавчера и я, прилетевший сюда из Москвы, был к этому как-то причастен.
Олени потихоньку ушли за гору. Американцы уехали. А мы еще постояли, любуясь сверкавшей вершиной Денали и теплыми красками осени… Да, когда-то, не так уж давно, это все называлось Русской Америкой.
Об Аляске с года ее продажи в России старались не вспоминать. И до сих пор многим не ясно: продали – как, почему? Глупость, недальновидность, чьи-то темные происки? Многие даже не знают время продажи. Раз пять я слышал такие слова:
– Ну что за дура была эта баба, Екатерина II!
Почему-то Екатерине приписывают продажу Аляски. Между тем все совершалось не так уж давно – при царе Александре II, когда было уже отменено крепостное право, когда Львом Толстым были уже написаны «Севастопольские рассказы», когда парусные суда стремительно вытеснялись «железными кораблями» с паровыми машинами, когда из Петербурга в Вашингтон уже можно было послать телеграмму. В переговорах о продаже Аляски телеграф был задействован. Правда, штука эта была еще дорога. За одну только депешу о подробностях сделки русский посланник Эдуард Стекль заплатил десять тысяч долларов золотом.
Из-за того, что царей у нас принято было только ругать, представлять недалекими и безграмотными, в публикациях, приуроченных к столетию сделки (Аляска продана в 1867 году), уступка Америке представлена как совершенное втайне головотяпство с намеком на закулисные силы – «не обошлось и без взяток». И это вполне убеждало: э, вон какой кусок упустили, с какими богатствами!
Мне интересно все же было узнать: а что по тому же поводу написано в «стране-покупателе»? С переводчиком мы перелопатили много статей и несколько книг. Было ясно: царь Александр и несколько важных персон, втайне готовивших сделку, круглыми дураками не выглядят. Я уже вывел на чистом листе заголовок этого очерка, когда узнал: только что вышла книга Николая Николаевича Болховитинова о русско-американских отношениях в прошлом веке и о продаже Аляски. Не без труда я книгу добыл. С огромным интересом ее прочел. Предвижу высокую оценку обстоятельного труда историками. Я же, рядовой читатель, закрываю книгу с благодарностью автору за непредвзятый взгляд на прошедшее и маленькой радостью – результаты скромных моих «изысканий» не разошлись с серьезным научным исследованием.
Итак, почему же продали? Прочтем сначала фрагмент письма, в котором содержится главная суть причины: «…Мне пришла мысль, что нам следовало бы воспользоваться избытком в настоящее время денег в казне Соединенных Северо-Американских Штатов и продать им наши Северо-Американские колонии. Продажа эта была бы весьма своевременна, ибо не следует себя обманывать и надобно предвидеть, что Соединенные Штаты, стремясь постоянно к округлению своих владений и желая господствовать нераздельно в Северной Америке, возьмут у нас помянутые колонии, и мы не будем в состоянии воротить их. Между тем эти колонии приносят нам весьма мало пользы и потеря их не была бы слишком чувствительна…»
Письмо, адресованное министру иностранных дел России А. Горчакову и подписанное «Константин», датировано мартом – апрелем 1857 года, то есть речь о продаже Аляски идет за десять лет до случившегося и говорит о том, что дело решалось не скоропалительно.
Кто такой «Константин»? Это младший брат царя Александра II Константин Николаевич Романов, глава морского штаба России. «Генерал-адмирал-либерал». Так с прибавкой к двум первым официальным словам еще одного можно его называть, имея в виду положение и образ мыслей Великого князя.
Впервые ли Константином высказана мысль о продаже Аляски? Первый раз Аляску американцам попытались продавать фиктивно, задним числом, из-за боязни, что в начавшейся Крымской войне англичане, обладавшие мощным флотом, отторгнут далекую, незащищенную колонию. Фиктивная продажа не состоялась. Очевидна была ее юридическая уязвимость. Изменились и обстоятельства в поведении Англии. Но идеей продажи Аляски, уже не фиктивной, а настоящей, в Вашингтоне заинтересовались. «Не готова ли Россия продать свои американские территории? Страна ведь нуждается в средствах» – примерно так спросили петербургского посланника в Вашингтоне. Тот ответил, что это невозможно, но разговор не забыл и, конечно, рассказал о нем на Неве, изложив и свою точку зрения на проблему. В Петербурге информацию приняли к размышлению, и при сем, естественно, обнаружилось: сосед у Русской Америки очень опасный.
Соединенные Штаты энергично, как выразился Великий князь, «округляли» свою территорию. Наполеону, когда он увяз в европейских военных делах, предложили продать Луизиану. «Маленький генерал» вполне понял смысл предложения – «не продашь – возьмут даром» – и согласился, получив за огромную территорию (двенадцать нынешних центральных штатов) пятнадцать миллионов долларов. Таким же образом Мексика была вынуждена уступить сильному и настойчивому покупателю за пятнадцать миллионов долларов Калифорнию. Купля состоялась после того, как у Мексики силой был отнят Техас.
Слово «округление» – мягкое. Эквивалент ему – слово «экспансия». Интересно, что слово это в середине прошлого века было в большом ходу у государственных деятелей США. В стране царило опьянение непрерывным успешным расширением территории. «Америка – для американцев!» – таков был смысл провозглашенной доктрины Монро. В публикациях и речах содержались мысли о «предопределении судьбы» владеть всем континентом в северной части Америки. Вот образец таких выступлений. «Стоя здесь (в Миннесоте) и обращая взор к северо-западу, я вижу русского, который озабочен строительством гаваней, поселений и укреплений на оконечности этого континента как аванпостов С.-Петербурга, и я могу сказать: «Продолжай и строй свои аванпосты вдоль всего побережья, вплоть даже до Ледовитого океана – они тем не менее станут аванпостами моей собственной страны – монументами цивилизации Соединенных Штатов на северо-западе». Сказал это Уильям Сьюард. Запомним имя. Человек этот станет главным действующим лицом в купле-продаже Аляски.
Стратегически мысливший Великий князь Константин хорошо понимал, что дальнейшее «округление» неизбежно коснется русской колонии, и настаивал: надо продать, иначе отнимут. Его консервативный брат царь Александр тоже все понимал, но колебался – расставаться с территорией, открытой русскими и почитавшейся «царевой гордостью», было непросто.
Отношения России и Штатов в это время были враждебны? Ни в коем случае! Подчеркнуто дружескими, временами даже сердечными. Во время Крымской войны Соединенные Штаты открыто заявили о своих дружеских отношениях с Россией. Они активизировали торговлю, поставляя оружие и снаряжение воюющей армии. Готовы были послать добровольцев и сообщали о продвижении кораблей неприятелей. Россия эту поддержку не позабыла. Во время войны Севера с Югом, когда решалась судьба неделимости Штатов, Россия была единственной крупной державой, заинтересованной в целостности страны. Борьба с рабством в Америке и крепостничеством в России сблизила общественность двух держав. Визиты русских кораблей в США и американских в С.-Петербург сопровождались ликованьем людей.
Наивысший подъем дружеских отношений приходится на 1866 год, когда американским морякам были оказаны высшие почести на Неве и когда они посетили затем Москву, Нижний Новгород, Кострому, Тверь. Общественные деятели всех слоев общества «от Каткова до Герцена» приветствовали дружеское единение России и Соединенных Штатов. Газеты были полны прочувствованных статей о естественности «далекой близости». «Из всех стран на земле наиболее популярными в России остаются Соединенные Штаты. Между русскими и американцами никогда не было ни антипатии, ни серьезного столкновения интересов, и только от России США неизменно слышали слова симпатии и дружбы». Это краткое изложение одной из статей в московских газетах хорошо характеризует атмосферу отношений в то время двух великих держав.
Никакой видимой угрозы Аляске не было. Но оставалась угроза потенциальная. И все, кто это хорошо понимал, приходят наконец к согласию: «надо продать». Побеждает точка зрения Константина: продать «заблаговременно и дружелюбно», иначе вопрос разрешится завоеванием. Посвященные в эту проблему тщательно взвешивали все факторы, толкавшие к нелегкому решению.
Что же учитывалось? Первое – состояние колонии. За 125 лет с года открытия Америки с запада огромная территория была практически не освоена. Очень редкие населенные пункты, фактории и зверобойные базы располагались только по побережью и в нескольких точках по течению Юкона. Проникновение внутрь континента, во избежание стычек с индейцами, колонистам было запрещено. Общая численность русского населения здесь колебалась от шестисот до восьмисот человек. Экономическое положение территории было непрочным и ухудшалось. Сливки доступных в то время богатств были тут уже сняты. Пушной промысел продолжал оставаться экономической базой колонии, но каланы с их драгоценным мехом были почти полностью перебиты. Число котиков, правда, исчислялось еще миллионами, но их шкуры в то время высоко не ценились, а норок, лис и бобров надо было скупать у индейцев, промышлявших на суше. Чтобы как-то устоять на ногах, акционерная компания, монопольно выполнявшая роль «эконома», администратора и стража Русской Америки, была вынуждена продавать уголь, рыбу и аляскинский лед (покупателем был Сан-Франциско, холодильников тогда еще не было). Концы с концами у компании перестали сходиться. На содержание территории нужны были государственные дотации. Последствия Крымской войны, истощившей Россию морально и материально, заставили царя и его дипломатов изменить курс внешней политики. Решено было «сосредоточиться» и отказаться от «округлений» (Россия практиковала их с неменьшей энергией, чем США). Больше того, обстоятельства заставляли сделать «округление» со знаком минус – пожертвовать на Тихом океане Аляской и сосредоточить усилия на освоении Приамурья. Для этой предпочтительной «континентальной цели» нужны были средства. И продажа Аляски обещала как-то пополнить казну.
Но главной причиной продажи была уязвимость колонии. Покоренные алеуты сотрудничали с русскими поселенцами, перенимая их образ жизни. Племена же индейцев покоренными не были. Они «потеснились» на своих землях, но не признали чужого господства и жили с русскими в состоянии холодной войны. Английские и американские торговцы, проникая сюда, снабжали индейцев оружием и подстрекали к мятежным действиям. Сама столица Аляски Новоархангельск могла стать «жертвой ножа и пожара». В удаленной от побережья части Аляски, на Верхнем Юконе, проникнув со стороны Канады, англичане в 1847 году учредили факторию. И русские с этим вторжением были вынуждены мириться. Прибрежные воды Аляски кишели китобойными кораблями разных держав. И с ними колония тоже не могла справиться. Международное право признало ее собственностью лишь полоску воды «на расстоянии пушечного выстрела от берега». И китобои вели себя, как бандиты, лишая аляскинских эскимосов главного средства к существованию. Жалобы в дружественный Вашингтон – «уймите своих флибустьеров!» – цели не достигали. Переписка двигалась долго, и ответы не обнадеживали: «Мы не можем ничего с ними сделать. Ищите средства их отогнать». О золоте, открытом к этому времени на Аляске, памятуя о «калифорнийской горячке», русские благоразумно помалкивали, знали: никакая сила не способна сдержать лихорадку золотоискательства.
И, наконец, перед всеми, кто «присмотрелся» к проблеме, поставлен был главный вопрос: способна Россия в случае войны защитить Аляску? На это сторонники и противники попятного «округления» единодушно ответили нет. И тогда царь будто бы сказал: «Ну и окончен спор. Продаем. Торговаться Россия не будет, пусть сами назначат хорошую цену».
Вопрос был решенным. В присутствии пяти человек «особого заседания» 28 декабря 1866 года царь подписал документ о продаже Аляски. Все делалось втайне по причинам вполне понятным. Сама уступка Аляски была для России делом отнюдь не почетным. И был еще деликатный момент: Соединенные Штаты, еще не пришедшие в себя от Гражданской войны, в данный момент о подобной покупке не помышляли. Посланник Эдуард Стекль, прибывший в Вашингтон, должен был, предложив сделку, повернуть дело так, чтобы инициатива покупки исходила от Соединенных Штатов. Задача посланника упрощалась тем, что государственным секретарем в это время был Уильям Сьюард, философия которого о «предопределении судьбы» изменений не претерпела. Сообщение Стекля о предложении Петербурга было для него великой радостью. Работа немедленно закипела. Было испрошено мнение президента и всех, кто мог быть к делу причастен. Утрясли цену. И Стекль послал в Петербург ту самую, стоившую десять тысяч долларов, телеграмму. Смысл ее состоял в том, что США предлагают России продать Аляску на таких-то условиях. Ответ Петербурга был лаконичным: согласны.
Стекль рассказывает, что с телеграммой в кармане он пришел к государственному секретарю домой. Доложив новость, посланник сказал, что завтра можно будет подписать договор. «Зачем ждать до завтра, мистер Стекль? Давайте заключим договор сегодня вечером», – вскочил горевший нетерпением Сьюард. Было уже поздно, но по городу Сьюард послал курьеров – собрать работников госдепартамента. Работали ночью. К 4 часам утра 30 марта 1867 года договор был переписан красивым почерком, подписан, скреплен печатями. По американским законам его теперь должны были утвердить сенат и конгресс. Объявили за покупку и плату – 7 миллионов 200 тысяч долларов. Это было больше, чем ожидал Петербург, снабдивший Стекля инструкцией: «5 миллионов, не меньше». Но, конечно, это была ничтожная плата за громадное приобретение. И пусть доллары того времени были в несколько раз тяжелее нынешних денег, все равно мы можем сказать: Аляска продана за бесценок. Только одного золота в ней добыто уже на сумму в две с половиной тысячи раз большую той, что была уплачена при покупке. В аляскинских газетах я прочел сообщение: за один только час в 1988 году у берегов полуострова было поймано рыбы на сумму, превышающую плату при покупке Аляски. Конечно, продажа с позиций нынешних выглядит неким абсурдом. Но все происходившее в прошлом мы обязаны рассматривать в контексте существовавших ценностей и обстоятельств. И приговор: головотяпство, совершенно вопреки здравому смыслу, нельзя считать справедливым.
Между прочим, у Стекля и Сьюарда были трудности с оформлением покупки. Брюзжали в сенате: «платим деньги за ящик со льдом», «глупость Сьюарда», а в конгрессе и вовсе дело застопорилось. Пришлось давать взятки. Но не Сьюард давал, а Стекль, опасавшийся срыва сделки. Давал редакторам за поддержку в газетах, политиканам за речи в конгрессе. Больше ста тысяч долларов было списано Петербургом по тайной статье расходов «на дела, известные императору». Двадцать пять тысяч было пожаловано посланнику за труды. Царя Стекль поблагодарил, друзьям жаловался: мало. А что касается «подарка» истории, то дела обстоят так. Именем Сьюарда на Аляске названы полуостров и город. След же Стекля после службы царю затерялся… Так уж сложилось, Аляска не могла быть не продана. Но в продаже доблести не было. Героем был покупатель.
Как реагировал мир? Штаты были довольны, но оценить по достоинству громадный «довесок» к своей территории еще не могли, потенциальное богатство края заслонял образ «ящика со льдом». Недруги России злорадствовали – продажа Аляски была признанием слабости. У англичан к этому чувству прибавлялась озабоченность с огорчением – ее владения в Америке попадали в тиски между новой северной территорией и «нижними» штатами США. В русских столицах общественность глухо роптала – «не амбар продан!» Но широкой огласки «непочетное дело» не получило. И, наверное, тогда же появилась легенда: Аляска продана, но не навечно, а только на 99 лет. Правительство эту легенду, выгодную для успокоения умов, не отвергало, и дожила эта вера до наших дней.
На Аляску весть о продаже ее дошла лишь в мае 1867 года. Для обитателей Русской Америки новость была и горькой, и неожиданной. Губернатор колонии Дмитрий Петрович Максутов «пришел в бешенство». Как личное горе приняли эту весть все, чья жизнь была связана с освоением территории. Сто двадцать шесть лет прошло с года открытия этой части Америки. Карта громадного края пестрела именами русских землепроходцев, моряков и правителей. И теперь вдруг все становилось чужим.
Легко представить, каким тут было «эвакуационное лето». Спешно и за бесценок губернатор продал новым владельцам Аляски несколько небольших кораблей, лодки, недвижимость, меха, табак, продовольствие. Официальная передача колонии в новые руки состоялась 18 октября 1867 года. Площадь под «замком» губернатора в Новоархангельске была заполнена прибывшими с разных мест колонистами, русскими и американскими солдатами. Были тут речи, стрельба из пушек, с высокой мачты спустили российский и подняли американский флаг. «Перегоревший» к этому времени губернатор Максутов «наблюдал церемонию с отстраненным спокойствием, его молодая жена княгиня Мария Максутова смахивала платком слезы».