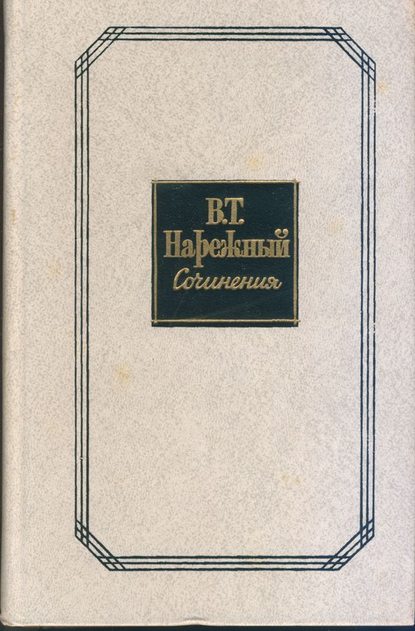По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Российский Жилблаз, Или Похождения Князя Гаврилы Симоновича Чистякова
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Жена. Может быть, он какой преступник?
Муж. И величайший преступник имеет право на сожаление.
Жена. А если он разбойник!
Муж. Я накормлю голодного разбойника и после отдам в руки правосудия.
Жена. Да! как уж успеет ночью удушить тебя.
Муж. Ты все вздор мелешь. Он безоружен и едва от изнеможения стоит на ногах.
Жена. Притворство, личина!..
Муж. Поди и приготовь белье. Разве ты не хочешь ужинать, ибо я и все не сядем за стол, пока он не придет.
– Боже мой! как ты упрям, – говорила она, уходя и побрякивая ключами.
– Батюшка, – сказала Катерина, – мне кажется, матушка несколько права. Вить неприлично принимать в дом дурного человека.
– Так, дочь моя, – отвечал старик, – но надобно прежде точно удостовериться, что он дурен; а почитать его таким по его загрязненному лицу, по нищенскому платью, по робкому виду и отказать в куске хлеба и в угле дома для проведения ночи в дождливую осень, – да сохранит вас бог, дети мои, от такой разборчивости! Сто раз покойнее буду смотреть на вас во гробе, нежели с этими румяными щеками, блестящими от довольства и спокойствия глазами и сердцами каменными. Чувствительность есть истинное благородство человека. Она ставит его на высокую степень творения. Волк и медведь имеют столько ума, чтоб отличить тигра от робкой овцы и, от одного убегая, гнаться за другою. Чувствительный, хотя и несчастный человек, если не сегодня, то завтра, то когда-нибудь найдет сердца, которые поймут его, сблизятся с ним, и он будет счастлив в рубище. Но жестокосердый – он вечно несчастлив: среди богатств, славы, величия, в венце и багрянице.
Старик умолк, но взоры его сияли удовольствием. Он взглянул на дочерей: Катерина отворотилась, поправляя серьгу; Елизавета стояла, устремив вниз глаза свои, с навернувшимися слезами и сложа руки накрест у груди. Старик вздохнул, Елизавета вздохнула; он взглянул на нее, понял биение сердца ее и молча пошел к софе.
По прошествии получаса явился незнакомец хотя в ветхом, но довольно чистом платье своего хозяина. Не с удовольствием заметил Простаков таковую бережливость жены своей, но на сей раз замолчал.
Незнакомец, робко подошед к нему, преклонил низко голову и сквозь зубы пробормотал что-то о благодарности.
– Об этом поговорим после, – сказал Простаков, – а теперь всего лучше пойдем к столу, я думаю, он теперь всего необходимее.
Как скоро Простаков увидел, что гость его понасытился и довольно весел от нескольких рюмок вина, к чему принудил его хозяин, желая поправить истощенные силы его, то сей последний сказал:
– Я почитаю вас честным человеком, и дай бог, чтобы не обманулся. Но скажите мне, пожалуйте, для чего вздумалось вам, при такой наружности, которая вдруг вам изменила, сказаться слуге именем князя? Разве несчастному
именно нужно быть князем, чтоб возбудить сострадание? Вам, видно, худо обо мне сказали.
Все обратили испытующие взоры на незнакомца, ожидая ответа. Госпожа дому удержала ложку, которую только что хотела поднести ко рту, и кидала лукавые взгляды на своего мужа.
– Что я князь природный – это такая истина, как-то, что теперь существую. Я называюсь князь Гаврило Симонович княж Чистяков, – сказал он, взглянув весело на все собрание.
Все поражены были как громом. Маремьяна, ахнув громко, уронила ложку и облилась соусом.
– Ах, боже мой! – твердила она несколько раз сряду, обтираясь салфеткою и глядя пристально на князя Гаврилу Симоновича княж Чистякова.
Наконец, после нескольких мгновенных вопросов и ответов все успокоились, только г-жа Простакова многократо извинялась, что с первого взгляда не могла узнать в нем князя, хотя наружность его довольно то доказывала.
– Полно пустое врать, – сказал муж, выпивая рюмку вина. – В тогдашнем положении его сиятельство больше походил на черта.
Все засмеялись, и даже сам князь Гаврило, почесывая лоб.
Хозяин продолжал:
– Жена! – теперь пора спать; отведи князю покои, что подле моего кабинета. Вели пораньше истопить баню, а чай будем пить все вместе.
Глава III
Капусту полоть
Настало утро. Оно хотя было и не самое прекрасное, но казалось таковым для хозяев и их гостя. Он чувствовал успокоение, а они тем веселились. Все вместе пили чай, проводили время до обеда, обедали и так далее. Прошел день и другой и таким образом целая неделя, – а там их и несколько. Хотя князь Гаврило и не один раз принимался раскланяться с гостеприимными хозяевами, но сии время от времени откладывали расставанье; каждый день взаимного обращения распространял взаимную доверенность: гость находил в хозяине старика доброго и умного по природе и опытности; а последний с каждым днем открывал в первом более и более искренности и прямодушия. По мере обоюдного сочувствия сердца их сблизились, и, когда прошел месяц пребывания князева в доме Простакова, казалось всем, что он взрос здесь и состарился.
В одно утро, когда морозы наступающей зимы засадили всех в теплых покоях, Простаков после завтрака завел речь мимоходом о прошедших случаях жизни своего гостя.
– Понимаю, – сказал князь, – и сейчас удовольствую ваше желание. Хотя и не раз буду краснеть, но охотно приношу сию жертву вашему дружелюбию.
Простаков дал знак дочерям, – они поднялись и хотели выйти, как князь, удержав их, сказал отцу:
– Успокойтесь, добрый человек; повесть моя детям вашим во многом будет уроком. – Таким образом все уселись, и его сиятельство начал:
– Родина моя в селе Фалалеевке, что в Курской губернии. Она славна своим хлебородней и наполняет житницы Петербурга и Москвы; но странный в нем недостаток, буде так сказать можно, есть тот, что там столько князей, сколько в Малороссии дворян, а в Шотландии – графов. Одно другого стоит.
Надобно отдать справедливость, что наши князья гораздо умнее иностранных графов. Там, как слыхал я нередко, граф-отец, вставая с войлочной постели, говорит сыну: «Что, граф, чисты ли мои сапоги?» – «Как же, ваше сиятельство, вот у меня и руки еще в ваксе».А графиня-мать, чистя на поварне кастрюлю, говорит своей дочери: «Что, графиня, доила ли ты корову?» – «Как же, ваше сиятельство, у меня еще и теперь ноги в навозе и на лбу шишка, – так проклятая лягается».
Наши русские князья сто раз умнее. Они занимаются хлебопашеством, хозяйством, пашут, жнут, продают хлеб и живут мирно и братски с крестьянами своими и чужими, и только в большие праздники, собравшись в шинки, объявляют о княжестве своем, если бы какой грубиян не устрашился нанести кому-либо удар, что не очень редко случалось.
Из таковых князей был почтенный родитель мой, князь Симон Гаврилович Чистяков. При кончине своей он сказал мне: «Оставляю тебя, любезный сын, не совсем бессчастным: у тебя довольно поля есть, небольшой сенокос, огород, садик и, сверх того, крестьяне Иван и мать его Марья. Будь трудолюбив; работай, не стыдясь пустого титула, и бог умножит твое имущество».
По кончине отца я несколько времени свято исполнял его завещания: но, конечно, демон вражды позавидовал моему спокойствию и вмешался в дела мои.
Подле моего домика жил князь Сидор Буркалов и с ним хорошенькая дочка его княжна Феклуша. Ее черные глазки, ее алые щечки, – словом, я полюбил Феклушу; но жениться на ней отнюдь не думал, ибо у князя, отца ее, только и была одна крестьянка, то есть княжна, дочь его; впрочем, ничего и никого не было, а сверх того, что и осталось после покойной жены, он по неосторожности или грустя по ней, время от времени переносил к жиду Яньке, корчмарю нашей деревни. Итак, я твердо решился не свататься за прекрасную Феклушу, однако ж любил ее и стал невольным образом следовать за нею всюду. Она то заметила и, казалось, была не недовольна.
Однажды, встретив ее, согбенную под коромыслом, сказал я с сожалением: «Ах, княжна! тебе, конечно, тяжело?» – «Что ж делать», – отвечала она закрасневшись. Я взял ведры и донес до дому. «Спасибо, князь», – сказала она. Я потрепал ее по плечу, она пожала мою руку, мы посмотрели друг на друга, и она сказала: «Завтра рано на заре буду я полоть капусту», – и остановилась. «Я пособлю тебе», – вскричал я, обнял ее и поцеловал. Она немного показалась сердитою, оттолкнула меня и ушла.
«Ну, – думал я, оставшись один в своем покое, – она рассердилась и, верно, меня не любит». Погрузившись в печаль, вышел на огород свой и ходил в большой грусти. Скоро, однако, утешился. О чем я печалюсь? Она так весело на меня сегодни смотрела. Если не выйдет на огород полоть капусту, то, верно, сердита, а если выйдет, то я побегу помогать ей.
Решась таким образом, я с нетерпением ожидал зари. Ходил по огороду, вытянувшись и не смотря ни на что, шагал по грядам, ломал и давил все, упоен будучи восторгом. Наконец появилась заря. Остановя дыхание, приближился я к плетню, огороды наши разделявшему, устремил глаза сквозь прутья, и взоры мои неподвижно уставились на капустной гряде. Заря становилась алее и ярче, – Феклуши нет как нет. Сердце мое билось необычайно. Если колебался подсолнечник, я вздрогивал. «Это она», – думал я; но подсолнечник переставал колебаться, а Феклуши не было. Отчаяние клубило сердце мое. Я отнял голову от забора и печально взглянул на взошедшее солнце. Свидетель горести моей, зачем кажешься ты? Вдруг подул сильный ветер, и что-то необыкновенно зашумело. «Вот она! – вскричал я громко, не могши удержаться, – вот наконец прекрасная княжна Феклуша!» С сильным уверением о ее прибытии вскарабкался я на забор, вмиг осмотрел все, и что ж увидел? Ужас обнял меня! Воробьиное пугало, ветром поваленное в горох. С раздирающимся сердцем слез я с забора, взглянул на свой огород и ахнул. Холодный пот выступил у меня на лбу. Проклятая княжна, неблагодарная Феклуша! Все переломано и потоптано для тебя, и тебя нет! Прекрасные мои бобы, дорогие огурцы, прелестные тыквы, куда вы теперь годитесь! О я, злодей!.. Рыдая неутешно, пришел в свою избенку и решился не выходить по крайней мере пять дней, и сдержал свое слово до самого вечера. Тут нетерпение мною овладело, и я вышел за вороты: знал я, что в это время и она также выходит. И в самом деле, она уже стояла. С презрением отворотился я в другую сторону, решаясь не смотреть на нее, и не смотрел по крайней мере с минуту.
– Князь! – сказала она вполголоса, и я вмиг обернулся.
– Что? – отвечал я со вздохом, – чего ты еще от меня хочешь? У меня уже нет другого огорода. Поди посмотри, жестокосердая! Сердце твое обольется кровию. И самый злой турка не мог бы хуже сделать! Но сила любви… – Она подошла ко мне, взяла тихо за руку, пожала и сказала с улыбкою:
– Я видела сегодни огород твой, догадалась, отчего он так перепорчен, и слезы у меня навернулись.
– Только? А я так плакал неутешно.
– Ну, милый мой, успокойся, – сказала она еще ласковее. – Ты знаешь тот большой подсолнечник, что в углу, на правой стороне у бобовой беседки?
– Как не знать! – подхватил я весело и, взяв ее за руку, хотел обнять; но, вспомнив вчерашнее, вдруг отшатнулся.
– Там буду я, как скоро батюшка придет от проклятого жида и уснет: он понес сегодни серебряные мои серьги и шелковый платок, последнее имущество, оставшееся мне после покойной матери.