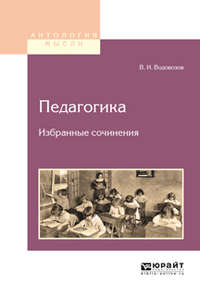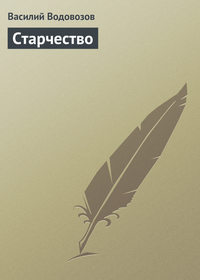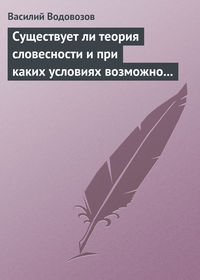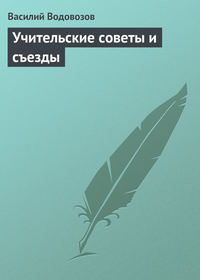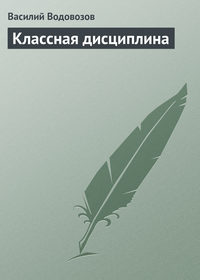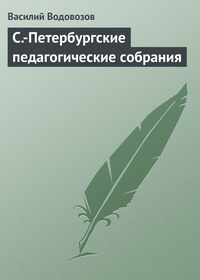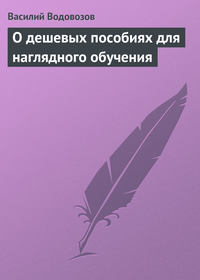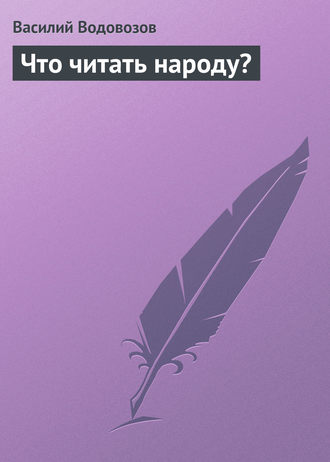
Что читать народу?
Некоторые ревнители нашей народности до того преклоняются пред каждым словом, выходящим из уст народа, что чуть ли считают не преступлением переделывать для детского чтения народную сказку. Но сам народ не придает сказке такого важного значения. Подобно этому и в книге без всякого критического отношения он прежде всего ищет какого-либо применения к своей жизни, и если найдется такое применение, то мы сейчас получаем отзыв: «Вот это хорошо, дельно сказано… умная книга!»
В большинстве случаев народ, конечно, находится еще на той степени развития, когда и ложный эффект, и грубая подделка под что-нибудь нравственно возвышенное могут нравиться. Но следует ли из этого, что мы можем запрудить народную литературу всякой дребеденью? Основываясь на недостатках народного развития, можем ли мы говорить с народом, как с глупым ребенком? Лучшие свойства народного ума и народной творческой силы, напротив, обязывают нас быть здесь наиболее строгими в выборе произведений. Вспомним, что чрез сближение с народною литературой обновилась в лице Пушкина и наша художественная литература: Крылов, Кольцов, Гоголь, Некрасов, Тургенев (в «Записках охотника») обильно черпали из того же народного источника. И вот теперь, в благодарность за это, мы будем поучать народ, какой страшный вред от пьянства, по исполненным всякой чертовщины повестям Погосского, забывая, что подобные специальные повести еще нужнее были бы для нашей интеллигенции! Нам довольно знать, что народ может понимать и ценить все истинно изящное в литературе, если только по своему содержанию оно сколько-нибудь доступно его пониманию, и, основываясь на этом, мы должны поставить себе руководящею идеею поддержать и развить в нем те прекрасные начала, которые он же указывает нам в произведениях своей творческой фантазии.
Здесь уместно будет сказать еще о славянском чтении, которое, как кажется, готовится быть одною из специальностей вновь заводимых духовно-приходских школ. Мы ничего не можем ни возражать, ни приводить в защиту этих школ, не зная, каковы они будут. Нам кажется, что они не могут слишком отличаться от обыкновенных светских школ. Священник, лишь потому, что он священник, еще не есть ни врач, ни педагог: для этого нужны и особое призвание, и специальная подготовка. С другой стороны, его прямые обязанности, особенно при разбросанности сельского прихода, должны сильно отвлекать его от деятельного участия в школе. Значит, все дело будет поручено, как и ныне, какому-нибудь воспитаннику духовной или учительской семинарии, и деятельность священника против той, какую он и ныне может проявить в светской школе, увеличится разве писанием отчетов. Собственно говоря, можно бы только радоваться, что число сельских школ умножится. Но очень жаль, что некоторые ревнители уже с самого начала хотят посеять какую-то рознь между этими будущими приходскими и ныне существующими светскими школами, ожидая от первых всякого добра и взваливая на последние всякое зло. Если уж совсем нечего сказать против светской школы, то ставят ей в упрек, что в азбуках и в книгах для чтения, в ней употребляемых, в начале все говорится о лошадках, о коровках, а не об ангелах и других священных предметах. Но нельзя же простирать уважение к святыне до злоупотребления священными предметами: если для ознакомления с буквою а нужно слово «ангел», то на том же основании нужно вводить священные предметы и в арифметические задачи! «Коровки, лошадки не нужны потому, что дети их отлично знают». Но описание их и вносится в книгу потому, то дети их знают. Нельзя же семилетнего, осьмилетнего ребенка при первом упражнении в чтении затруднять незнакомыми ему умозрительными предметами. Притом здесь еще имеется в виду привести в некоторый порядок детские представления и сообщить некоторые естественные знания, например о различии животных по зубам. – «Вот, вот, – скажет ревнитель, – вы и проговорились: у вас все знания, да знания, а ничего для сердца, для нравственности!» Но, во-первых, в книгах для чтения помещаются не одни же знания, а во-вторых, для развития сердца и нравственности важнее всякой книги живой пример, живое слово. С другой стороны, не давая умственного развития чрез знакомство с естественными законами, мы не приготовим настоящей почвы и для развития религиозно-нравственных начал. Что же за религия, затемненная всевозможными суевериями! Мы даже не понимаем, как можно говорить о какой-то особой нравственно-поучительной книге для чтения, когда в каждой школе есть такая книга, как евангелие! Вообще книга религиозного содержания, особенно по-славянски, может с успехом читаться детьми, когда они сколько-нибудь научатся русской грамоте. Какое же может быть возбуждение религиозного чувства, когда ребенок коверкает каждое слово и приходится почти исключительно иметь дело с механизмом чтения?
Но мы отвлеклись от нашей темы о славянском чтении. Необходимость такого чтения значительно умаляется, после того как большая часть богослужебных книг переведена на русский язык. Однако знать по-славянски необходимо для понимания литургии – того, что на ней поется и читается. Вряд ли сельская школа при настоящем ее устройстве может достигнуть в этом отношении больших результатов, чем она достигает теперь. Для этого слишком мало времени, а славянский язык слишком труден, и многие ли из самих ревнителей знают его основательно? Но скажут: надо удовлетворить требованию народа, который любит славянское чтение. Современная школа по мере сил этому и удовлетворяет: только мнение о любви народа к славянскому чтению тоже преувеличено. Читают преимущественно старики да раскольники, но много ли понимают из прочитанного? Понятно, что после многовекового обучения грамоте по часослову и псалтыри еще сохранились предания о непреложности такого обучения. Народ прежде не знал никакой другой науки и потребность знания удовлетворял все из того же источника. Он по-своему толковал священное писание, находя в нем тексты и для объяснения естественных явлений, и для применения к своему домашнему обиходу, и для гадания о будущем, – словом, мешал свои старые суеверия с религиозными верованиями. Кое-где такое настроение сохраняется и теперь. Но что же тут общего с религией и нравственностью? Почему для народа специальным знанием должно быть то, что не служит специальным знанием для остальных классов общества? Мы видим, что по мере ознакомления с наукою и литературою народ также охотно читает светские книги, а свое религиозное чувство он удовлетворяет чтением священных книг в русском переводе. С церковной точки зрения, при плохом знании славянского языка (а другого знания не может дать сельская школа, потому что в ней и по-русски-то выучиваются пополам с грехом) самостоятельное чтение по-славянски может быть даже вредным, потому что при этом могут быть всякие произвольные и даже еретические толкования священного текста.
Нас спросят: как же мы ответим на вопрос, поставленный в заголовке статьи: «Что читать народу?», что мы можем представить тут положительного? Мы имели в виду лишь постановку этого вопроса, а подробное объяснение того, какие книги могут быть выбраны для чтения, завлекло бы нас слишком далеко и составило бы предмет специальной педагогической статьи. Однако мы считаем небесполезным указать здесь на основания, которых следует держаться при этом выборе, – основания, отчасти уже разъясненные нами в предыдущем изложении. Здесь, конечно, пришлось бы делить читателей на несколько групп, смотря по успехам грамотности. Есть местности, где грамотность уже значительно развилась, где при школах есть порядочные библиотеки и крестьяне уже довольно подготовлены к пониманию более сложных и серьезных литературных произведений; есть и такие местности, где они недалеко ушли за пределы азбучного знания. Но, во всяком случае, надо помнить, что крестьяне не дети, что у них есть богатый жизненный опыт, развитая наблюдательность, установившиеся условия быта в их сельских занятиях и промыслах, в их семейном и общественном положении.
Из литературных произведений тут всего естественнее было бы выбирать такие, где изображается местный быт или нравы и обычаи разных сословий. Хорошо было бы, если бы картины быта воспроизводили знакомую крестьянам жизнь в более широких ее областях, как например быт горнозаводский, быт фабричный, степной и проч. Таких произведений у нас в настоящее время накопилось довольно: они частью рассеяны по журналам, частью могут быть найдены в собраниях сочинений новейших беллетристов. Каждая повесть могла бы быть издаваема отдельною книжкою за недорогую цену. Некоторые из них, очень талантливо написанные, пришлось бы все-таки значительно сократить, выкинув все, что относится к излишним литературным распространениям или к субъективным воззрениям авторов. Мы здесь разумеем не одни повести из крестьянского быта: народ не менее интересуется и жизнью других сословий. Быт купеческий, быт сельского духовенства, чиновничий и помещичий не менее ему близки там, где дело касается реальной стороны жизни. Но описание жизни крестьян с новейшими умозрениями о крестьянских началах было бы ему скучно и непонятно. Выходя из этого реального начала, мы можем решить, что наиболее доступно народу в произведениях наших первоклассных писателей. Крылов, Кольцов, значительная часть произведений Некрасова – без труда подойдут под эту мерку. Понимание Пушкина и Лермонтова требует несколько большего художественного развития; но и у Пушкина его исторические повести, драма «Борис Годунов», «Медный Всадник», «Полтава» будут понятны при некоторых исторических объяснениях. Исторический роман, как доказывает «Князь Серебряный» гр. А. Толстого, особенно любим народом; но здесь надо сделать строгий выбор, чтобы не запружать головы вычурными фантазиями, которым так легко у нас поддаются романисты этого рода. Далее, при некотором развитии, Гоголь и Островский почти целиком могут быть усвоены народом. Не худо бы выбрать для народного чтения драмы и комедии и из тех, какие играются на театрах: некоторые из них хотя занимают далеко не первое место в художественном отношении, все-таки довольно просто и живо воспроизводят общественную жизнь. Романы Тургенева уже менее доступны, потому что изображают недуги образованного общества, которых народ не переживал. Но, например, «Обломов» Гончарова мог бы быть отлично понят, исключая утонченных отношений Ольги к Штольцу и некоторых других романтических подробностей. Из произведений иностранной литературы подлежат выбору те же сочинения с реальным направлением, но не с выступающим резко бытовым характером. Впрочем, повести, где встречаются описания разных стран и выведена борьба человека с природою, могут быть для народа очень занимательны. Есть у нас попытки изложения в сокращенном виде драм Шекспира и других классических произведений; но такие драмы, как «Король Лир» Шекспира и «Вильгельм Телль» Шиллера, могли бы быть изданы целиком для чтения более развитыми людьми из народа. Больше распространяться об этом предмете мы не будем: заметим лишь вообще, что надо сделать выбор чего-нибудь вполне содержательного и по возможности образцового. Крестьянину нет времени много читать, и книга, раз попав ему в руки, не просто им перечитывается, а, так сказать, изучается долго и постепенно.
О книгах научного содержания мы сделаем лишь немного замечаний. Всего охотнее народ в настоящее время читает книги исторические. Но у нас об истории для народа сложилось особенное понятие. Многие считают тут необходимыми риторические изображения и особенно псевдопатриотические разглагольствия. Не нам бы учить патриотизму народ, который преимущественно на своих плечах вынес всю тягость нашего исторического развития. Как по истории, так и по другим научным предметам народная книга прежде всего должна быть проста и правдива. Между тем в популярных брошюрах по географии, естественной истории, даже по гигиене и сельскому хозяйству мы сплошь и сряду встречаем грубые подделки под простонародный тон, ребяческие прибаутки, противные подмазывания и подслащивания сухой науки и тут же – кучу фактов, навороченную уже без всякой идеи. Мы не отвергаем пользы живых, характерных очерков из путешествий, из мира животных и растений и т. д. Но для чтения подобных очерков необходимо все-таки предварительное знакомство хоть с общими началами науки. В настоящее время народу всего нужнее краткие курсы по всем главнейшим отраслям знаний – курсы, в которых отчетливо и без всяких прикрас изложено было бы самое существенное по каждому предмету. В них место лишь объясняющим рисункам, чертежам, картам, а не тем жалким иллюстрациям, какие помещаются обыкновенно на обертке народных брошюр для праздной приманки. Когда народ начинает учиться, то уж учится серьезно, толковито, не для пустой забавы.