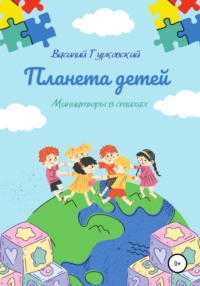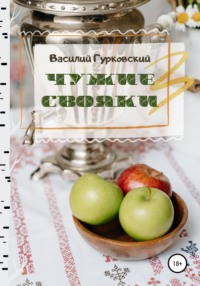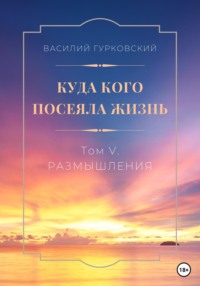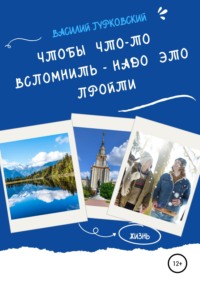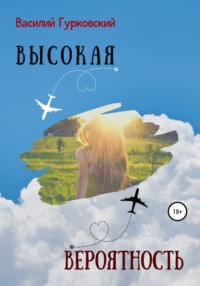Куда кого посеяла жизнь. Том 14. Встречи
Посчастливилось нам побывать и в центральном ресторане города – «ТРИ МОНЦИУМ» (Три горы). Самое замечательное в этом заведении –огромный, в половину футбольного поля, внутренний двор – зал, с большим количеством столиков и под открытым небом. Были мы в нем во время обеда, днем. Хозяева рассказывали, что этот зал очень красив в ночное время. Пришлось поверить им на слово….
Интересный момент был в последний вечер, перед нашим отъездом. Генеральный директор повез нас на прощание к своему давнишнему другу, директору ликеро -водочного завода в городе Асеновград, что в 19 километрах от Пловдива.
Небольшой, красивый, уютный городок, за обилие церквей, называемый «Болгарским Иерусалимом». И в нем – завод с такой приятной продукцией, как ликеры и водки. Честно говоря, мы уже настроились ехать домой, да и ежедневные вечерние «приемы» уже особо не привлекали, но- в последний день надо было держать марку….Нас пригласили в дегустационный зал….
Директор того завода, белый, как лунь, оказался добродушным хозяином и выставил нам, что мог лучшего, по крайней мере нам так показалось. Из его рассказов мы поняли, что он не просто большой знаток горячительных напитков, а и дипломированный и известный в мире их дегустатор.
Он похвалился, что на недавнем конкурсе подобных напитков, проходившем в одной из европейских столиц, их водка (старый брэнд, оставшийся еще с царских времен)– «Смирновская», заняла первое место.
Я, по простоте душевной, выразил сомнение что их Смирновская (мы её уже пробовали в Болгарии) лучше нашей, недавно появившейся тогда в Союзе водки, -Пшеничной или прежней- Столичной…
В ответ на мое высказывание, директор, что-то куда-то сказал , и тут же в стене открылась ниша, в которую было видно, как по ленточному транспортеру, к нам поднимаются полные бутылки, без этикеток.
Через несколько минут, директор поставил передо мной круглый поднос, где стояло более десятка стаканов, с налитыми примерно на палец, прозрачными жидкостями. Скорее всего, это были водки разных марок, в том числе и советских, наверное. Он предложил мне попробовать их и оценить по качеству.
Я посмотрел на эту батарею стаканов, потом посмотрел на незнакомого молодого парня, сидящего на краю стола, явно представителя каких-то надзорных органов, наших или болгарских и почувствовал, что это самый ответственный момент в нашей командировке….
Если я «продегустирую» даже половину из тех стаканов, то неизвестно, чем все закончится. А директор ждал….Надо было что-то делать…И ведь есть еще Его величество –Судьба!…
Взял один стакан, посмотрел в него, а там какие-то пятна плавают, похожие на масляные….На мой вопрос- что это, директор объяснил , что это водка у них такая , «Мастика». Меня как осенило сразу –говорю -хотел попробовать вашу продукцию, но теперь – не могу. Вы как сказали Мастика, у меня сразу аппетит пропал на все спиртное. Дело в том, что у нас, мастикой полы натирают, чтобы блестели, сказал я, давая как бы понять, что вопрос дегустации , таким образом , красиво закрыт и я согласен на «ничью» в споре о том, чья водка лучше. Обошлось….напоследок.
Хорошая и красивая страна Болгария. Живут в ней в большинстве своем добрые трудолюбивые отзывчивые люди. Добросовестно работают, а живут, по большому счету, бедно. И не только потому, что нет таких деньгами текущих источников, как нефть, газ и другие природные богатства, а главным благополучием, она (страна) обязана своему месту, замечательной земле, приемлемым климатическим условиям и труду своих Граждан. Богатство Болгарии всегда приходилось делать своими руками, а это очень непросто. Тем более, когда вокруг тебя (страны), очень много желающих тебя поработить, и в переносном, да и в прямом смысле. Вытирают об неё ноги все кому не лень и кто посильнее и понаглее.
Период, начала восьмидесятых годов прошлого века, как раз во времена нашего там пребывания, по моему мнению, был лучшим в истории этой страны. Россия (СССР) в то время, помогала строить в Болгарии промышленные предприятия, электростанции, заводы по переработке сельхозпродукции и т.п. Более половина экспорта всех видов продукции, приходилось на Советский Союз. Овощи и фрукты, консервы, табак и сигареты, мясо и рыба –что только не поставляла Болгария нам, в Союз и без всяких квот и ограничений, диктуемых по линии ЕС , болгарам уже в наше время.
Сегодня Болгария, как и многие страны бывшего, Восточного блока, получила в порядке компенсации за развал и обнищание –право выезда в страны ЕС, чтобы там, простите свободно …побираться или наниматься на низкооплачиваемую работу.
Но вернемся к завершению нашей рабочей командировки. Мы тепло попрощались с руководством НПК . На заключительной встрече, подвели итоги, обе стороны посчитали их удовлетворительными и поблагодарили друг друга за все. Каждый из нас взял для себя что-то новое, полезное. Собственно, ради этого и проводилась наша с ними встреча.
Нас подвезли в Софию на машине, дальше мы отправились на поезде София-Москва. Здесь у меня произошел еще один случай, о котором, кроме меня, больше никому не известно.
Когда у нас на работе, в Слободзее, узнали, что я буду ехать в Болгарию, естественно, через Румынию, то один из работников дал мне 200 румынских лей. Кто-то из родственников приезжал к нему в гости, ну и оставил их, просто для того, чтобы знали, какие у румын деньги. Я с неохотой взял эти две сотни, не зная, их истиной ценности. Не надо было этого делать, но не смог отказаться, да и выбросить не мог, а вдруг это много. Меня в Кишиневе предупредили за валюту. Куда там! Политическое дело! Последствия и т.п..
Прости, читатель за минутную слабость. Взять-то я взял эти леи, а куда их девать?.Будут искать -найдут, им хоть двести, хоть миллион- все одно зацепка… Когда сели в Тирасполе в поезд, я пошел, простите, в туалет, открутил на потолке пару шурупов на обшивке, положил туда те несчастные леи, поставил все на место и спокойно пересек две границы –в Румынию и из Румынии.
Когда переехали Дунай и вошли в Болгарию , я забрал те леи и положил в карман, никому они уже не были нужны из проверяющих.
На обратном пути, я их уже не прятал. Приехали в Бухарест, ночью. Никто из всего состава, на перрон не вышел, один я, сжимая в руках двести лей и, намереваясь купить, если не весь торговый киоск, то хотя бы половину….
Подошел к ближайшему киоску, заглянул, осмотрел прилавок и полки. Нам в купе нужен был хлеб. Хлеб там был, красивый большой белый батон. Я указал на него пальцем, потом увидел блок пластинчатых жвачек(у нас тогда делали квадратные, а на западе- тонкие пластинчатые), указал на них и важно произнес –«ачеаста, ачеаста, ши ла тот», что примерно «это, это и на все…», просовывая в окошко свои 200 лей.
Продавец-женщина, дала мне булку хлеба, потом отсчитала с десяток тех плоских жвачек, и все….Момент огорчения у меня быстро прошел, потому, что из всего поезда, по перрону к своему вагону гордо шагал я, один, под завистливые взгляды советских туристов из всех вагонов, прижимая к груди , одной рукой большую булку хлеба, а в другой –сжимая десяток жевательных пластинок….
Был тогда еще один момент, на советской таможне, уже в Унгенах. Пока менялись бригады, я разговорился с одним советским таможенником, который перед этим очень тщательно досматривал наши вещи, особенно, если было что-то новое, необычное. Когда вышли на перрон, я поинтересовался, почему они нас так «перетряхивали», когда у нас ничего нет.
Таможенник рассказал, что был случай с делегацией как раз из нашего района, зимой, несколько лет назад. Тогда делегация тоже была от района, не знаю, по какому профилю, но представлялась от Республики (МССР). Когда здесь же на таможне, у них спросили- откуда у них новые дубленки, ондатровые шапки, дорогие сапожки, они сказали, что им подарили в Болгарии, как представителям Молдавии.
Таможенники уточнили в Кишиневе, что за делегация была в Болгарии и по чьей линии из Республики. Когда из Кишинева пояснили, что никто от Республики в ближайшее время в Болгарию не направлялся, то всю эту горе-делегацию раздели и разули. Её руководитель поехал домой в комнатных тапочках. Вот так, сказал таможенник, теперь проверяем серьезно. Сами заработали….
Наша группа благополучно вернулась домой, конечно же, с массой хороших впечатлений.
Где-то, кто-то в партийно- хозяйственной цепочке, естественно поставил галочку о выполнении такого-то мероприятия по линии межгосударственных связей, как «выполнено», а для нас, участников этой командировки, это было одним из ярких знаковых жизненных событий. И спасибо Судьбе за это!
Естественно, по прибытию ,мы доложили районному руководству о наших действиях за рубежом и передали приветствие и благодарности от руководства НПК за наш визит.
Я до сих пор с благодарностью вспоминаю моих коллег по той поездке. Цыбульского Ф.С. и Анну Кожемяченко. 40 лет прошло, а память благодарна им до сих пор, именно по той поездке. Федота Спиридоновича я более, чем уважаю и как классного специалиста и как прекрасного Человека, а судьба Анны мне сегодня неизвестна. Буду искренне рад, если у неё все просто нормально.
Причащение
Возможно, я кого-то повторю, но это абсолютно неважно. За прожитые годы, кроме всего прочего, сделал для себя вывод: соприкасаясь, пусть даже на небольшое время с чем-то (с кем-то) значительным, или значимым, тем более, великим или гениальным, человек всегда только находит и никогда не теряет. Пусть все в мире относительно, пусть идет постоянная переоценка ценностей, все равно – великое остается великим. Философские размышления по этому поводу появились у меня еще в далекой уже молодости и подтвердились с годами.
В конце пятидесятых -начале шестидесятых годов прошлого века, довелось мне служить в Москве, в одном специализированном военном учебном заведении. Был я командиром учебной смены, вел отдельные дисциплины военной подготовки и круглосуточно находился вместе с курсантами. Кто это прошел, знает, какой это хлеб, тем более в Москве, под боком у штаба округа и Министерства обороны Союза.
Согласно гарнизонному графику, вверенной мне тринадцатой курсантской смене, два раза в месяц, выпадало суточное обеспечение караульной службы на одном из военных объектов Москвы. Казалось бы, что здесь особенного? Обычный караул, каких ежедневно осуществляются многие тысячи? Но. Вопрос, где и как, при каких обстоятельствах это происходит?
Дело в том, что наше учебное заведение базировалось в Бирюлево, сегодня это район Москвы, кольцевая дорога проходит именно по окраине так называемого Бирюлево-пассажирского, а раньше, когда эта дорога была еще в проекте, а затем долго строилась, Бирюлево входило в Москву условно, было, просто – областного подчинения.
И в этом тоже нет ничего необычного – большая Москва поглощала в те времена сотни пригородных сел и поселков, «очертив» свой новый ареал кольцевой дорогой. Необычным был маршрут, по которому каждые полмесяца ездили наши курсанты, в том числе и моей смены, на караульную службу.
Если представить себе Москву в виде такого огромного городского пятна на карте, как принято – с югом внизу и севером – вверху, то, чтобы добраться до места караула, нам каждый раз приходилось «рассекать» огромный город посередине, примерно на две равные части.
И вот реалии: наша база в Бирюлево находится на самом юге Москвы у кольцевой дороги, а объект охраны – почти на севере города. Наш маршрут был следующим (если брать только узловые места): Каширское шоссе, Варшавское шоссе, Большая Ордынка, Красная площадь, улица Горького, Ленинградский проспект и, наконец, улица Беговая. Там, в районе генерального штаба Минобороны, и находился наш объект. Молодые, конечно, не знают, что раньше по Красной площади ездил транспорт, в том числе и мы, в караул и обратно.
Вроде бы тоже все обычно, если едем из дома, то по улице Большая Ордынка, по Васильевскому спуску, мимо того места, где позже построят (а в настоящее время разрушат) гостиничный комплекс «Россия», мимо штаба Московского округа, храма Василия Блаженного, Лобного места, памятника Минину и Пожарскому, вдоль ГУМа, напротив Мавзолея (тогда Ленина-Сталина) и Кремлевской стены с упокоенными выдающимися людьми, мимо Исторического музея (сейчас там построена церковь и проезда нет), мимо элитной (ныне разрушенной под реконструкцию) гостиницы «Москва», музея В.И.Ленина, здания ЦК КПСС с Домом Советов, мимо Главпочтамта, Моссовета и т.д. – до Беговой.
Правда, впечатляющий маршрут к месту караула? И вот именно тогда, где-то уже на втором моем выезде в караул, я почувствовал какой-то внутренний дискомфорт, вроде как виноватым себя, что ли (такой у меня несносный в этом плане характер), перед всеми остальными сменами, группами, взводами, на всей огромнейшей территории Советского Союза, которые тоже в это время, с учетом часовых поясов, двигались к местам своей караульной службы. Одни где-то в тайге или тундре, по бездорожью при сильнейшем морозе, другие в песках, при ужасной жаре, или в горах, болотах, и еще в тысячах мест, тысячах маршрутов, и все они отличались от моего.
Мой маршрут шел через сердце моей Родины. Какой-нибудь командир, находящийся сейчас, как и я, в кабине автомобиля, и многие тысячи из тех, других солдат, рассаженных, как и мои курсанты, на досках, в обтянутых брезентом кузовах, трясясь на ухабах или буксуя в песке, наверняка мечтали хотя бы раз в жизни побывать на Красной площади Москвы. Наверняка. А я по ней ездил на службу, и в дождь, и в снег, и в жару. Я мог просто остановить машину на этой площади, выйти, спросить, как дела у курсантов, я мог любоваться всем этим великолепием или равнодушно смотреть на все это, а то и просто спать, так как за время работы с курсантами научился засыпать и просыпаться мгновенно, максимально используя, свободные 10-15 минут, тем более – поездку в караул, на которую уходило более двух часов. Хотя и «пробок» тогда в Москве не было, но через весь город все-таки.
И вот тогда я заметил то, о чем, собственно, и суть рассказа. Это мое отношение к великому, значимому. Может, это было только со мной, я стеснялся спрашивать об этом у своих коллег, командиров учебных смен, которые тоже постоянно ходили с тяжелой головой, отдыхая по 4-5 часов в сутки, и тоже ездили по этому маршруту. Поэтому говорю только о своих ощущениях.
Как только выезжали в караул, я проверял машину, размещение курсантов, садился в кабину, командовал водителю «вперед» и… мгновенно засыпал Проблем никаких: водитель опытный, скорости большой не разовьешь, лови момент, командир, в случае чего – разбудят. Ан нет. Как только выезжали на мост через Москву-реку (если в караул едем), что-то меня (всегда!) встряхивало: «Здесь спать нельзя. Здесь место такое».
Можно сегодня по этому поводу скептически или ехидно усмехаться, но, проезжая по Красной площади, я никогда не спал, и обыденность рабочей поездки сочеталась во мне с чем-то очень значительным, даже священным, что ли. Я физически чувствовал, по какой брусчатке еду. Каждый раз, как бы пересекая спрессованные века и события, происходившие на этой площади в далеком и не очень далеком прошлом, чувствовал причастность к этому величию, пусть даже духовную.
Я заряжался за эти полторы-две минуты на полмесяца, до следующей поездки. Для меня это стало потребностью. Когда бы ни бывал в Москве во все последующие годы, даже если времени было очень мало при проездах, я обязательно шел на Красную площадь, чтобы постоять, посмотреть вокруг и зарядить свой жизненный аккумулятор до следующей встречи.
По-моему, это правильно для российского гражданина, тем более русского человека. И я никогда не пойму и не приму тех «ура -патриотов», правых и левых, верхних и нижних, центристов и глобалистов, для которых – что Красная площадь, что Елисейские поля в Париже или Капитолийский холм в Вашингтоне, – все одинаково, лишь бы им хорошо было.
Для меня Красная площадь Москвы, всегда будет главным местом государства Российского. В таком же направлении я воспитывал детей и внуков, ибо, как уже было сказано, при прикосновении к великому -всегда только получаешь.
А вот пример отношений личностных, пример, как великая личность, пусть походя, пусть сама того не замечая, соприкасаясь с окружающими людьми, духовно обогащает и оставляет в их сознании, а больше в душе, след на всю жизнь.
… Наташа служила с отцом и матерью в летном гарнизоне, расположенном в селе Маркулешты, под молдавским городом Бельцы. Папа был летчиком-истребителем; бросали его, как и других истребителей, из части в часть, по всему великому Союзу, да по разным горячим точкам за рубежом, но в тот период им удалось целый год прослужить на одном месте и даже добиться отпуска для отца.
Есть в Одессе санаторий имени В.П.Чкалова. В этом санатории отдыхали раньше только представители ВВС. Он был союзного значения, и особой известностью пользовался в послевоенные годы. Там часто бывал сын генералиссимуса Сталина – Василий, и уровень обслуживания в нем соответственно поддерживался.
Когда Наташин отец получил путевку, а дело было в 1968 году, то взял с собой жену и дочку. Сняли рядом с санаторием небольшой домик и отдыхали всей семьей. Днем отец был на процедурах, а на ночь приходил на съемную квартиру. Все шло нормально.
Но через несколько дней в соседний с ними домик, вселился очередной квартирант, небольшого роста молодой мужчина с бородой. После этого тихая жизнь в обоих домах закончилась. Сосед весь день где-то пропадал, а к вечеру возвращался, и всегда не один, а с компанией молодых ребят.
В домике было душно и тесно, поэтому они располагались на примыкающем к зданию и тоже небольшом, огороде. Было там что-то вроде старинной деревянной беседки – веселая компания ею и пользовалась. Они жгли костры, пекли картошку, иногда пили пиво с таранью, бычками и раками, которых тоже здесь же варили, и что-то обсуждали, шумели, читали, а больше всего пели.
Между огородами был старинный деревянный забор, а в нем – калитка. Веселая компания притягивала к себе и Наташу, которая считала себя почти взрослой, так как перешла уже во второй класс. Она начала вечерами потихоньку подвигаться в сторону огорода, где шумели соседи.
Все это было на глазах у родителей, поэтому особых проблем не возникало. Но постепенно Наташа стала неотъемлемой частью этих вечеров. Она сидела тихонько в стороне, на стареньком детском стульчике, или стояла, держась за дерево, и просто слушала. К ней компания привыкла.
Сосед, его звали Володя, познакомился с Наташиными родителями. Они не очень различались по возрасту, и он зачем-нибудь – иногда приходил. Наташе он не очень нравился – и красотой не вышел, и ростом. Он очень много пел под гитару – и для ребят, и для родителей Наташи. Пел таким надрывным хриплым голосом, что Наташе был жалко его слушать.
Однажды, зайдя к ним с гитарой, подошел к Наташе, погладил по голове и спросил: «Наташенька, ты такая приятная девочка, слушаешь внимательно, а ведь, я вижу, ты песни мои не любишь. Не нравятся они тебе?». И тогда девочка выдала следующее: «Дядя Володя, вам вообще нельзя петь, вам лечиться надо, горло лечить. А песни мне ваши очень нравятся!».
«Горло, говоришь? Возможно, и так», – грустно улыбнулся сосед и вышел. Был он внешне грубоват и в обращении иногда довольно резок, но какая-то невидимая внутренняя огромная человеческая сила и доброта, излучались из всего него неисчерпаемо.
Он самозабвенно пел, сливаясь с гитарой, поражая тоже не вчера родившихся одесских бардов ,разнообразием и мощью мыслей, положенных на музыку. Наташа поймет это позже, а тогда заворожено слушала дядю Володю, многого не понимая, проникаясь его страстным даром убеждения.
Дядя Володя, приходя к ним иногда днем, когда у него было свободное время, приглашал в гости, в Москву. Он привязался к Наташе, оставил много адресов и номеров телефонов, а потом неожиданно уехал. Закончилась, видимо, работа в Одессе.
А у маленькой Наташи, осталось к нему что-то такое невыразимо благодарное. Но потом началась школа, нахлынули всякие детские и недетские проблемы, и образ дяди Володи размылся в ее памяти.
Прошло двенадцать лет. И вот уже взрослая девушка, Наташа, включает телевизор. На экране – тот самый «дядя Володя», но без бороды.
«Мама, мама! – кричит девушка, – иди сюда, нашего дядю Володю показывают!». А диктор скорбно говорит, что скоропостижно скончался артист театра на Таганке, сыгравший много ролей в кино и автор многих известных песен, Владимир Семенович Высоцкий.
«Мама, ты знала, что тот дядя Володя был Высоцкий? – спросила она, – А чего же вы с ним не общались? Он оставлял адреса, телефоны?».
«Знаешь, дочка, мы стеснялись лезть ему на глаза, у него и без нас, наверное, проблем хватало, не зря же он так безвременно ушел», – ответила мама.
Вот такая история. Гениальная личность чисто случайно пересеклась по жизни с судьбой обычной девочки, но оставила след на всю жизнь. С тех пор Наташа, теперь Наталья Николаевна Морозюк, с которой мы вместе преподаем на одной кафедре нашего университета, слушает в записи хриплый голос Высоцкого, но уже в сочетании с его замечательным человеческим образом.
Она, сама того не подозревая, получила от него, нашего простого русского гения, энергетический заряд порядочности и человечности на всю оставшуюся жизнь. При встрече с великим, повторяю еще раз, всегда только находишь. Ну, а как ты этим распорядишься, – это уже другой разговор.
Случай в ресторане
Быль, которую хочу представить читателю, вполне обыденная, мелко-штриховая, но в то же время – классическая. Около шестидесяти лет назад довелось мне заниматься с молодежью. Был я освобожденным комсоргом войсковой части с правами райкома. В те далекие годы, за четверть века до развала Союза, когда будущие реформаторы еще ходили в начальные классы, когда идеи создания различных национально-идеологических фронтов в наших братских республиках, еще только проходили согласование в различных структурах за океаном, а о внедрении и воплощении в жизнь таких идей не могло быть и речи, комсомолу и молодежи уделялось довольно много внимания. Естественно, и кадрам, работающим с молодежью, в первую очередь, «низовым» комсомольским организаторам.
Зная очень многих ребят по совместной работе, могу сказать, что в подавляющем большинстве комсорги, особенно военные, были настоящим цветом армейской молодежи. Толковые, веселые, разносторонне развитые, спортсмены, музыканты, певцы – словом, одаренные люди. Они умели работать с армейской молодежью, их любили и уважали. Авторитет комсорга создавался им самим, а потом уже поддерживался командованием.
Конечно, и в армейском комсомоле, и среди политработников, как и на гражданке, попадались «скользящие» конъюнктурщики, чьи-то сынки и «блатные» знакомые, которых буквально «протаскивали» по всем ступеням комсомольско-партийной иерархической лестницы, чтобы потом можно было козырять их «последовательным» интеллектуально-идеологическим и трудовым ростом.
Таких в комсомоле не любили, откровенно ненавидели, а так как их было мало, то старались просто не замечать. Но они там-таки были, шли отдельной кастой, с ними негласно специально работали, напрямую или через жен, знакомых девушек, друзей. Их готовили. Из них потом выходили президенты, премьеры и прочие временщики, перестройщики-развальщики. Но в те времена, о которых пойдет речь, они еще были только благодатной средой, для которой был приготовлен вирус будущей величайшей катастрофы великой страны.
Политработников тогда неплохо учили. Учили всему понемногу. Учили политике, учили пропаганде, учили организационно-методической работе. Раз в два-три месяца комсоргов и замполитов собирали на надельные семинары в округ, информировали обо всех новостях и новшествах, включая политику, проверяли на сдачу тестов и зачетов, военную и физическую подготовку.
То есть, система была отлажена. Страна в то время собиралась через каких-нибудь 20 лет жить при коммунизме, американцев до смерти напугали вынырнувшие у их берегов наши атомные подводные лодки, Хрущев бил кулаком по трибуне в ООН и кричал: «Вы там не У-кайте, а то мы вас как; укнем!» В общем, как раз в этот период нас с замполитом, майором Истоминым, вызвали в округ на очередной семинар.
Он проходил в окружном Доме офицеров, во Львове. Поселили нас в военной гостинице «Варшавская». Довольно шикарная по тем временам, она как бы завершала весь исторический комплекс зданий на львовском «Бродвее» – улице Адама Мицкевича, которая тянется от оперного театра до упора в эту самую гостиницу.
На семинаре Истомин встретил товарища, с которым пять лет вместе служил и который когда-то пришел из училища командиром взвода в батальон нашего майора. Был он лет на десять моложе, но теперь уже носил погоны подполковника, став начальником какого-то кустового политотдела. Его отчим был генералом, и мать своими всевозможными связями открывала любые двери. На семинаре мы сидели вместе – майор с подполковником, а я рядом с капитаном, его помощником по комсомолу. Познакомились. Высокий, симпатичный внешне, подполковник мне сразу не понравился. И, оказалось, не зря. Наши знакомые остановились у каких-то родственников в новом микрорайоне, поэтому договорились вечером отметить встречу в гостиничном ресторане. Настоял на этом подполковник, Истомину пришлось согласиться. Нам с капитаном – тоже.