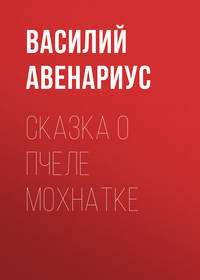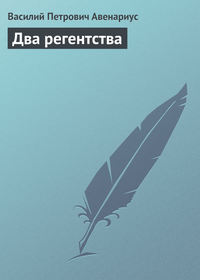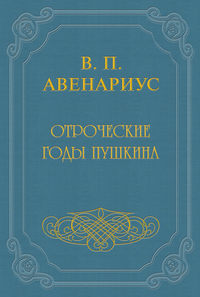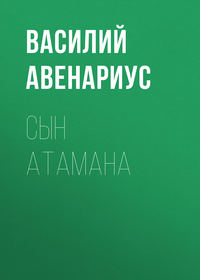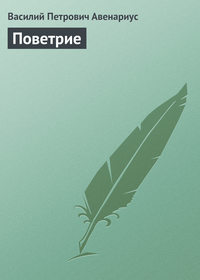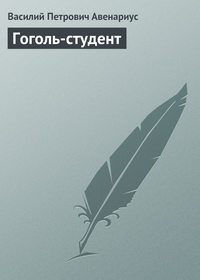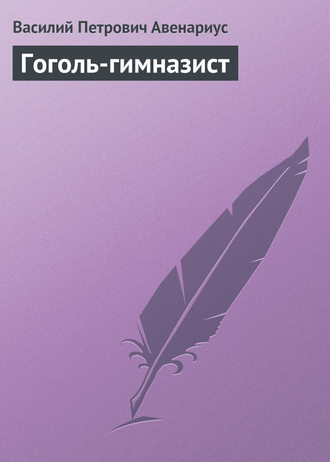
Гоголь-гимназист
– В Нежине у вас таких, небось, нет? – спросил он шепотом. – Второй пожаловал к нам только со вчерашнего вечера.
– А я к пану добродию… – раздался в это самое время в двух шагах от них развязно-почтительный голос, и они увидели около себя Левка, Васильевского приказчика, незаметно, точно из-под земли, выросшего перед ними.
Василий Афанасьевич внушительно приподнял палец:
– Т-с! Що там таке? Не видишь, что ли, что мы с панычом соловьев слушаем?
– Вижу, пане, – еще мягче, виновато отвечал Левко. – Но покупателю-москалю к спеху: нарочито с ярмонки из Яресок проездом к нам завернул и до утра еще хочет поспеть в Полтаву. Не продашь ли, пане, с поля гречиху? Первый покупатель дороже денег.
– Зачем не продать. Но мне теперь, сам посуди, до гречихи ли! Иди к пани: пускай за меня порешит дело.
– Пани тоже не до того-с: с офеней балакает. А купец-то обстоятельный: весь хлеб оглядел в поле и цену дает звычайную.
– Очень рад. Так ты, Левко, и сговорись с ним; тебе и книги в руки. Ужо мне доложишь.
– Слушаем-с, – сказал приказчик и с поклоном отретировался.
– Простите, папенька, но вы ужасно доверчивы, – позволил себе заметить Никоша. – Уходя, Левко так хитро про себя улыбнулся…
– Лисий хвост да волчий рот – верно, – согласился Василий Афанасьевич. – Но за то и хозяйские интересы блюдет, не даст покупателю себя оплести. А при мне они поделились бы в барышах: мне убыточней. Из двух зол, дружо, надо выбирать меньшее и утешать себя иным. Мало ли прекрасного на Божьем свете!.. Чу! Слышишь, дуэт-то? Какие коленца шельмецы выводят!
Два соловья, в самом деле, продолжали перекликаться удивительно звонко и искусно. Но, на беду, от большого пруда долетело громкое, ни чуть уже не мелодическое шлепанье как бы деревянным валком по мокрому белью, и оба певца разом умолкли.
– А, бисовы прачки! – вознегодовал Василий Афанасьевич. – Сколько раз повторять им, чтобы не смели полоскать там белье и пугать моих песенников. Придется опять разнести их.
Но, спустившись с сыном к тому месту пруда, откуда доносилось шлепанье, Василий Афанасьевич успел настолько уже остыть, что «разнес» ослушниц отечески-миролюбиво, и те, нимало не смутясь, стали просить пана дозволить дополоскать белье, благо соловьи и так уже перестали петь.
– Ну, кончайте на сей раз. Бог вам судья! – смилостивился сговорчивый барин. – Но напредки чтобы у меня этого уже не было!
– Не будет, пане, нет.
– Оце добре. Кстати же вот, как пойдете до дому, отнесите туда и мой заступ. А нам, сынку, не вредно, я полагаю, до ужина еще ноги промять хоть бы до Долины спокойствия, дабы успокоиться духом после сей двойной передряги с Левком и бабьем.
Глава одиннадцатая
Семейная хроника
– А славно ведь у нас тут, на лоне природы? – говорил отец сыну, когда они через огороженную плетнем широкую поляну добрались до соседнего леска, у других попросту называвшегося Яворовщиной от росшего там в большом числе явора (иначе платан или чинара), а Василием Афанасьевичем переименованного в Долину спокойствия.
– Дивно! Никуда бы носу не показал, – подтвердил сын. – И тем досадней ведь, что не нынче завтра придется опять в Ярески, на поклон к старику Трощинскому.
– Без этого, дружок, никак невозможно: надо уважить достопочтенного старца и нашего семейного рачителя. Но до времени-то, впрочем, Дмитрий Прокофьевич еще у себя в Кибинцах, на зимних квартирах.
– Что же он, папенька, так запоздал перебраться в свою летнюю резиденцию?
– А к Ольгину дню, 11 июля, ожидает, вишь, к себе дорогого, именитого гостя – князя Репнина, Николая Григорьевича: тому никак нельзя быть ко дню рождения и именин его высокопревосходительства – 26 октября; так вот Дмитрий Прокофьевич и выбрал день именин своей красавицы-племянницы Ольги Дмитриевны; вперед зазвал уже полный дом гостей. А в миргородских Афинах куда авантажней задать такой фестиваль, где и свой домашний театр…
– И вы, как всегда, будете руководить спектаклем?
– Да, без меня им не обойтись; но, экстренного случая ради, спектакль будет не с крепостными актерами, а любительский – из нашей же братии, дворян. Ставлю я своего «Простака», и сам выступаю в заглавной роли.
– Кому же ее исполнять, как не вам? Ах, папенька! У меня к вам большая просьба…
– Ну, что такое?
– Предоставьте мне одну маленькую рольку, хоть бы дьячка!
– Эк куда хватил!
– Да я в Нежине играл уже в трех пьесах, и с успехом; а нашего «Простака» знаю почти как «Отче наш». Умоляю нас, милый папенька…
– Во-первых, голубчик, роль Хомы Григоровича вовсе не такая маленькая; во-вторых, она уже обещана…
– Кому?
– Павлу Степановичу, с которым мы ее даже прорепетировали.
– О! Я его упрошу уступить ее мне. Только вы, папенька, пожалуйста, не противьтесь; он хоть упрям, как всякий хохол, но добр…
– Побачимо, побачимо, як попадется нашему теляти вовка пиймати. Странное, право, дело: от кого у тебя, Никоша, эта страсть к сцене?
– Очень странно! – рассмеялся Никоша. – Отец терпеть не может театра, а сын им только бредит! Может статься, впрочем, в нашей семье и раньше уже были записные актеры?
– Нет, Бог миловал. Род Гоголей-Яновских старый дворянский[28], так же, как и род моей покойной маменьки, а твоей бабушки, Татьяны Семеновны: по отцу своему она происходила прямехонько от Якова Лизогуба, генерал-фельдцейхмейстера Великого Петра, а по матери – от знатного шляхтича, киевского полковника Танского, который выселился из Польши также еще при Петре и со славой воевал в царском войске против шведов.
– А правду, папенька, говорят, что дедушка Афанасий Демьянович бабушку Татьяну Семеновну из родительского дома выкрал?
– «Выкрал»! Разве можно, Никоша, о родном деде своем так выражаться?
– А как же сказать-то?
– Похитил.
– Но для чего ему было похищать ее? Родители бабушки, стало быть, были против их брака?
– Стало быть. Дедушка твой хоть и был человек с образованием, потому что окончил Киевскую духовную академию и потом учительствовал, но, по мнению Семена Лизогуба, он все же, как бурсак, был не чета его, бунчукового товарища, дочери.
– Так где же те сошлись так близко без ведома родителей? Дедушка, верно, был вхож в дом Лизогубов?
– Да, он обучал детей у ближайших их соседей и так успешно, особенно языкам латинскому и немецкому, что отец Татьяны Семеновны, совсем молоденькой еще тогда барышни, пригласил его давать и ей уроки.
– Из латыни?
– А уж о сем история умалчивает; вернее же, из немецкого. Известно только, что уроки прервались внезапно: в один прекрасный день учитель переслал ученице в скорлупе грецкого ореха записочку, в коей предлагал ей руку и сердце.
– Каков дедушка-то! И бабушка тотчас согласилась?
– Не тотчас. Дело обошлось не без душевной борьбы. Но в конце концов уступила.
– И тайно обвенчалась? Точно как в романе! А родители бабушки что же?
– Что им оставалось? Положили гнев на милость.
– А что, папенька, вы позволите мне еще один вопрос, который меня, как сына, интересует более, чем всякого другого: у вас самих-то с маменькой не было романа?
Черты Василия Афанасьевича приняли торжественно-серьезное выражение. Помолчав немного, он пытливо заглянул в глаза сына и промолвил:
– Романа в смысле ряда занимательных приключений у нас не было, да и быть не могло: я был уже подростком, когда маменька твоя была еще в пеленках; а когда я к ней присватался, ей было всего тринадцать лет. До романов ли тут? Нет, то была простая, но самая светлая идиллия, какой ни Гесснеру, ни Карамзину вовек бы не выдумать.
– Все равно, папенька, расскажите, пожалуйста, как это было! Вы такой бесподобный рассказчик…
– Забавные анекдоты передавать я, точно, умею, но тут, друг мой, дело иное: глубокие, нежные сантименты, для твоего возраста недоступные…
– Но понять-то их все-таки не мудрость какая? Не такой же я малолетний! Голубчик папенька!..
– Гм… В некотором отношении тебе, молокососу, пожалуй, в самом деле небесполезно получить благовременно понятие о чистых идиллических чувствах, тем более, что – почем знать? – придется ли еще нам с тобой говорить об этом, долго ли еще проживу я?
– Что вы, папенька!
– Да, дружок, все мы под Богом ходим… С чего начать-то?
– А с первой встречи вашей с маменькой.
– Что разуметь под нашей первой встречей? Был я тогда таким вот, как ты, беспардонным школяром. Папенька мой, дослужившись до чина полкового писаря, а по нынешнему – майора, записал меня, по обычаю того времени, чуть не со дня рождения в военную службу, и семи лет я уже числился заочно корнетом. Но воспитывался я, как и папенька, в бурсе. Так-то вот мне, тринадцатилетнему бурсаку, явилась в сновидении Царица Небесная и указала мне девочку-младенца, якобы мою будущую спутницу жизни. Недолго погодя меня повезли к Трощинским в Ярески. Сам Дмитрий Прокофьевич служил тогда еще в Петербурге, и застали мы в Яресках только бабушку, Анну Матвеевну.
– Она ведь вдова его старшего брата, Андрея Прокофьевича?
– Да, и через нее-то, урожденную Косяровскую, родную тетку твоей маменьки, мы и состоим в родстве с Трощинскими. Единственный сын ее Андрей Андреевич состоял уже тогда на военной службе, и, скучая одна в деревне, она взяла к себе на воспитание шестинедельную племянницу Машеньку, дочку своего брата, Ивана Матвеевича Косяровского, служившего в то время в Орле. Как улицезрел я ее тут, младенца, так моментально признал в ней свою нареченную из вещего сна, мигом понял, что вот с кем судьба моя связана навеки… И в таковом-то непоколебимом убеждении я, подрастая и мужая, издали тихомолком наблюдал с тайным восхищением, как малютка из года в год превращалась в прелестнейшую девочку.
– Так маменька уже девочкой была хороша собой?
– Прелестна, говорю тебе! Для меня, по крайней мере, милее ее в целом мире ни раньше, ни позже никого не бывало. Но замечательнее всего была у нее нежность, белизна кожи, за которую бабушка Анна Матвеевна так и прозвала ее «белянкой».
– А у кого училась маменька?
– Читать да писать? Все у нее же – добрейшей своей тетушки. Девочка так привязалась к тетке, что горько плакала, когда отец, выйдя в отставку, потребовал ее к себе. На усиленные просьбы Анны Матвеевны он вскоре возвратил ей девочку. Но когда он затем снова поступил на службу почтмейстером в Харькове, то вторично отобрал ее у тетки. Раньше, на военной службе, он уже лишился одного глаза, и доктора настояли на том, чтобы он окончательно подал в отставку. Тут он со всей семьей, в том числе и с Машенькой, поселился на хуторе по соседству от нас.
– То-то, я думаю, вам была радость! И часто вы их там навещали?
– Вначале не так часто: отца ее стеснялся. Но однажды как-то я заехал к старику посоветоваться насчет службы в Харькове. А он давно уже прихварывал, и мысли о смерти все чаще его беспокоили. «Не о себе тревожусь, – сказал он мне тут и указал на детей, – вот моя забота». А я взглянул на Машеньку, которой в скорости тринадцать должно было стукнуть, и подумал про себя: «От одной-то я вас скоро избавлю!»
– Но тогда еще не объяснились?
– Нет, потому что искал случая сперва объясниться с ней самой.
– Так маменька по детской невинности своей ничего еще не замечала?
– Как уж не заметить? Особливо когда она, случалось, гостила у тетки в Яресках, а я ни с того ни с сего то и дело наезжал к ним, либо летним вечером, бывало, с того берега Псела музыкой ей весть о себе подавал. И выйдет она с девушками, как в старые времена боярышня с мамками, няньками да сенными девушками, погулять по бережку; а я по той стороне речки, из-под кустов, невидимым пастушком музицирую вслед за ними. Словом, новейшие Филимон и Бавкида.
– Но в конце концов-то все же изъяснились?
– Да, и сделалось оно как-то само собой. Завернул я опять к ним, будто мимоездом. Анна Матвеевна куда-то отлучилась по хозяйству, а на вопрос мой людям «Где барышня?» – вышли, мол, в сад погулять. Спустился и я в сад. Тут Машенька мне из боковой аллейки прямо навстречу. Столкнулись лицом к лицу. «Ах!» – вся, голубушка, та и вспыхнула огнем, словно почуяла сердцем, что вот когда должна судьба ее решиться, и без оглядки порх от меня вон. Я же за ней, нагнал уже доме. «Куда вы, Марья Ивановна? Погодите же меня». Остановилась, еле дух переводит и глаз поднять не смеет. «Разве я такой уж страшный?» Молчит, сама как лист дрожит. Жаль мне ее стало, бедненькую, ободрить хотелось. «Слышали вы намедни мою музыку?» – говорю. «Слышала…» А у самой углы милого алого ротика, знай, подергивает, точно слезы близко. «Что же, верно, не понравилось?» – «Понравилось. Но…» Запнулась и опять замолкла. – «Но что же-с?» – «Больше слушать вас мне никак нельзя-с». – «О! это почему же?» – «Потому что, когда я рассказала про вашу музыку тетеньке, она строго-настрого запретила мне ходить так далеко от дому…» И на ресницах у девоньки моей заблистали две слезинки. Тут я уже не вытерпел, взял ее за ручку. «Милая Машенька! – говорю. – Скажите-ка по душе: любите вы меня или нет?» – «Люблю-с… – говорит, – как всех людей». – «Как всех? Ничуть не больше?» – «Н-нет-с». И отдернула ручку. В разговоре нашем мы так и не заметили, как вошла в комнату Анна Матвеевна. «Что у вас тут, милые мои? – говорит, а сама улыбается». Вспорхнулась Машенька – и была такова. У меня же вопрос был решен бесповоротно, и я тут же изложил Анне Матвеевне, что так, мол и так, желал бы связать судьбу свою с судьбой ее племянницы вечными узами, да вот еще сомневаюсь в ее чувствах. «Не сомневайтесь, друг мой, – сказала мне добрая Анна Матвеевна. – Машенька уже призналась мне как-то, что без вас скучает, что чувствует к вам что-то особенное». – «Но любит ли она меня?» – «Об этом спросите ее сами». – «Сейчас вот только справлялся и получил в ответ, что „любит, как всех людей, ничуть не больше“». – «Ну, это было сказано со страху», – объяснила с улыбкой Анна Матвеевна. – «Чего же ей бояться?» – «А я ее, видите ли, напугала, что все вы, мужчины, прелукавый народ…»
Василий Афанасьевич остановился в своем рассказе и тихонько про себя засвистал.
Когда сын вопросительно поднял глаза, то увидел, что отец, погруженный в приятные мечтания, с блаженной улыбкой загляделся куда-то вдаль.
– Это, папенька, вы какую мелодию свищите? – полюбопытствовал мальчик. – Не ту ли, которой вы с того берега маменьке о себе весть подавали?
– Ту самую… Нет для меня ее милее!
– А дальше что же было?
– Дальше?.. Все как по-писанному. Анна Матвеевна не замедлила съездить к отцу Машеньки и получить его согласие. Свадьбу отложили еще на год, чтобы невесте было хоть четырнадцать дет, да чтобы было когда приданое изготовить.
– И сама она ничего уже не возражала?
– Возражала одно: что подруги, дескать, смеяться станут: «Такая маленькая и уже замуж идет!» Но когда нас сговорили, она всякий раз была очень рада моим приездам. Письма же мои не решалась еще распечатывать, а передавала отцу.
– А отец?
– Отец перечтет, бывало, да с усмешкой возвратит ей: «И откуда у молодчика все эти сладости берутся? Видно, романов начитался!»
– Но дочери сладости ваши приходились, верно, по вкусу?
– О да! Она носила мои письма всегда при себе на груди; а когда вышла замуж, то перевязала розовым шнурочком и спрятала в комод на самое донышко потайного ящика, где они и доныне у нее хранятся.
– Вот бы взглянуть, право: как вы, папенька, тогда в чувствах изъяснялись! Я непременно попрошу маменьку показать мне.
– Не беспокойся, не покажет: это для нее такая реликвия, которой еще никто другой не видел. Как-то раз сам я хотел их изорвать, так с ней чуть истерики не сделалось.
– Значит, очень уж сердечно написаны?
– Видно, что так. Чем долее отлагалась свадьба, тем сильнее разгоралось мое сердце. Та же буря, что задувает маленькое пламя, пуще раздувает большое.
– И где же вас наконец повенчали? В Яресках?
– Да, у тетки. У нее же я должен был покамест и женочку свою оставить; после чего она еще у отца погостила. Я же часто наезжал к ней из Васильевки от моих собственных родителей, которые оба были тогда еще живы. Спустя месяц, мои родители съездили за своей богоданной дочкой. Она была ведь еще полуребенок, но так мила, что старики мои не могли налюбоваться, надышаться на нее. Особенно покойная маменька нянчилась с ней, обряжала ее, как куколку, в свои лучшие платья, не давала ей пальцем коснуться хозяйства…
– Оттого-то, должно быть, наша маменька и до сегодняшнего дня не так-то практична.
– Ну, ну, ну, сделай милость! – обиделся за свою Машеньку старый романтик. – Однако солнышко-то, смотри-ка, совсем спряталось, а вечерняя звезда вон домой нам дорогу кажет: ужинать, мол, пора.
Действительно, когда они, вернувшись, вошли в столовую, Марья Ивановна уже хлопотала около накрытого стола.
– Слава тебе, господи! – вздохнула она с облегчением. – Где это вы пропадали? Верно, опять, гуляя, заболтались?
– Заболтались, жиночку, заболтались, – весело отозвался Василий Афанасьевич. – Да ведь и тема же какая!
– Какая?
– Богатейшая – наш собственный с тобой роман супружеский.
– Полно тебе, Василий Афанасьевич, при сыне глупости говорить! – со степенным видом заметила Марья Ивановна. – Да куда это девочки опять запропастились? Машенька! Анненька! Лизонька! Олечка! Где вы?
– Не глупости, матинько, а святая истина, – с чувством говорил Василий Афанасьевич. – Ну, не сердись, душенька, поцелуй меня!
– Я не сержусь, – отвечала Марья Ивановна, послушно целуя мужа.
На эту идиллическую сцену влетели в горницу четыре маленькие зрительницы – дочери.
– Папенька с маменькой целуются! Папенька с маменькой целуются! – заликовали они на весь дом и как козочки запрыгали вокруг обнявшихся родителей.
Марья Ивановна, сконфузясь, поспешила оттолкнуть от себя мужа.
– Вот видишь ли! – укорила она его. – Ты все со своими нежностями! А галушки тем временем совсем, пожалуй, разварились. Эй! Кто там? Подать поскорее галушки!
Глава двенадцатая
Генеральная репетиция «Простака»
Накануне Ольгина дня, десятого июля, Гоголи – отец с сыном – двинулись в своей родовой желтой коляске в Кибинцы на предстоящий семейный праздник Дмитрия Прокофьевича Трощинского. Была у них еще третья спутница, но не Марья Ивановна, чуждавшаяся большого общества, а близкая соседка их, Александра Федоровна Тимченко, барышня лет двадцати двух – двадцати трех. Крайне застенчивый с другими барышнями, Никоша обходился с Александрой Федоровной без всякого стеснения и шутя называл ее «сестрицей», потому что знал ее еще с малолетства, когда она долгое время провела у них в Васильевке. Александра Федоровна, простая, скромная провинциалка, при чужих также стушевывалась. С близкими же людьми ее веселый нрав выступал наружу. Так она охотно смеялась над всякими пустяками, охотно переряжалась на святках – даже в мужское платье, и однажды, одевшись евреем, чрезвычайно типично изобразила и речью, и ухватками, как Ицка пьет водку. Подражательная способность ее подала мысль Василию Афанасьевичу – завербовать талантливую барышню для своего любительского спектакля, в котором для себя предназначил главную мужскую роль, а для нее – главную женскую. Сама Александра Федоровна, не будучи вхожа в дом «кибинцского царька» как (титуловался теперь бывший министр юстиции в целом околотке), втайне, однако, давно жаждала хоть раз-то заглянуть в его «царские чертоги», увидеть во всем блеске собирающуюся там местную знать. Поэтому Василию Афанасьевичу не стоило особенного труда склонить ее принять участие в спектакле.
– За роль-то свою я не боюсь, признавалась она своим двум спутникам, – притом мы с вами, Василий Афанасьевич, столько раз прошли уже пьесу, а ведь в театральном костюме, вперед знаю, я буду чувствовать себя гораздо развязнее, точно я – не я, а совсем другая, но все-таки как-то жутко, невольно сердце сжимается, когда попадешь в первый раз в жизни в самые сливки общества…
– Не просто в сливки, а в сметану, – подхватил Никоша, – потому что «кибицский царек» чем не сметанный?
– Благодетеля своего, Никоша, сделай милость, не порочь, – серьезно внушил сыну Василий Афанасьевич. – Во-первых, это и неблагодарно: по его только могучему представительству ты освобожден в гимназии от учебной платы по тысяче двести рублей в год – легко сказать! А во-вторых, что мы с тобой, скажи, перед ним, сановным царедворцем? Песчинки малые!
– Вы-то сами не песчинка, – позволила себе возразить Александра Федоровна, – вы были, кажется, когда-то даже его личным секретарем?
– Был; да что секретарь этакого государственного деятеля? Бледная тень его. И мне, привыкшему здесь, в деревне, с младых ногтей к воле, было, признаться, все же отрадней оставаться самим собой, хоть и малым человеком, чем креатурой, ласкателем мужа, хотя бы и нарочито цесарского. Затем-то, при всем моем высокопочитании к его высокопревосходительству, я в скором времени уволился от секретарства.
– Вот, видите ли! А теперь он опять в вас нуждается: вы – его правая рука при всех домашних торжествах.
– И за честь почитаю! Другого подобного ему замечательного человека во всей нашей Украине с фонарем поискать. Муж разума глубокого и куда как искусный в гражданских вещах, сам пробивший себе дорогу до первых шаржей. Дворянство свое Трощинские хоть и доводят до шестнадцатого века, но, подвергшись разным превратностям, долго обретались не в авантаже. У родителей нашего Дмитрия Прокофьевича имелась только маленькая благоприобретенная землица, часть нынешних Яресок.
– Так детство свое Дмитрий Прокофьевич провел, значит, в Яресках?
– Да, вместе с тремя старшими братьями, пока его не отдали в киевскую семинарию, а затем и в академию, откуда он был выпущен с отличием. Счастливая звезда стояла над ним; то было время первой Турецкой войны при Великой Екатерине, и судьба закинула его в наш полковой штаб в Яссах. Здесь он скоро выдвинулся среди других гражданских чинов штаба, и генерал-аншеф князь Николай Васильевич Репнин, полномочный посол наш в Константинополе, сразу его отличил, полюбил и взял к себе в правители канцелярии. С этой ступени Дмитрий Прокофьевич зашагал все выше да выше – до министра уделов, а потом и юстиции. Когда же он, меж двух министерских постов, отдыхал здесь, в Кибинцах, на заслуженных лаврах, полтавское дворянство избрало его в губернские маршалы. С почетом пришли сами собой и земные блага.
– То-то он так роскошно, говорят, устроился в своих чертогах.
– Не столько роскошно, сколько с толком и со вкусом: завел себе громадную библиотеку, множество драгоценных картин знаменитых мастеров, всякого рода коллекции – оружия, монет и медалей, разные редкости, как, например, подлинные фарфоровые часы, подсвечники и бюро злополучной королевы Марии-Антуанетты… Как был он весь свой век покровителем окружающих, заслужил прозвание «бича справедливости и защитника бедных», так под старость сделался покровителем искусств, новым Периклом в миргородских Афинах.
– Этакий ведь счастливец!
– Счастливец? – со вздохом повторил Василий Афанасьевич и, понизив голос, чтобы кучер и слуга на козлах не расслышали, прибавил: – А все-таки, между нами сказать, я, безвестный и небогатый человек, не поменялся бы с этим счастливцем!
– Отчего же нет?
– Оттого, что он одинок как перст: ни жены, ни детей. Есть у него, правда, племянник, Андрей Андреевич, тоже генерал и прекрасный человек, а все только сын брата, не свое родное детище! И все радости земные ему не в радость. Одной ногой к тому же в гробу стоит: не для себя бы уж жить – для своих; а своих-то и нет… Бедный богач! Несчастный счастливец!
В таких разговорах наши путники незаметно добрались до цели своего путешествия. Уже смеркалось, но из-за пышной зелени раскидистых дубов, лип и грабов, окружавших «кибинцские чертоги» (двухэтажное и деревянное, но очень видное здание), приветливо мелькали им многочисленные огни, заманчиво доносились стройные звуки домашнего оркестра.
– Вечная сутолока, вечный праздник! – заметил Василий Афанасьевич. – Гостей и теперь уже, поди, не обобраться.
И точно: когда коляска их вкатилась в обширный двор усадьбы, отовсюду обставленный флигелями и службами, под большим навесом в глубине двора можно было заметить несколько пыльных дорожных экипажей – карет-рыдванов, дормезов.
– Куда, куда! – крикнул Василий Афанасьевич кучеру, повернувшему было к главному подъезду. – Вот туда, к моему флигельку!
«Своим» он называл флигелек, в котором для него с семейством раз навсегда были отведены три горницы.
– А мне, Василий Афанасьевич, как же быть-то? – спросила Александра Федоровна вдруг упавшим голосом. – Меня здесь ведь не ждут… Я готова, право, вернуться домой…
– О! на этот счет не тревожьтесь. Я сейчас познакомлю вас с молодой супругой Андрея Андреевича, Ольгой Дмитриевной: она здесь временно на правах хозяйки и особа премилая, ничуть не гордая.