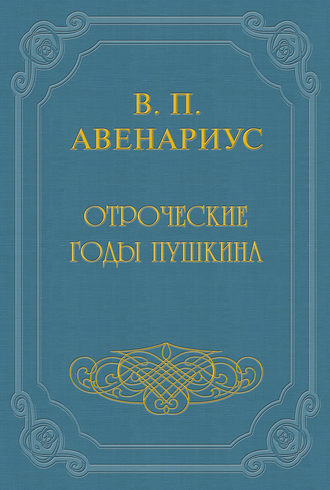
Отроческие годы Пушкина
– А позвольте-ка еще раз взглянуть на вашего знаменитого братца, – приступал он, бывало, к профессору и без дальних околичностей отбирал у него табакерку. – Вон ведь какой молодец из себя и совсем не страшный на вид! Как это его угораздило тогда?.. Ах, расскажите, пожалуйста, мосье, как это было?
– Да я уж не раз говорил вам…
– Ну, пожалуйста, дорогой Давид Иванович, расскажите еще раз! – подхватывал хором весь класс.
И Давид Иванович, не совсем довольный, но тем не менее с необыкновенным одушевлением повествовал опять о кровавых деяниях своего покойного брата.
– Так не потому ли вы и фамилию-то свою переменили? – спрашивал Пушкин.
– Воля государя императора! – отвечал Марат де Будри, возводя очи к потолку с выражением покорности судьбе.
А табакерка с кровопийцей Маратом между тем гуляла уже по скамьям из рук в руки, и вдруг все 30 школьников зараз разражались неумолкаемым чиханьем и взаимными пожеланиями:
– Будь здоров!
– А тебе сто годов, нажить сто коров, лошадей табун, самому карачун!
– Брысь под печку!
Тут добряк француз уж начинал терять терпение и говорил:
– Но ведь вы, друзья мои, весь табак у меня вынюхаете!
– А мы вам нового купим, – утешал Пушкин. – Господа! Сделаемте складчину и купим мосье куль табаку!
– Купим! Завтра же купим! – весело соглашались остальные шалуны.
– Ну, будет, милые мои, довольно, натешились! – серьезно останавливал их почтенный старичок и приступал к уроку, не допуская затем уже никаких шуток.
За эту его незлобивость и обходительность, а еще более за его многосторонние познания и житейскую опытность лицеисты скоро привыкли не только любить, но и уважать своего француза. У него был дар в простой дружеской беседе передавать воспитанникам всевозможные научно-практические сведения, собранные им в течение своей продолжительной и довольно бурной жизни. Так, благодаря ему, лицеисты не только стали вскоре бойко объясняться по-французски, но даже приобрели более широкий и более ясный взгляд на жизнь. Де Будри и Куницын шли как бы об руку в деле их развития: тот носился с ними в заоблачных высях «нравственных наук», а де Будри любовно и бережно спускал их опять на твердую житейскую почву.
Если, таким образом, было сделано все, что возможно, для правильного умственного роста лицеистов, то не менее было приложено забот и к телесному их развитию. Обед их состоял из трех сытных, ужин – из двух легких блюд. В праздники прибавлялось еще четвертое блюдо. Повар лицейский, в первые, по крайней мере, годы, был мастер своего дела; даже такие заурядные кушанья, как щи да каша, в его образцовом приготовлении представлялись лицеистам чуть ли не верхом кулинарного искусства.
С понедельника в столовой вывешивалось уже расписание блюд (меню) на целую неделю, так что мальчики могли наперед меняться между собой порциями любимых каждым из них кушаний. Развитию в них аппетита не мало также способствовали чередовавшиеся с классными их занятиями комнатные игры и прогулки на воздухе, которые, кстати заметить, никогда – даже и в дурную погоду – не отменялись: после утренней молитвы и стакана чаю с крупитчатой булкой воспитанники, просидев с 7-ми до 9-ти часов в классе, отправлялись гулять. Возвратившись к 10-ти часам домой, они до 12-ти отсиживали опять за уроками, потом до 2-х часов совершали вторую прогулку, обедали, а после обеда резвились в рекреационном зале. С 2-х до 3-х часов они как бы отдыхали от моциона, занимаясь только чистописанием или рисованием, после чего, до 5-ти часов, шли опять научные уроки. Этим заканчивалась их обязательная классная работа. В 5 часов, напившись снова чаю с полубулкой, они шли гулять в третий раз; затем должны были готовить уроки к следующему дню. В половине 9-го звонок сзывал их к ужину, после которого, вплоть до 10-ти часов, им предоставлялось делать что угодно: читать, играть или болтать. День как начинался, так и заканчивался общей молитвой. Разойдясь по своим дортуарам, донельзя усталые от учения и шалостей, мальчуганы засыпали тотчас, как убитые. А завтра опять то же и в том же порядке.
Да, это было своего рода сложное машинное колесо, которое только благодаря постоянной, аккуратной смазке и приставленным к нему опытным механикам могло вращаться изо дня в день, из года в год, без запинки. Кто мог предвидеть те сцепления.
Глава XI
Первая «проба пера»
Ну, женские и мужеские слоги!Благословясь, попробуем: слушай!Равняйтеся, вытягивайте ногиИ по три в ряд в октаву заезжай!Не бойтесь, мы не будем слишком строги…«Домик в Коломне»Однажды, в самом начале еще учебного курса, послеобеденный урок российской словесности у профессора Кошанского окончился минут за 20 до звонка. Профессор, довольный удачными ответами учеников, сошел с кафедры и, с лукавой улыбочкой потирая руки, объявил им:
– Ну-с, государи мои, на сих днях еще заставил я вас в особину занотовать себе стишок великого нашего Гаврилы Романовича[11]:
Всем смертным славолюбье сродно,Различен путь лишь и предмет:И в бочке циник благородноВелел царю не тмить свой свет.А ведомо ли вам, что имел я сим в предмете? Навести вас на то, в чем всякому истинному любителю изящных письмен надлежит полагать высшее свое удовольствие. Доселе версификацию познали вы лишь по образцам и примерам. Для вящего вашего в ней усовершенствования не угодно ли вам теперь самим оседлать парнасского коня, проще сказать – испробовать ваши перья?
– Нам стихи писать, Николай Федорыч? – озадаченно переглядываясь, спрашивали лицеисты.
– А вы думаете, Державин не был разве таким же мальчишкой, да еще и моложе вас? Вы же имеете перед ним тот великий шанс, что его зрелая Муза может служить вам неистощимым кладезем для почерпнутия потребных вдохновению вашему материй.
– Да никто из нас никогда еще не писал стихов…
– Я писал! – отозвался тут неожиданно один из лицеистов, Илличевский.
Илличевский этот, сын томского губернатора, воспитывался до лицея в единственной в то время петербургской гимназии (ныне 2-й, что на Казанской). Пример губернатора-отца и прирожденная сметливость развили в нем раннюю самостоятельность, а артистические наклонности еще в гимназии побуждали его испытывать свои силы во всех искусствах. Попав в лицей, он разом выдвинулся между лицеистами как хороший чтец, рисовальщик, заправила всяких школьных игр. А теперь вдруг он оказывался еще и поэтом!
Соревнование с ним подзадорило тотчас две другие поэтические натуры.
– И я тоже пописывал стихи, хотя пока одни французские, – заявил Пушкин.
– А я немецкие! – подхватил Кюхельбекер.
– Ну, уж не ври, пожалуйста, – вмешался Гурьев, – верно, чухонские?
– Я вас, Гурьев, сию минуту выпровожу вон, – строго заметил профессор. – А вы, Кюхельбекер, на зубоскальство его и дурачество не обращайте внимания. Буде в вас точно горит священный пламень, таковой превозможет и трудности чуждого вам русского языка. Благо, представляется вам к тому вожделенный случай. Итак, господа, на первый раз опишите мне стихами предмет общеизвестный – цветок розу.
Писание началось, перья заскрипели. Но первые стихи приходились лицеистам куда солоны. Скрипели перья не столько от сочиняемых, сколько от зачеркиваемых строк, и скрип их прерывался только вздохами и перешептыванием совещавшихся между собой писак. Кошанский, заложив за спину руки, ходил взад и вперед между скамьями, оглядывая пишущих направо и налево с самодовольно-снисходительной улыбкой.
– Что же, други милые, не осеняет свыше? И вы, Илличевский, даром, я вижу, похвалились?
– По заказу, Николай Федорыч, никак невозможно, – отговорился тот, почесывая себе переносицу бородкой пера.
– А я готов! – объявил Пушкин, вскакивая с места.
– Готовы-с? На французском диалекте-с?
– Нет, по-русски.
– Скоренько, сударь мой. Есть у нас пословица русская: «Скоро, да не споро». Ну что же-с, послушаем ваше произведеньице. Прочитайте-ка вслух: заслужит одобрения – порукоплещем, не заслужит – головы не снимем с плеч. Повесьте, господа, уши ваши на гвоздь внимания! – как прекрасно сказано некиим древним мудрецом.
Зараженные насмешливостью профессора, лицеисты заранее уже пофыркивали. Казалось, Пушкину стоит только рот раскрыть, как слова его будут заглушены громогласным хохотом. Покраснев и сердито косясь на соседей, Пушкин с чувством прочел следующее:
Где наша роза,Друзья мои?Увяла роза,Дитя зари.Не говори:Так вянет младость!Не говори:Вот жизни радость!Цветку скажи:Прости, жалею!И на лилеюНам укажи.Что сталось с шалунами-слушателями? Отчего же никто из них не хохочет, отчего усмешка у каждого так и застыла на губах?
Дельвиг, всегда такой безучастный, холодный, первый выразил свое одобрение:
– А ей-Богу, премило!
Он, видимо, выразил общее впечатление, потому что с ним сейчас же согласились и другие:
– И то, очень даже недурно. Ай да Француз!
Все взоры обратились на профессора, в ожидании, что он скажет. Но тот, насупясь, промычал только «гм…» и взял из рук Пушкина его тетрадь. Вполголоса перечтя стихи вторично, он пристально посмотрел на маленького автора.
– Скажите-ка по чистой совести, Пушкин: у кого это вы позаимствовали?
Пушкин так и вспыхнул.
– Я, господин профессор, не стал бы выдавать чужих стихов за свои!
– Не распаляйтесь, любезнейший. Амбиция здесь не у места. Я спросил только потому… потому что… Гм… Гм…
И Кошанский, в такт кивая головой, принялся перечитывать стихи в третий раз.
– Нет у вас еще подобающей выспренности, да и идейка не совсем вытанцовалась, – наконец высказался он, – но для первого дебюта стишки, право, хоть куда. Однако, дабы вы не слишком о себе возмечтали, я возьму их с собой.
Он вырвал страницу из тетради и, сложив ее вчетверо, опустил в боковой карман.
– Когда-нибудь, быть может – как знать?.. вы станете нашим «великим национальным поэтом», – добавил он, добродушно усмехаясь, – тогда я сочту долгом преподнести вам на серебряной тарелочке любопытства ради сей первобытный ваш поэтический лепет.
Раздавшийся из коридора звонок прервал на этот раз дальнейшие упражнения в стихотворстве. Зато толки по поводу их теперь только разгорелись; едва лишь Кошанский скрылся за дверью, как вся орава маленьких стихотворцев обступила Пушкина и со смехом принялась поздравлять его как будущего «великого национального поэта».
– Дай приложиться к тебе, душоночек ты мой! Дай набраться от тебя этого «выспренного» духа! – с притворной нежностью говорил Гурьев и полез уже целоваться.
Пушкин грубо оттолкнул его.
– Терпеть не могу лизаться!
Тот показал вид, будто не обиделся, и даже сейчас предложил:
– Ну, так покачаемте его, братцы!
И не успел Пушкин очнуться, как, подхваченный разом десятками рук с криками «ура!», очутился уже в воздухе.
– Ты, Гурьев, право, хоть кого выведешь из терпения! – заметил он, когда наконец стал опять на ноги.
– Да ведь я только за ноженьку твою подержался, только за самый кончик сапога! – отшутился Гурьев.
– А ну его! – сказал Пушкину Дельвиг и насильно увел его с собой. – У меня, знаешь ли, есть до тебя большая просьба…
– Что такое?
– Продиктуй мне, сделай милость, свою «Розу».
– Ты, Дельвиг, туда же, насмехаться вздумал надо мной?
– Нет, честное благородное слово, стихи твои мне так понравились, что я хотел бы хорошенько раз-другой еще перечесть их.
– Ты, значит, тоже охотник до стихов?
– Страстно люблю их, и сам даже…
– Сам даже пишешь?
– Да, грешен…
А кравшийся следом за ними Гурьев уже подслушал их и громко захлопал в ладоши:
– Ха-ха-ха! хи-хи-хи!
И наш Дельвиг пишет стихи!
Ай да я! Недаром, видно, за сапог подержался. Этак, чего доброго, скоро у нас пол-лицея попадет на Парнас. Так ведь, кажется, Пушкин, прозывается наша будущая квартира?
Гурьев не подозревал, конечно, что шутливое предсказание его вполне сбудется. Стихотворные или, по выражению Гурьева, «смехотворные» уроки Кошанского с тех пор регулярно повторялись, и чем далее, тем глаже и звучнее выходили стихи, особенно у Пушкина. Но так как Кошанский придавал в стихах наибольшее значение «выспренности», и так как Илличевский в этом отношении довольно удачно подражал Державину, то ему, Илличевскому, профессор долгое время отдавал предпочтение даже перед Пушкиным, стихи которого, по мнению Кошанского, были чересчур «легки». Впрочем, для обоих поэтиков стихотворство было пока еще простою забавой, «игрою в рифмы»; в погоне за первенством в этой игре они взялись раз, уже вне класса, сочинить каждый по рыцарской балладе (в ту пору баллады Жуковского вошли только что в моду). Но задача оказалась им еще не по силам, и ни тот, ни другой не довел своей баллады до конца.
Зато в стихотворных насмешках над товарищами и воспитателями неопытная, но шаловливая Муза их принесла в первое же время обильные, хотя и далеко недозрелые плоды. Так, с особенным увлечением все лицеисты распевали сочиненный общими силами на известный современный мотив длиннейший романс, в котором чуть ли не каждому обитателю лицея было отведено по куплету. Новые куплеты появлялись нежданно-негаданно, как грибы после дождя, вслед за обстоятельствами, вызвавшими их, и тут же в компании дополнялись, закруглялись, так что доискаться первоначального автора их затруднились бы и сами лицеисты.
Раз профессор математики Карцов изловил Пушкина во время урока за чтением посторонней книги и выпроводил его из класса. И вот, на следующее же утро, это великое событие увековечилось новым куплетом:
А что читает Пушкин? —Подайте-ка сюды!Ступай из класса с Богом,Назад не приходи.В другой раз заучиваемые лицеистами вдолбежку правила ненавистной им немецкой грамматики и плохой выговор столь же нелюбимого преподавателя, Гауеншильда, послужили благодарною темой для следующей стихотворной нелепицы:
Скажите мне шастаны,Как, например: wenn so,Je weniger und desto —Die Sonne scheint also.Ознакомить с этим перлом лицейской Музы самого Гауеншильда озаботился бедовый Гурьев, который, не сочинив сам на своем веку ни одной строки (кроме разве вышеприведенного двустишия на Дельвига), не обладая ни малейшим музыкальным слухом, то и дело мурлыкал, однако, про себя наиболее задорные стихи, особенно в присутствии того именно лица, которого они касались. К Гауеншильду он даже прямо подъехал с вопросом:
– А слышали вы, господин профессор, новый романс великого земляка вашего Шиллера?
– Какой романс? – недоумевая, переспросил тот.
– О, прелесть, я вам доложу! Послушайте!
И, по обыкновению фальшивя, школьник с одушевлением пропел вышеприведенный полунемецкий «романс».
– Как вы смеете!.. – напустился на него немец.
– А разве это не Шиллера? – с самой наивной миной выразил удивление Гурьев. – Как же Кюхельбекер клялся мне всеми германскими богами? Эй, Вильгельм Карлыч, пожалуй-ка сюда на расправу!
Гурьев, как всем было известно, пользовался особенным благоволением надзирателя Пилецкого, которого он успел окрутить кругом своим притворным смирением и заискивающей услужливостью. Поэтому Гауеншильд, пожав плечами, ограничился только тем, что обещал сбавить озорнику два балла в поведении, но предупредил, что если услышит хоть раз еще Шиллеров романс, то виновному уже несдобровать. Вскоре ему, действительно, пришлось привести в исполнение угрозу; но ловкий Гурьев, как всегда, отвел удар с своей больной головы на чужую, здоровую. Он побился об заклад с Пушкиным на чайную булку, что тот не посмеет при Гауеншильде пропеть знаменитой песни. Подзадоренный Пушкин на следующем же уроке немецкого языка затянул ее вполголоса. Гауеншильд, как ужаленный, вскочил с кресла и окинул мальчиков с кафедры грозным взглядом.
– Это кто? Опять вы, Гурьев?
– Нет, не я.
– Конечно, вы. Нынче же вы будете на черной доске!
– Вот вам Христос, г-н профессор, не я! – уверял Гурьев, крестясь, причем в голосе его слышались слезы. – Если на то пошло, то я могу даже сказать – кто.
– Фискал! – презрительно заметил Пушкин и поднялся с места. – Это я, г-н профессор.
– Я так и знал: либо Гурьев, либо вы! Значит, на черной доске будете вы, а теперь убирайтесь-ка оба вы с Гурьевым вон из класса!
– Изыдите, изыдите, нечестивые! – хором загорланил весь класс.
Профессор в отчаянии замахал руками и оставил всех без третьего блюда, а имя Пушкина в тот же день было написано крупными буквами на так называемой «черной доске».
Все наказания лицеистов делились на четыре степени: первою, легчайшею, считалось отделение провинившегося за особый, «черный» стол в классе; второю – черная доска; третья – заключалась в оставлении на хлебе и воде не долее двух дней; наконец, четвертая – в «уединенном заключении», т. е. в карцере.
С этим последним наказанием довелось ознакомиться на деле и Пушкину вместе с пятью другими лицеистами на второй же месяц пребывания их в лицее, и вот по какому случаю.
Глава XII
Штрафной билет
Златые дни! Уроки и забавы,И черный стол, и бунты вечеров…«19 октября»Занес же вражий дух меняНа распроклятую квартеру!«Гусар»В свободное от классных занятий время лицеисты, как уже было упомянуто, обязаны были говорить между собой на одном из иностранных языков. Но как было заставить их исполнять это и тогда, когда никого из начальства не было поблизости?
Разрешить такую мудреную задачу удалось, по-видимому, все тому же профессору Гауеншильду, а надзиратель Пилецкий успел склонить и директора Малиновского испробовать предложенную меру. Состояла она в том, что одному из воспитанников вручался штрафной билет, который он должен был передать товарищу, изобличенному им в разговоре по-русски; этот, в свою очередь, тем же порядком должен быть сбыть билет третьему, третий – четвертому и т. д., пока билет не обойдет всех нарушителей запрета. Последний, у кого под конец дня оказывался билет, в искупление общей вины подвергался определенному наказанию.
Мера эта, однако, не всегда достигала цели. Иной раз билет к вечеру пропадал бесследно, и отыскать виновного в пропаже было положительно невозможно. Тогда оставалось одно – привлечь к ответственности весь класс, лишив его, например, сладкого блюда. Но в этих случаях наказанных выручал всегда с избытком провиантмейстер Леонтий Кемерский, который приносил взамен недополученного казенного слоеного пирожка или клюквенного киселя (разумеется, за соответствующее денежное вознаграждение) какое-нибудь другое лакомство.
Но чаще случалось, что штрафной билет оставался преспокойно вплоть до вечернего чая в кармане того, кому он был дан поутру. Зато после чая и после третьей прогулки между школьниками начиналась настоящая травля: билет в несколько минут переходил десятки рук и в конце концов подсовывался тайком к какому-нибудь зеваке или перед самым ужином пришпиливался булавкой на спину неизменного козла отпущения – Кюхельбекера. Когда же тот по хохоту окружающих догадывался в чем дело и, отцепив своими длинными руками билет от спины, передавал его одному из тех, кто говорил в эту минуту по-русски, то все наотрез отказывались принять его.
– Нет, брат Кюхля, шалишь! Но, чур, ни гугу, не фискалить!
И добросовестный Кюхля, ворча только что-то себе под нос по-немецки, покорялся своей неизбежной участи.
Однажды, в день «французский», билет был вручен поутру «французу» Пушкину. Каково же было удивление надзирателя Пилецкого, когда, на вопрос его за ужином: у кого билет, – тот оказался у Пушкина.
– Это решительно загадка для меня! – сказал, разводя руками, Пилецкий. – Ведь вы, Пушкин, болтаете по-французски чуть ли не лучше, чем на родном языке?
– Да он, Мартын Степаныч, никому и не передавал билета! – смеясь, разрешил загадку Гурьев.
– Что?! Не передавал? Правда это?
– Правда, – подтвердил Пушкин.
– Это что значит? Или вы никого не успели уличить в русской речи?
– Не то что не успел, но не считал нужным.
– Как? Повторите!
– Очень просто – забыл про билет, Мартын Степаныч, – выступил теперь уже на защиту приятеля Гурьев.
– У вас, Гурьев, я знаю, сердце премягкое, как вот этот бобер, – похвалил любимца своего Пилецкий, ласково проводя рукой по коротко остриженным шелковистым его волосам. – Пушкин же при всей своей строптивости имеет одно хорошее качество: он прямодушен, не умеет лукавить. Поэтому я уверен, он сам сейчас признается, точно ли забыл про билет или нарочно оставил его у себя.
– Нарочно, сознаюсь! – коротко отрезал Пушкин.
Тонкие губы надзирателя сложились в знакомую уже лицеистам, не обещавшую ничего доброго улыбку, в маслянистых глазах его загорелся зловещий огонек, а резкий голос его принял неестественную нежность.
– Вы, миленький мой, стало быть, нарочно не исполняете возложенной на вас начальством обязанности? – спросил он.
– Если обязанность моя – быть Иудою – предателем товарищей, то я не в состоянии исполнять ее! – был гордый ответ.
– Браво, Пушкин! – раздалось тут с другого конца стола.
Пилецкий круто обернулся: то был Пущин.
– Прокофьев! – холодно крикнул он дежурного дядьку. – Этих двух молодцов ты сейчас же отведешь на сутки в карцер.
– Слушаю-с, ваше высокоблагородие, – отвечал дядька. – А ужина нельзя им докушать-с?
– «Сейчас», сказано тебе. Не слышал, что ли? А вы, голубчики мои, перестаньте-ка кушать. Прокофьев ужо доставит вам ваш заслуженный десерт: хлебца краюху да ключевой водицы.
Два приятеля, обменявшись дружелюбным взглядом, молча встали из-за стола, чтобы следовать за дожидающимся их Прокофьевым. Но тут совсем неожиданно поднялся также один из самых скромных и послушных лицеистов, барон Дельвиг, и почтительно, как всегда, обратился к надзирателю с просьбой:
– Я, Мартын Степаныч, одного с ними мнения на этот счет, так позвольте уж и мне идти с ними.
Мартын Степанович был видимо поражен. Как поступить с маленьким наивным бароном, который, собственно, ни в чем ведь не провинился? Помолчав немного, он заговорил наставительно и кротко:
– Вы, милейший барон, при малых успехах в науках отличались до сих пор примерным благонравием, и нет никакого сомнения, что теперь вы повинуетесь только внушению вашего доброго сердца…
– «О, дружба, это ты!» – вмешался опять Гурьев. – Ведь они, Мартын Степаныч, оба – поэты, их и водой не разольешь.
Пилецкий потрепал шутника по пухлой щеке.
– Адьютантик мой! – и с вызывающей усмешкой оглядел затем весь стол. – Может быть, между вами, господа, найдутся и другие поэты?
– Да вот Кюхельбекер, – отрапортовал адъютант.
– Да, и я поэт! – не отрекся тот.
– И желали бы тоже посидеть на хлебе и водице?
Гурьев от удовольствия даже заржал:
– Униженно вас просит! Что, брат Вильгельм, влопался как кур во щи?
– Экая ведь дрянь этот Гурьев! – подал теперь голос и Илличевский. – Предлагаю, господа, не говорить с ним до будущей недели.
– Это уж заговор какой-то! – воскликнул надзиратель. – Вы, Илличевский, также отправитесь в карцер.
Илличевский со сдержанной улыбкой отвесил поклон.
– Как прикажете. Вот Корсаков тоже просится в компанию с нами.
Пилецкий от изумления даже рот разинул и остолбенел. Если Пущин и Дельвиг примкнули к Пушкину по какому-то ребяческому влечению; если Кюхельбекер «влопался» по оплошности, то два последних заговорщика, очевидно, заразились только сию минуту заносчивостью Пушкина, потому что Илличевский до сих пор почитался образцом послушания и вежливости, а Корсаков, кроткий и робкий, и воды никогда не замутил.
Неизвестно, чем бы разразился справедливый гнев Пилецкого, если бы в эту минуту к столу не подошел сам директор лицея Малиновский, который с порога столовой уже несколько времени безмолвно следил за описанною сейчас сценой.
– Вы, Корсаков, кажется, так же, как и Илличевский, пишете стихи? – был первый вопрос его.
Нимало не угрожающий, а только огорченный, грустный тон неизменного в своем добродушии Василия Федоровича произвел на всех лицеистов более глубокое впечатление, чем тонкая язвительность надзирателя. Застенчивый же Корсаков совсем растерялся.
– Пишу-с… – прошептал он, меняясь в лице.
– Значит, главною причиною их ослушания, Мартын Степаныч, был не злой умысел, а, так сказать, созвучие одинаково настроенных душ, – продолжал директор. – Отсидеть в карцере положенные сутки ослушникам, разумеется, придется. А вы, Гурьев, – внезапно обернулся он к «адьютантику» надзирателя, – как оказывается, самый задорный из всех…
– О! Он только резов немножко, но препослушный, преуслужливый мальчик, – заступился Пилецкий за своего любимца, у которого с перепугу навернулись даже на глазах слезы.
– Нет, Мартын Степаныч, извините меня: вы насчет его несколько ослеплены. Если товарищи отворачиваются от мальчика, то это уж самая плохая для него аттестация, и я убежден, что не будь Гурьева, подбивающего других, не было бы и такого поголовного протеста. Он, во всяком случае, достоин не меньшей кары, как и прочие. Но чтобы не было новых столкновений, его можно запереть отдельно, например, в классной комнате.






