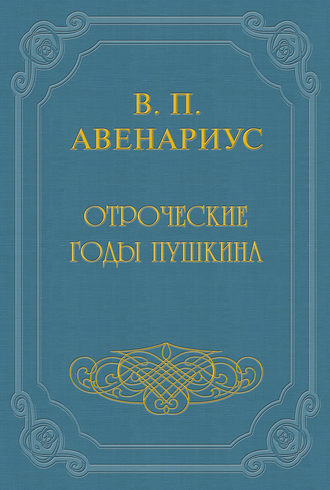
Отроческие годы Пушкина
– Ах, это ты, Леонтий! Оставь меня, пожалуйста…
– А то не обидел ли кто из товарищей? – продолжал допытываться дядька. – Не ушиблись ли, играючи?
– Нет, нет…
– Али, Боже упаси, не болит ли животик от непривычной кухни нашей?
Пушкин слабо усмехнулся.
– Ничего не болит! Видишь, шоколад твой ем. А вот что скажи мне, Леонтий: зачем это ты распорядился переставить мою кровать к другой стене?
– Зачем-с? – И концы щетинистых, седых усов дядьки приподнялись и зашевелились от добродушно-лукавой улыбки. – Затем-с, что рядом тут в камере, бок о бок с вашей милостью, почивает закадычный друг и приятель ваш господин Пущин.
– Я и забыл про него… Да что толку, если мы разделены стеной? Разговаривать ведь нельзя.
– То-то что можно-с наилучшим манером: стенка-то тончающая, всякое словечко сквозь нее слышно. Извольте примечать.
Он ударил кулаком в стену. Оттуда тотчас донесся такой же глухой стук и голос Пущина:
– Это ты, Пушкин?
– Слышали-с? Ну и отводите душу с приятелем в душевных разговорах-с. Я вас, батюшка, беспокоить долее не буду, сейчас уйду-с; пожалуйте мне только вашу сбрую, чтобы утрушком, значит, спозаранку почистить, да где нужно – починить.
Получив «сбрую», заботливый дядька на прощанье осведомился еще, не натер ли себе «его благородие» мозолей казенными сапогами, наказал не забыть потушить свечку и запомнить, что приснится впервой на новом месте; затем пожелал доброй ночи и вышел.
От простодушной ли ласки старика солдата, или от сознания, что он, Пушкин, все же не один, потому что вот тут рядом, за стеной, на расстоянии менее аршина, спит любезный его Пущин, у него на сердце разом удивительно полегчало. Ему было уже не до чтения: в жилах у него точно был налит свинец, глаза так и слипались.
Сняв щипцами нагар со свечки, он погасил ее, завернулся поплотнее в одеяло и с удовольствием уткнулся стриженой головой в обтянутую свежей наволочкой подушку. Завывавшая за окошком вьюга уже не сердила, не мучила его, а только убаюкивала. Но не успел еще он заснуть, как у самого его уха раздался опять стук в стену и голос Пущина:
– Ты еще не заснул, Пушкин?
– Нет, – отвечал он, – а что?
– Слышишь, как ветер на улице воет?
– Ну?
– А в постели-то как тепло и уютно!
– Да; а главное, Пущин, что мы с тобой здесь так близко друг к другу!
– Вот это-то я и хотел сказать. Знаешь что, Пушкин: хочешь, мы будем друзьями?
– Будем! И никогда, до последней минуты друг друга не выдадим. Друзья на жизнь и смерть!
– Аминь!
– А теперь о другом: тебе, Пущин, спать, верно, тоже сильно хочется?
– Очень.
– А я наполовину уж заснул. Доброй ночи, друг мой!
– Приятных снов, дружище!
Как отрадно стало у него теперь на душе! Да, Куницын был прав, тысячу раз прав: здесь не тюрьма, а клетка, и именно золотая. Не запоет ли он теперь свои лучшие песни, не зальется ли соловьем?
И в сладостном предчувствии будущей славы поэта он незаметно задремал.
Немного погодя мимо камеры новичка проходил дядька Кемерский. Видя, что огня там уже нет, он припал к решетке ухом. Ровное дыхание показывало, что Пушкин спит крепким, здоровым сном молодости.
– Заснул! – прошептал про себя старик, набожно перекрестил спящего из-за решетки и побрел далее.
Глава IX
Открытие лицея
…Тебя мы долго ожидали,И светел ты сошел с таинственных вершин,И вынес нам свои скрижали.«Гнедичу»И мы пришли. И встретил нас КуницынПриветствием меж царственных гостей.«Была пора: наш праздник молодой…»Вот, наконец, наступило 19 октября – давно ожидаемый день официального открытия лицея. За ночь выпал свежий сухой снежок, к утру приморозило, и солнце взошло в полном лучезарном своем блеске, празднично озаряя все углы и уголки обширного лицейского здания и оживляя и без того весело настроенных лицеистов. Сегодня им ведь в первый раз разрешено было прифрантиться, надеть свою новенькую, с иголочки, парадную форму: белый пикейный жилет, однобортный синий мундир с красными обшлагами, красным воротником и серебряными пуговицами и – что эффектнее всего – высокие лакированные ботфорты! Одеваясь, они от внутренней радостной тревоги обменивались шутками, шумели, но шумели как-то сдержаннее, были и друг к другу как-то добрее, внимательнее, точно перед исповедью в «прощеный день».
– У всех ли шляпы с собой, господа? – спрашивал дежурный гувернер Чириков, оглядывая выстроившихся по два в ряд щеголевато разряженных лицеистов.
Оказалось, что Кюхельбекер по всегдашней рассеянности забыл свою треуголку. Дежурный дядька поспешил подать ему ее.
– И как вы держите ее? – говорил Чириков. – Берите пример с Горчакова: видите, как надо держать? Под мышкой и только кончиками пальцев. Стройся!
С гувернером во главе и в сопровождении дядьки лицеисты в стройном порядке спустились в третий этаж и аркою, соединявшею лицей с дворцом, вышли на хоры дворцовой церкви. Отсюда, с высоты, так сказать, птичьего полета, все, что совершалось внизу, было им видно, как на ладони.
Благолепно убранная, но небольшая дворцовая церковь оказалась на этот раз довольно тесной для массы присутствующих. Приглашенные на торжество освящения небывалого дотоле учебного заведения высшие сановники: члены синода и государственного совета, сенаторы, министры и иностранные послы – стояли толпой в храме и, кланяясь друг другу, обмениваясь рукопожатиями, так и пестрели лентами, так и сияли шитыми золотом мундирами и звездами. У притвора в императорские покои, в ожидании выхода высочайшей фамилии, скучились в шитых же мундирах директор, надзиратель, профессора и прочий служебный персонал лицея. А наружные двери, то и дело открываясь, впускали все новых лиц, увеличивая тем общую тесноту и пестроту. Косые лучи октябрьского солнца, проникая в церковь сквозь разноцветные стекла высоких окон, заливали нарядную публику красными и желтыми, синими и фиолетовыми лучами и вместе с мерцающим светом бесчисленных зажженных восковых свечей в хрустальных люстрах придавали всей этой необычайно торжественной обстановке какой-то обаятельно-фантастический оттенок.
Гувернер Чириков, успевший своею обходительностью в несколько дней приобрести доверие и расположение лицеистов, стоял позади них и вполголоса передавал им фамилии сановников. Пушкин, как и прочие товарищи наклонясь через перила, зорко оглядывал каждого незнакомца и мысленно дополнял все недосказанное. В то же время взор его безотчетно тянуло к тем дверям, откуда должен был сейчас войти император Александр Павлович, которого после разговора с профессором Куницыным ему так хотелось видеть.
И вот в начале 11-го часа у дверей этих произошло внезапное движение; все, кто стояли тут, как волны, отхлынули направо и налево, и на пороге показался он сам в сопровождении двух императриц: вдовствующей и царствующей, наследника престола Константина Павловича и великой княжны Анны Павловны.
В октябре 1811 года императору Александру I было без малого 34 года[10]; но с виду он казался гораздо моложе. Высокая и статная фигура его, несколько наклоненная вперед, невольно напомнила Пушкину классическую позу античных статуй. Редкие белокуро-золотистые волосы были причесаны по-античному и делали его высокий лоб еще более открытым. А в слегка прищуренных близоруких небесно-голубых глазах, в каждой черте художественно-правильного лица его отражалась такая ангельская доброта, такая кротость, что нельзя было не почувствовать безграничного благоговения к его царственному величию. Очарованный Пушкин не мог отвести глаз от него.
«Так вот он каков!» – думалось ему, и в памяти его возникло одно за другим все, что сделано этим государем для своего народа. Ему сдавалось, что вся эта стоящая внизу толпа разряженной знати молится теперь только за него, за своего возлюбленного монарха.
Молебен кончился. Внизу опять все заколыхалось, чтобы пропустить духовенство, направлявшееся в здание лицея для освящения его.
– Здоров ли ты, Пушкин? – спросил заботливо Пущин, заметив разгоряченное лицо и лихорадочно блестящие глаза друга.
– Здоров… – нехотя пробормотал тот в ответ и протиснулся вперед, чтобы избавиться от дальнейших расспросов.
Обойдя кругом все помещения лицея и окропив их водой, духовенство удалилось; остались одни светские власти. В большом лицейском конференц-зале был поставлен между колоннами стол, покрытый до полу красным сукном с золотой бахромой. Справа от него стали в три ряда лицеисты, с директором, надзирателем и гувернерами во главе; слева – профессора и чиновники лицейского управления. Для сановных гостей было отведено все остальное пространство зала, уставленное рядами кресел и стульев. Когда все разместились, вошла царская фамилия и, ответив на общий поклон приветливым наклонением головы, заняла первый ряд кресел. Министр, граф Разумовский, сел рядом с государем.
Первым выступил директор департамента народного просвещения Мартынов и взволнованным, неестественно высоким фальцетом прочел сперва манифест об учреждении лицея, а потом грамоту, всемилостивейше дарованную лицею. Граф Разумовский, приняв от него грамоту (пергаментный фолиант в богатом, золотого глазета переплете), поднес ее государю для подписи и затем передал директору лицея Малиновскому.
Пушкин, стоя в переднем ряду лицеистов, как раз позади Малиновского, заметил, как тот переминался с ноги на ногу, тяжело дышал и, тихонько откашливаясь, подносил к губам платок, а когда почтенный Василий Федорович, приняв от Разумовского грамоту и сам выступив вперед, развернул свиток приготовленной им приветственной речи, то побледнел, как полотно. Прерывающимся, едва слышным голосом прочел он свою речь, из которой более отчетливо можно было разобрать только заключительные слова:
– Мы потщимся каждую минуту жизни нашей, все силы и способности наши принести на пользу сего нового вертограда: да ваше величество и все отечество возрадуетесь о плодах его.
Все присутствующие, казалось, не менее самого Малиновского были рады, когда тот вздохнул после своей пытки и когда его сменил конференц-секретарь, профессор Кошанский. Тот прочел только список начальствующих лиц и воспитанников лицея, причем каждый из называемых поочередно выступал из ряда и кланялся государю.
Последним оратором за красным столом оказался профессор Куницын. Как ни любили его лицеисты, но, отстояв себе ноги в течение трех первых чтений, они не без основания ужасались ожидающих их еще цветов красноречия. У публики точно так же терпение истощилось, потому что все кругом задвигало стульями, стало сморкаться, перешептываться. Но вот зал огласился благозвучным голосом молодого профессора – и все насторожилось: можно было расслышать полет мухи.
В прочувствованной, но изукрашенной риторическими мудростями речи Куницына не все, быть может, было понятно отрокам-лицеистам, к которым, собственно, она была обращена, и потому впечатление от нее, на Пушкина по крайней мере, было не совсем цельное. Зато отдельные фразы, более доступные, глубоко отпечатлевались в душе Пушкина, и он мысленно повторял их про себя, пока поток речи струился неудержимо далее.
– Отечество приемлет на себя обязанность быть блюстителем воспитания вашего, дабы тем сильнее действовать на образование ваших нравов, – говорил Куницын, – государственный человек должен иметь обширные познания, знать первоначальные причины благоденствия и упадка государства…
«Ужели же и я тоже буду со временем государственным человеком? Буду в состоянии сделаться им?» – мелькнуло в голове Пушкина.
– Но главным основанием ваших познаний должна быть истинная добродетель, – продолжал профессор, – жалким образом обманется тот из вас, кто, опираясь на знаменитость своих предков, вознерадеет о добродетелях, увенчавших имена их бессмертием… Любовь к славе и отечеству должна быть вашим руководителем…
«Не в бровь, а прямо в глаз! – говорил сам себе Пушкин. – Я горжусь своими предками, – но по какому праву? Показал ли я себя уже достойным их?»
Речью Куницина заключился акт открытия лицея. Несмотря на ее продолжительность, она не только не утомила еще более слушателей, а точно освежила, наэлектризовала их, и все, казалось, сожалели, когда смолк молодой оратор. Государь сам подошел к нему и, пожимая ему руку, сказал несколько теплых благодарственных слов. Затем все тронулись обозревать лицей, а лицеистов дежурный гувернер отвел в столовую – обедать.
Не покончили они еще и с супом (к которому, торжественного дня ради, были поданы и пирожки), как в дверях столовой появилась опять царская фамилия; впереди всех – сам император Александр с графом Разумовским. Подобно другим лицеистам, повернув голову ко входу, Пушкин невольно обратил внимание, что следовавшие за государем наследник цесаревич и адъютанты, как в походке, так и во всех движениях своих, старались подражать ему; даже шляпу и шпагу держали точно так же, прищуривались так же, как он.
Не останавливаясь у стола и не прерывая беседы своей с министром, государь отошел с ним к окошку. Цесаревич и великая княжна со свитой удалились в углубления других окон; обе же императрицы стали обходить обедающих лицеистов, предлагая им вопросы и отведывая их кушанья. Императрица-мать, Мария Федоровна, о которой Пушкин еще дома наслышался, как о главной покровительнице воспитательного дома и всех женских учебных заведений, остановилась как раз напротив него, по другую сторону стола, и он имел возможность внимательно разглядеть ее. Хотя ей было уже лет за 50, но тонкие черты ее правильного лица сохранили еще следы прежней красоты и живо напоминали ее царственного сына, тем более что, будучи так же близорука, она, подобно государю, часто подносила к глазам золотую лорнетку. Но вот она наклонилась над ближайшим лицеистом Корниловым и, когда тот хотел приподняться, оперлась рукой на его плечо. Как он, бедняга, съежился, раскраснелся! А она так просто и милостиво проговорила:
– Сиди, пожалуйста. Ну, что, хорош суп?
Корнилов еще пуще смешался и, уткнув нос в тарелку, пробормотал по-французски:
– Oui, Monsieur!
Государыня ничего не сказала, только чуть-чуть улыбнулась и отошла прочь от обеденного стола. Соседям-лицеистам стоило немалого труда воздержаться от подтрунивания над отличившимся так товарищем. Но пока августейшие гости не оставили столовой, шалуны поневоле только перемигивались и фыркали. Зато, по уходе гостей, насмешкам не было уже конца.
Когда затем, при наступлении вечерних сумерек, здание лицея осветилось блестящею (для того времени) иллюминациею: плошками по панели и окнам и громадным, разноцветным вензелем Александра I в срединной арке, – лицеисты все высыпали на улицу; забияка Пушкин сгреб ком свежевыпавшего снега и швырнул его в спину Корнилова с знаменитой фразой последнего:
– Oui, Monsieur!
Раззадоренный Корнилов не остался в долгу и с криком: «Ай, Француз!» так метко пустил в обидчика ответный заряд снега, что Пушкин схватился за щеку. Как по данному сигналу снеговые ядра полетели теперь со всех сторон в кого попало с теми же двумя боевыми кликами: «Oui, Monsieur!» и «Ай, Француз!».
Внимание столпившихся перед иллюминированным зданием зевак обратилось всецело на разыгравшуюся молодежь. А тут кто-то из сражающихся, чуть ли не Гурьев, коварно подставил еще сзади ножку великану Кюхельбекеру. Тот, как сноп, растянулся на снегу во весь рост, и снежные заряды ни с того ни с сего, вопреки поговорке «лежачего не бьют», так и посыпались на безоружного. Зрители-горожане кругом громко загоготали:
– Ай да баричи! Лихо! Хорошенько его!
Дальнейшее побиение злосчастного Кюхельбекера было приостановлено появлением гувернера Чирикова, который, пристыдив сперва шалунов, объявил им затем:
– А у меня, господа, есть очень лестная для всех нас новость.
– Новость? Какая новость, Сергей Гаврилович? – приступили к нему гурьбой лицеисты.
– Вы знаете, конечно, что как военным за их воинские подвиги дается Георгиевский крест, точно так же нам, штатским, за гражданские заслуги жалуется орден Св. Владимира. Так вот Его Величество пожаловал сегодня Владимира 4-й степени, в знак особого своего благоволения, профессору вашему, Александру Петровичу Куницыну.
– Ура! – крикнул Пушкин.
– Ура!! – подхватили остальные 29 человек лицеистов, а за ними тот же возглас перекатился и по всей окружающей толпе, хорошенько, вероятно, не разобравшей в чем дело, но невольно заразившейся восторженностью молодежи.
Несколько дней спустя лицеисты узнали, что тот же орден Владимира, но 1-й степени, был пожалован и министру, графу Разумовскому, за его труды по учреждению лицея. За Корниловым же навсегда остался между лицеистами титул Monsieur, пожалованный ему ими тогда же, в незабвенный день открытия лицея.
Глава X
Колесо завертелось
Пора, пора! Рога трубят,Псари в охотничьих уборахЧем свет уж на конях сидят,Борзые прыгают на сворах.«Граф Нулин»– Ну, батюшка, ваше благородие, вставайте! Пора и честь знать. Ей-Богу же, опоздаете в классы.
Говоря так, старший дядька Леонтий Кемерский ровно в 6 часов утра, в понедельник, 26 октября – в первый день правильных классных занятий во вновь открытом лицее – деликатно тормошил Пушкина. Тот в ответ бессвязно проворчал только что-то под нос себе и зарылся глубже в подушку. Бывалый дядька с долготерпением старой няньки и с настойчивостью старого служаки стал осторожно стаскивать с плеч его одеяло.
– Отстань, Леонтий, сделай милость, отстань! – не то сердито, не то умоляя, буркнул Пушкин и, накрывшись с головой одеялом, повернулся к стене.
Отделаться от Леонтия, однако, было не так-то легко.
– Задохнетесь, сударь, – говорил он, бережно раскрывая голову мальчика и поднося к глазам его горящую свечу. – Изволите видеть: уж солнышко в окошко светит!
Пушкин, щурясь от огня, в сердцах оттолкнул свечу рукой.
– Что за шутки, Леонтий!
– Какие шутки, ваше благородие? Вглядитесь только хорошенько: солнышко как быть должно – казенное-с.
– Ну, да, казенное! Скажи, пожалуйста, что тебе вздумалось мучить меня? Мне снился такой чудный сон…
– Не до снов-с, голубчик вы мой. Доселева уроков не было – ну и дрыхли себе на здоровье, сколько хотелось. А теперича – шалишь! Прочие товарищи ваши давно поднялись. Вона, слышите, чай, гам какой в колидоре? Что твой жидовский шабаш. А вон, чу, и второй уж звонок Живо, сударь, живо! Вот извольте получить носки-с…
Пушкину стало стыдно.
– Оставь… я уж сам… – проговорил он, потягиваясь, и, зевая во весь рот, начал одеваться.
Когда он, без сюртука, с полотенцем в руке, вышел в коридор, чтоб умыться, во всех арках там горели еще ночники, при колыхающемся свете которых взад и вперед шныряли белыми привидениями, с неумолкаемым говором и смехом, такие же полуодетые фигуры.
– А, Пушкин! Проснулся, наконец? – крикнул ему кто-то на бегу и промелькнул как тень.
– Здравствуй, Пушкин! – приветствовал его чей-то другой голос.
– Здравствуй, – отвечал он, не узнав ни того, ни другого, и направился к одному из двух больших умывальников, вделанных для общего употребления в стену по обоим концам коридора. Здесь кто-то уже стоял, наклонясь над тазом, и только что подставил обе руки под струю воды, чтобы умыть себе лицо, как Пушкин без церемоний оттолкнул умывавшегося в сторону: «Пусти! Будет с тебя!» – и, живо вымывшись, в заключение плеснул товарищу в физиономию целую горсть воды.
Тот хоть бы слово вымолвил на эту выходку и только обтерся полотенцем. Пушкина удивила такая кротость; он начал всматриваться: на него задумчиво глядели большие, выпуклые, очевидно, близорукие глаза.
– Это ты, Дельвиг? – проговорил он, невольно сконфузясь. – Ты снял очки – так тебя и не узнать.
– А я льва по когтям тотчас узнал, – был дружелюбно-шутливый ответ.
– Так почему же и ты не плеснул в меня водой?
– Потому, что со львом – шутки плохи.
– Господа! Господа! Не болтать! Пора в классы! – заторопил появившийся тут гувернер, и мальчики разбежались по своим нумерам.
Учебное колесо завертелось, завертелось на целые шесть лет. Хотя лицеистам и было объявлено перед началом курса, что на летние и зимние вакации их будут увольнять к родным, но вскоре вышло новое распоряжение министра – не выпускать их из стен заведения до окончания полного курса. Понятно, что такой запрет произвел на них подавляющее впечатление. Но так как, волей-неволей, надо было покориться, то они тем скорее и теснее сплотились между собой и с профессорами в одну общую школьную семью.
Профессора (за исключением только одного, уже известного читателям старичка-француза) были все люди молодые, не достигшие еще и 30 лет. Трое из них: Куницын, читавший «нравственные науки» (логику, психологию, естественное и другие права, политическую экономию и «финансы»), Кайданов, преподававший исторические науки (историю, географию и статистику), и Карцов, математик и физик, – были товарищами по педагогическому институту и, как лучшие три воспитанника, были посланы за границу на казенный счет для приготовления к профессорскому званию, а по возвращении оттуда были прямо приглашены на три кафедры во вновь учрежденный лицей. С благородным рвением принялись они, каждый по своей части, за духовное развитие порученных им 30-ти будущих «государственных людей»; но наиболее глубокое и благотворное влияние на лицеистов имел, несомненно, Куницын, который и вне класса в оживленных беседах старался усвоить им свой собственный возвышенно-нравственный взгляд на жизнь. Долго спустя, по выходе из лицея, бывшие ученики его вспоминали о нем с искреннею благодарностью, которая в 1825 году выразилась у Пушкина в следующих стихах:
Куницыну дань сердца и вина!Он создал нас, он воспитал наш пламень.Поставлен им краеугольный камень,Им чистая лампада возжена…Что же касается лицейской Музы, имевшей такое решительное значение в последующем развитии Пушкинского гения, то первое пробуждение ее должно быть отнесено всецело к заслугам профессора латинской и российской словесности Кошанского. Страстный любитель древней классической поэзии, талантливый переводчик многих классических произведений, Кошанский с увлечением молодости старался втянуть и своих юных слушателей в этот отошедший уже в вечность, но все еще чарующий мир. А на уроках русского языка, рядом с заучиванием од Ломоносова и Державина, басен Хемницера и Крылова, он посвящал мальчуганов и практически в тайны стихосложения. (О результатах этих первых поэтических опытов будет подробно изложено в последующих главах.)
Словесности, как русской, так, в особенности, иностранной, вообще было отведено в учебном курсе лицеистов первенствующее место. Ежедневно не менее четырех часов профессора иностранных языков: немецкого – Гауеншильд и французского – де Будри, по примеру Кошанского, упражняли воспитанников сверх обычных классных работ в декламации и чтении вслух театральных пьес по ролям, а в свободные часы обязывали их говорить между собой то по-немецки, то по-французски. Успехи лицеистов в том и другом языке были, однако, далеко не одинаковы.
Немец Гауеншильд, при всей своей научной подготовке и несмотря на свои молодые лета, не сумел заслужить любовь своих учеников, потому что, нервно-раздражительный и довольно черствый душой, он относился к ним с холодным пренебрежением, а нередко был и несправедлив. Они же свою антипатию к преподавателю перенесли и на самый предмет, так что серьезно заниматься немецким языком почиталось у них чуть ли не позором.
Зато старичок-француз, мосье де Будри, или просто Давид Иванович, как называли его лицеисты даже во французском разговоре, был для них после Куницына самым милым человеком. Приземистый и круглый, как шар, в напудренном парике времен Людовика XVI, в замасленном пестром жилете, с неразлучною черепаховою табакеркой и красным фуляром в руках, – он, по подвижности и энергии, не уступал никому из своих молодых собратий, а с воспитанниками обходился как с любимыми своими детьми. Поэтому и мальчики, со своей стороны, где бы он им ни попался – в коридоре, в классе или в парке, – приветствовали его весело и непринужденно, как старшего близкого знакомого, на родном его языке:
– Здравствуйте, Давид Иваныч! Как ваше драгоценное здоровье?
– Благодарю вас, дети мои, слава Богу! – с неизменным добродушием отвечал он, спасая только свою дорогую табакерку от напиравших на него шалунов.
Дорожил он ею собственно потому, что на крышке ее красовался портрет прославившегося во французской истории своею кровожадностью Марата, приходившегося ему родным братом. Немудрено, что эта табакерка сделалась неистощимою темой для болтовни на французских уроках, причем запевалой являлся всегда Пушкин, который с самого приемного экзамена пользовался предпочтительным расположением де Будри. За обеденным столом лицеистов рассаживали по поведению, в классе – по отметкам; и хотя Пушкин, вообще не отличавшийся прилежанием, сидел обыкновенно где-нибудь назади, но на урок у француза, как один из первых, пересаживался на переднюю скамейку. Завязав с профессором оживленный разговор, он незаметно похищал у него табакерку, которая тут же переходила по всем скамьям, или же заводил речь о табакерке, чтобы прямо заполучить ее из собственных рук де Будри.






