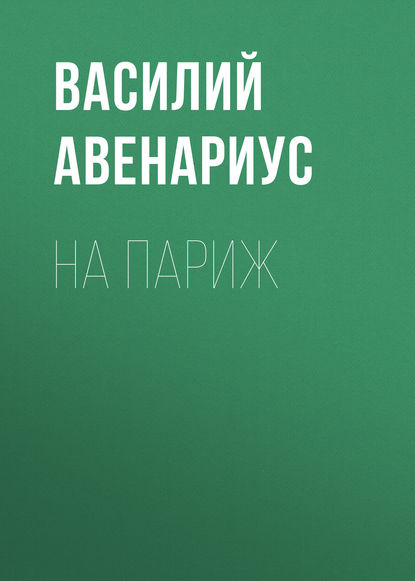По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
На Париж
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Вот латинист тебе переведет. Аль не дошел еще до сего в бурсе?
– Отчего, – говорю, – не перевести: «мальчики суть мальчики, и ведут себя по-мальчишески»…
– Bene.
Петя же не унимается: схватил с окна кивер Шмелева и – мне на голову.
– Вот и майор готов!
Премного все тому смеялись. Одна Ириша только, вижу, покраснела, как маков цвет, и очи в пол потупила. Вспомнила, знать, суженого-ряженого в зеркале…
Ну как же мне было в дневник, ею подаренный, всего этого не записать?
* * *
Января 8. Из Смоленска известие пришло, что наши войска в самый Новый год Неман перешли. Война, стало быть, уже не у нас разгорится, а по ту сторону границы, у поляков да немцев. Шмелев со свадьбой торопит; пробыть здесь он может ведь только четыре дня. У меня же искра в душу запала, мысль одна из головы не выходит…
И вот, нынче, когда Аристарх Петрович меня к себе в кабинет позвал, да поручил мне в Смоленск за шампанским съездить, откуда у меня смелость взялась, так прямо ему и брякнул:
– Аристарх Петрович! Отпустите меня с Дмитрием Кириллычем в армию.
Старик глаза на меня вытаращил.
– Что? Что? в армию? Да не он ли и подбил тебя?
– Нет, – говорю, – я от себя.
– Какая тебя блоха укусила! Ни с того, ни с сего…
– Да как же, когда все освобождать Западную Европу идут…
– Тебя одного там недостовало! Освободитель тоже нашелся! Как узнает Наполеон, так в тот же час пардону попросит.
А я все свое:
– Отпустите! Сделайте уж такую божескую милость! Пойду я ведь за вас и за вашего Петю…
– В майоры, а то и в генералы метишь? Ну да что ж, – говорит, – ты не крепостной у меня, а вольный человек; силой удержать тебя я не могу. Только сходи-ка за Дмитрием Кириллычем; сперва с ним пообсудим дело.
Сбегал я за Шмелевым.
– Так и так, – говорю. – Не выдайте меня, голубчик, поддержите!
– Хорошо, – говорит. – За мной дело не станет. Да что матушка ваша еще скажет?
– Ей, понятно, до поры до времени ни слова. Когда все устроится и поворота назад уже не будет, тогда и скажем.
Приходим к Аристарху Петровичу.
– Каков молодчик? – говорит он Шмелеву. – Что в голову себе забрал.
Но тот не выдал:
– А что ж, – говорит, – из капель целая река составляется, из людей – армия. А такая капля, как вот эта, – говорит и по плечу меня хлопает, – десяти других стоит.
– И вы, Дмитрий Кириллыч, значит, его еще одобряете, не прочь даже с собой взять?
– С удовольствием возьму. Вопрос только в том, чем ему там быть. В рядовые такого латиниста сунуть жалко, хотя латынь на войне ему и не к чему; а сдать экзамен на юнкера по другим предметам, по совести говоря, сможете ли вы, Андрей Серапионыч?
Покраснел я, замялся.
– В науках, – говорю, – я, правду сказать, никогда силен не был…
– А по уходе из бурсы и последнее, я чай, перезабыл? – досказал за меня Аристарх Петрович. – Как же быть-то?
– Один выход, по-моему, – говорит Шмелев, – записаться ему добровольцем в ополчение. Покажет он себя там на деле, так потом его охотнее и в регулярное войско юнкером примут. Проэкзаменуют его больше для проформы.
– Добровольцем в ополчение? – повторил Аристарх Петрович и задумался. – А знаете ли, ведь это – идея. Я мог бы даже некоторую протекцию оказать.
За это его слово я, как утопающий за соломинку, ухватился:
– Окажите протекцию, Аристарх Петрович, будьте благодетелем! Стыдиться за меня вам не придется.
– Дело в том, – говорит, – что некогда я довольно дружен был со стариком графом Дмитриевым-Мамоновым, Александром Матвеичем…
– Это не тот ли Мамонов, – спрашивает Шмелев, – что одно время был в таком фаворе у императрицы Екатерины?
– Он самый. Просвещеннейший из вельмож, вместе с императрицей составлял для эрмитажного театра так называемые «пословицы» – «провербы», сам тоже несколько пьес французских сочинил. А по богатству своему был настоящий Крез: в одном нижегородском наместничестве было у него до 30-ти тысяч душ. На Александровской звезде своей имел бриллиантов на 30 тысяч рублей, а на аксельбантах – на 50 тысяч. Даже в деревне у себя в селе Дубровицах Московской губернии на сельских праздниках наряжался, бывало, в полную парадную форму, со всеми орденами, звездами и бриллиантовыми даже эполетами. Жар-птица, да и только! Ну, да и возносился же он своей знатностью над простыми смертными! Учителям детей своих, людям образованным, не позволял при себе садиться, кроме одного только почтенного старика, да еще гувернантки, мадам Ришелье, которую нарочно из Парижа для дочери выписал.
– Виноват, Аристарх Петрович, – перебил тут Шмелев. – Но ведь того Мамонова, кажется, и в живых уже нет?
– Да, помер он лет с десять назад. Но после него сын остался, Матвей Александрович, единственный потомок мужского пола и главный наследник всех его миллионов. Видел я его только мальчиком, но и тогда уже он острого был ума, большие подавал надежды. В 18 лет он был камер-юнкером, а 21-го года – обер-прокурором сената.
– Однако! Да ведь это такая должность, где требуется очень зрелый ум и громадная опытность?
– А вот, представьте себе: когда он в первый раз в сенат приехал и показали ему там резолюцию сенаторов по одному уголовному делу, то, в разрез с их приговором, он тут же набело свое собственное мнение набросал и подал обер-секретарю: «Прочтите господам сенаторам»…
– Ну, и что же?
– Прочел тот, и седовласые государственные люди хоть бы слово возразили, все до единого с мнением юного обер-прокурора согласились.
– На редкость, должно быть, светлая голова.
– Светлая, но и горячая, сумасбродная: когда полгода назад Отечественная война возгорелась, и богачи-патриоты Гагарин да Демидов свои полки ополченцев выставили, он точно так же на свой кошт целый конный полк вооружил, так и прозванный «Московский казачий Дмитриева-Мамонова полк», и сам во главе его стал с чином генерал-майора.
– Вот так так! А обер-прокурорство его что же?
– В трубу ушло. Шалый какой-то, говорю я вам.