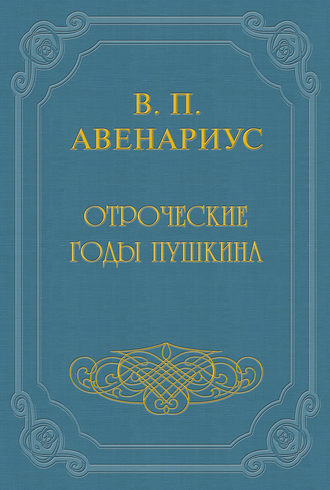
Отроческие годы Пушкина
«Пушкин!», «Пущин!» – вырвалось разом у обоих.
Не будь тут надзирателя, который, задыхаясь, догонял Пушкина, они, быть может, заключили бы друг друга в объятия; теперь же, в присутствии незваного свидетеля, они ограничились только рукопожатием. Впрочем, и Пилецкому, должно быть, уже порядком успел надоесть не в меру шустрый новичок-лицеист, потому что он поспешил сбыть его с рук.
– Очень рад, что вы попались нам, Пущин. Отведите-ка товарища в его камеру да кликните дежурного дядьку.
С этими словами он отворил соседнюю дверь третьего этажа и захлопнул ее за собой. Лицеисты наши продолжали стоять на площадке, держась за руки и глядя вслед надзирателю.
– С этой минуты, значит, мы шесть лет будем неразлучны? – заговорил первым Пущин, крепко сжимая руку приятеля и дружески заглядывая ему в глаза. – Да ты, Пушкин, никак плакал?
– Ах, вовсе нет!.. – сконфуженно возразил тот. – Я не выспался хорошенько…
– Чего же ты стыдишься? Ведь ты, верно, сейчас прощался с Василием Львовичем?
– Прощался.
– Ну, вот. И я тоже, когда расставался со своими, – а они совсем близко, в Петербурге, – и я захныкал, как маленький ребенок.
– Мы оба, стало быть, еще дети! – рассмеялся Пушкин. – Однако, здесь на лестнице вовсе не жарко.
– И то правда! Идем же, идем. Я тебе сейчас покажу твою новую квартиру. Ну, кто скорее?
И, по-прежнему держась за руки, они взапуски пробежали остальные ступени до четвертого этажа.
Глава VII
На новоселье
Стул ветхий, необитый,И шаткая постель,Сосуд, водой налитый,Соломенна свирель —Вот все, что пред собоюЯ вижу…«К сестре»В нижнем этаже отведенного для лицея флигеля царскосельского дворца было размещено все лицейское начальство (за исключением директора, поместившегося в надворной пристройке); во втором этаже были: столовая, конференц-зал, канцелярия и больница; в третьем – классы, рекреационный зал, физический кабинет, а в арке, соединявшей лицей с главным зданием дворца, – библиотека лицеистов, где насчитывалось уже в 1811 году 800 томов; наконец, весь четвертый этаж, куда поднялись теперь Пушкин и Пущин, был занят дортуарами воспитанников. Вдоль всего этого этажа шел коридор, который освещался только решетчатыми окошечками в дверях камер, расположенных по обе его стороны, так что даже в светлый, солнечный день там царствовал полумрак, а теперь, в пасмурную погоду, было еще темнее. В этих потемках Пушкин едва разглядел общие очертания двигавшейся издали навстречу им мерным солдатским шагом коренастой, рослой фигуры.
– Старший дядька наш Леонтий Кемерский, – шепнул ему Пущин, – преуслужливый, но и продувной!
Рекомендованный так дядька приблизился к нему между тем уже настолько, что Пушкин различил весьма благообразного, осанистого старика бакенбардиста с целым рядом медалей и крестов на широкой, выпуклой груди и с несколькими почетными нашивками на рукаве.
– Вот, Леонтий, я привел тебе еще новичка – № 14,– заявил ему Пущин.
Леонтий сделал новичку по-военному под воображаемый козырек.
– Здравия желаем вашему благородию! Добро пожаловать! Камера ваша давно по вас плачет.
Достав из кармана полную горсть нумерованных ключей, он пошел назад по коридору и, пройдя несколько камер, остановился перед дверью с черною дощечкой, на которой Пушкин прочел надпись:
«№ 14. Александр Пушкин».
– А посмотри-ка, рядом кто, – сказал Пущин. На соседней двери такая же дощечка гласила:
«№ 13. Иван Пущин».
Пушкин переглянулся с приятелем сияющим взором.
– Сама судьба нас свела!
Дядька тем временем раскрыл настежь дверь и покровительственным движением руки ввел новичка во владение его будущим жилищем.
– Милости просим, сударь! С новосельем-с.
Камера была невелика, но во всяком случае достаточно поместительна для одного человека, тем более для подростка. В ней стояли: под окном – столик, у одной стены – кровать и умывальный стол, у другой – комод с зеркальцем над ним, стул и конторка. Окрашенная в светло-серый цвет с красной каемкой по потолку, освещаемая единственным, но высоким окном, комнатка эта даже теперь, в серый зимний день, имела приветливый, уютный вид. На конторке стояли чернильница и шандал со щипцами (в то время употреблялись одни только сальные свечи, с которых нагар «снимался» щипцами), а на гвоздях у дверей аккуратно были развешаны полотенце и казенная амуниция нового постояльца. Глаза Александра прежде всего с удовольствием остановились на чернильнице.
– И чернила уж налиты! – сказал он.
– Да, чернильная душа, – отвечал Пущин. – Можешь хоть сейчас приняться писать стихи.
– Нет уж, батюшка, ваше благородие, – вмешался дядька, буквально принявший слова Пущина, – перво-наперво дайте им хошь перерядиться, как быть следует.
Выдвинув ящик комода, он достал оттуда белье, снял с гвоздя форменное платье и поштучно стал подавать Пушкину каждую вещь, приговаривая:
– Наша обязанность, сударь, хранить и холить вашу милость, яко зеницу ока. Душевное здравие ваше – дело начальства, за телесное ответствует наша братия, нижние служители, перед совестью и перед Богом.
– Оттого-то он без ведома начальства и снабжает нас всяким контрабандным товаром, – шутливо добавил Пущин.
– А нешто не святая обязанность наша ублажать вашу милость и без воли начальства? – убежденным тоном вопросил Леонтий. – Окромя птичьего молока разве, всяку штуку вам раздобудем… Вот-те на! Совсем ведь из старой башки вон! – хлопнул он себя по лбу. – Память, знать, уж отшибать начинает. Не казните, ваше благородие! Сейчас все справим…
И, положив белье и платье бережно на кровать, он исчез за дверью.
– Куда это он? – недоумевал Пушкин.
– А ты не догадываешься? Ведь он же наш обер-провиантмейстер и вдруг так оплошал: не позаботился приготовить тебе для первого знакомства приличное угощение! Понятно, что тебе нужно будет отблагодарить его. «Сухая ложка рот дерет» – любимая его пословица.
Пушкин машинально хватился рукой за то место, где у него в «собственном» платье был карман; потом, точно вспомнив что-то, насупился.
– Такая досада, право…
– А что?
– Да так…
– Понимаю: денег нет? Ведь ты тогда на Крестовском все до последней копейки издержал?
– Н-да…
– А дядя взятых у тебя на хранение ста рублей так и не возвратил?
– Забыл, конечно…
– А ты, конечно, спросить забыл?
– Не то, знаешь, в голове было…
– Ну, ничего, у меня есть лишние…
И Пущин торопливо вынул свой кошелек, из которого, отвернувшись, достал блестящий, последней чеканки серебряный рубль.
– На вот целковый; будет с него на первый раз.
Пушкин, однако, успел разглядеть, что кошелек товарища был довольно тощ, и, не принимая монеты, спросил:
– Да ведь целковый этот у тебя единственный?
Пущин покраснел и замялся.
– О, нет… – пробормотал он.
– А отчего он такой новенький? Верно, подарил тебе кто-нибудь на прощанье?..
– Ну, прошу тебя, возьми! – умоляющим голосом настаивал Пущин. – У меня тут осталось мелочи, сколько угодно…
И он насильно втиснул рубль в руку приятеля. Сделал он это как раз вовремя, потому что лицейский обер-провиантмейстер Леонтий Кемерский показался уже опять на пороге, нагруженный обещанным «угощеньем». Тщательно притворив за собою дверь, от отвесил Пушкину поклон в пояс.
– Бьем челом вашему благородию хлебом-солью!
После чего самодовольно стал разгружаться и разъяснять:
– Это вот, батюшка-сударь мой, ситный хлеб утрешнего печенья – изволите видеть, какой рыхлый, мяконький! А сверху-то еще золотой паточкой помазан: что ни есть подходящее для балованного барского желудка. Тут вот плиточка царского шоколадцу. Испробуйте-ка, так во рту и тает-с! А здесь пяточек яблочков: небольшие хошь, да чисты, румяны, что твоя щечка девичья. Заправские, крымские! Мал золотник, да дорог.
– Спасибо, братец, – поблагодарил Пушкин и сунул ему в руку только что навязанный Пущиным рубль, – получи.
– И вам, сударь, сугубое мерси! Дай вам Бог доброго здоровья! Нашему брату этих подачек вовсе бы и не нужно, да как отказаться? Еще, чай, в обиду примете! В ину пору я вам и не тем бы еще услужил: чашечкой кофе с бисквитцами, что ли…
– Спасибо, и с этим-то мне разом не справиться, – ответил Пушкин и, отломив половину большущего ситного каравая, принялся с аппетитом уписывать его за обе щеки.
– Кушайте во здравие, ваше благородие! Ну, что скажете, каков хлебец-то? Правду я говорил, не соврал?
– Очень хорош.
– Пряник печатный-с! Да-с, придворный хлебопек-то наш – мастер своего дела; даром что русский человек – всякого немца-булочника за пояс заткнет. И скажу вам теперя, ваше благородие, по чистой совести, значит: за доброту да за ласку вашу от сей минуты дядька Леонтий Кемерский вашей милости покорнейший холоп. Свистните только – и он уж, как в сказке бурка-кавурка, тут как тут.
– У тебя и без меня, я думаю, довольно дела?
– Это точно, верное слово изволили сказать. И прочим-то дядькам работы вдосталь, не сидят сложа руки, а старшему и того паче: за ними, братьей своей, да за инвалидами, что им в помощь даны, гляди в оба, чтобы не баловались, – это раз; лампы да свечи приправляй, за топкой наблюдай, чернила доливай – это два; за исправность и мебели-то казенной, и одежи вашей, и тетрадок, и карандашей, и перьев головой отвечай – три; градусники везде проверяй, чтобы в спальнях, значит, было тепла ни больше, ни меньше, как градусов 12–13, в столовой – 13, в классах – 13–14!.. Вот и со счету сбился! Кажись, четыре?
– Да, четыре, – сказал Пущин и, шутя, помог ему далее в счете, – лакомства нам добывай и желудки порть – пять.
– А уж это грех вам, сударь, говорить! Товар у меня самый свежий: сосуну-младенцу в ротик хоть положь – и тот проглотит без вреда для себя. Как перед Богом могу сказать: служу вам, яко ангел-хранитель, денно и нощно глаз над вами не сомкну.
– Зачем же и «нощно»? – спросил Пушкин. – Если мы спим, так отчего же и тебе не спать?
– Нет, сударь, нельзя-с; вы, стало, порядков наших еще не знаете. Днем нам, дядькам, положено дежурить при вас и в классах, и на гуляньи, и за столом, а ночью – ходить, коли дежурство на тебя выпало, вон тут, по колидору, взад да вперед, ровно маятник в часах, посматривать в окошечки направо и налево.
– Для этого-то, видно, и окошечки в дверях у нас проделаны?
– Знамое дело. А не углядишь чего, прозеваешь – ну и жди грозы: нагрянет среди ночи, как снег на голову, либо надзиратель, либо дежурный гувернер…
– Да что же прозевать-то?
– Мало ли что! Хошь бы то, что вы засиделись, заболтались друг у дружки, али с книжкой за полночь лежите, даром казенное сало жжете.
– Да неужели и читать-то ночью нельзя?
– Отнюдь. Я к этим порядкам давно приобык: в пажеском корпусе дядькой же без мала двадцать лет состоял. Зато сюда прямо и набольшим поставлен. Да и где же читать еще вам, сударь, коли ровнехонько в шесть часов каждым утром колокол вас с постели встряхнет?
– Но если для меня чтение все равно, что воздух, если я без него жить не могу!
– Охота, значит, пуще неволи-с? – спросил Леонтий и подмигнул лукаво одним глазом. – Ну, что ж, ваше благородие, на нет и суда нет. Коли у вас уж малодушество такое, что без грамоты вам никак быть нельзя, так от нашего брата, мелкой сошки, вам заказу в том не будет: жгите себе огня, сколько душеньке угодно, а наше дело только подать вам знак с колидору, чтобы врасплох, значит, не застало начальство.
– Хитер и увертлив, как истый шляхтич! – заметил Пущин.
Сановитый, бравый дядька выпрямился во весь рост и окинул сверху мальчуганов-лицеистов огненным, чуть-чуть презрительным взглядом.
– Шляхтич-то шляхтич, не отрекаюсь, – с достоинством произнес он, – но отставной сержант гвардии блаженной памяти матушки-царицы нашей Катерины Алексеевны (царствие ей небесное!); прослужил смолоду до седых волос русскому царю честью и правдой и до издыхания своего пребуду столь же верным слугою престола и отечества!
Глава VIII
Тюрьма или клетка?
Последняя туча рассеянной бури!Одна ты несешься по ясной лазури,Одна ты наводишь унылую тень,Одна ты печалишь ликующий день.Довольно, сокройся!..«Туча»– Так-то ты служишь престолу и отечеству? – внезапно раздался из-за двери посторонний голос.
Если бы теперь, среди зимы, грянул вдруг оглушительный раскат грома, все трое разговаривавших не содрогнулись бы, кажется, так, как от этого голоса, слишком им знакомого. Все разом, как по команде, повернулись лицом к проволочному окошечку в дверях, из-за которого сверкали на них два жгучих глаза.
– Мартын Степаныч… – пробормотал не менее школьников смешавшийся дядька и вытянулся в струнку, руки по швам.
– Да, Мартын Степаныч, – подтвердил надзиратель и, распахнув дверь, вошел в камеру. – Твоя служба престолу и отечеству, стало быть, в том, чтобы язык точить по пустякам? А это что?
Вопрос относился к ломтю намазанного патокой ситника в руках Пушкина и к заманчиво разложенным на комоде другой половинке ломтя, шоколадной плитке и кучке яблок.
– Голод не тетка, ваше высокоблагородие, – нашелся тотчас же обер-провиантмейстер, – а в желудке у них нынче полк квартировал…
– И ты ничего умнее не придумал, как эти сласти, от которых и желудок и зубы разболятся? И яблоки, я уверен, незрелые.
Говоря так, Пилецкий взял с комода самое крупное яблоко и откусил половину его.
– Вон как крепки, хоть и довольно сочны, – продолжал он. – Покупать, господа, съестное на свои деньги вам, пожалуй, и не возбранено, но, не говоря уже о бесполезной трате денег, вы из простой деликатности к нашему образцовому заведению могли бы быть воздержаннее: вы здесь у нас на полном содержании и коште, и голодать вам никак уж не полагается.
– Но я с утра ничего не ел… – позволил себе заявить Пушкин.
– А зачем же вы, миленький мой, не ели? – беззвучным своим смехом рассмеялся Пилецкий. – Ведь Василий Федорович, добрейший директор наш, в виде исключения предлагал вам давеча закусить? Хлеб свой так и быть доедайте, но все прочее тут сохраните для десерта, что ли, после обеда. Сами потом мне спасибо скажете. Впрочем, четырех штук яблок вам, пожалуй, много: как раз захвораете. Парочку, с вашего разрешения, я захватил бы с собой для своих деток. Дозволите?
– Берите хоть все! – с холодной гордостью отвечал Пушкин.
– Вам жалко? Ну, не нужно.
Пушкин покраснел как рак.
– Нет, берите, пожалуйста, берите все…
– Ну, благодарствуйте. Парочки с меня довольно. Казенная форма на вас, я вижу, сидит как на заказ. Грива только невозможная: длинна, да и завита никак.
– Да, природою! – уже рассмеялся мальчик.
И надзиратель благодушно усмехнулся.
– Против погрешностей природы, дорогой мой, есть у нас радикальные средства; в данном случае – ножницы. Ужо, Леонтий, как придет парикмахер, не забудь кликнуть этого молодчика.
– Слушаю-с, ваше высокоблагородие.
– А теперь, господа, не угодно ли спуститься в рекреационный зал: там вывешено сейчас расписание будущих ваших уроков. Чай, небезынтересно и вам взглянуть?
Лицеисты послушно вышли из камеры и ускоренным шагом направились по коридору.
– А он вовсе не такой людоед, как мне показалось сначала, – вполголоса заметил на ходу Пушкин. – Только зачем у него на языке все эти сахарные прозвища: «дорогой мой», «миленький мой!»…
– Сахар Медович, привычка уж такая, что поделаешь? – отозвался Пущин. – Но вообще он к нам очень внимателен.
– Кажется, даже чересчур! На язычке мед, а под язычком лед.
– Да, от него ничего не скроешь, все пронюхает, разглядит, и если раз попадешься, то не жди пощады.
– О ком это вы говорите, Пущин? – послышался опять в двух шагах за ними медовый голос Пилецкого, который на своих мягких подошвах без каблуков неслышно нагнал лицеистов. – Если обо мне, то ошибаетесь: как истинный христианин я, видя искреннее раскаяние, всегда готов пощадить; злонамеренного же упорства я, точно, не попущу.
Застигнутые врасплох мальчики, как преследуемая дичь, бросились бежать и, спустившись с лестницы, искали спасения в рекреационном зале.
Здесь от нескольких десятков молодых голосов стоял в воздухе такой гул и гам, что в первую минуту Пушкин был точно оглушен. Вдруг навстречу ему бросился Гурьев с распростертыми руками.
– А! Француз! Душка ты мой!
И прежде чем Пушкин успел отстраниться, тот облобызал его в обе щеки.
– Француз! Француз! – весело подхватили другие и, обступив вновь прибывшего, стали наперерыв пожимать ему руку.
В это время к ним подошел высокий и статный мужчина лет 28-ми, в вицмундире, беседовавший в углублении окна с двумя-тремя воспитанниками.
– Куницын! – шепнул кто-то около Пушкина.
– Здравствуйте, Пушкин, – заговорил молодой профессор и затем обернулся к прочим: – Вы, господа, кажется, и не подозреваете, что делаете ему честь, называя его Французом? Вы этим признаете только его превосходство над вами во французском языке. Или в вас говорит зависть? Не хотелось бы думать.
Внушение было сделано с такою добродушною, благородною строгостью, что лицеисты не могли обидеться, а только смутились. Гурьев же, благоговейно сложив пальцы, проговорил как бы про себя, но настолько явственно, что нельзя было не расслышать:
– Как это верно, как хорошо сказано!
Если он рассчитывал заслужить этим благодарность профессора, то ошибся в расчете: Куницын оглядел его слегка презрительным взглядом, подозвал к себе Пушкина и, обняв его за плечи, пошел ходить с ним по зале.
– Вы дружны с этим Гурьевым? – был первый вопрос его.
– Нет, только случайно раньше познакомились, – отвечал Пушкин.
– И не советую особенно дружиться с ним. А что до клички Француз, – прибавил он, ласково улыбнувшись, – то предрекаю вам, что она, как наклеенный ярлык, за вами так и останется. Ну что, каково вам здесь показалось? Дома вы пользовались полною свободой, а мы одели вас в общую форму, втиснули в рамки определенного расписания, точно связали по рукам и ногам, не правда ли?
– Ах, да… – вздохнул Пушкин. – И в дверях камер даже проволочные решетки, как в тюрьме…
– Не думал я, признаться, что попаду в тюремщики! – засмеялся Куницын. – Но успокойтесь: поверьте мне, что скоро обживетесь, как птичка в клетке. Вы здесь не в тюрьме, а в клетке.
– Только не в золотой!
– Именно в золотой. Великодушный монарх наш приютил вас, лицеистов, в своем царском чертоге, предоставил вам даже тот самый флигель, где до сих пор жили его младшие братья и сестры. Радея о вас, как о родных детях, он отдал вам свою собственную библиотеку, где многие книги носят еще на полях собственноручные его драгоценные пометки. «Мне надобны люди добрые, честные для службы моей» – его подлинные слова. И дабы подготовить вас надлежащим образом «ко всем важным частям службы государственной» (как дословно выражено в высочайшем указе), мы, ваши ходатаи и рачители, приставлены к этой золотой клетке кормить вас самым отборным научным зерном. А отрастут у вас крылья – с Богом! – летите на все четыре стороны и всемерно прославляйте имя нашего державного куратора, что вашу юность так отечески возлелеял. Слегка напыщенная, но образная речь молодого профессора сама по себе не могла уже не затронуть созвучной струны в груди мальчика-поэта. А глубокая убежденность, почти юношеская восторженность, которыми дышало каждое слово этой речи, придавали ей неотразимую силу. Увлеченный ею, Пушкин откровенно признался:
– Я всегда безотчетно любил государя: он так ангельски добр, говорят! В памяти моей навсегда останется один случай, о котором я как-то слышал в детстве.
– Какой это случай?
– А однажды, видите ли, государь со свитой гулял верхом за городом. Вдруг он поскакал вперед. Оказалось, что на берегу реки он увидел толпу крестьян, которые, вытащив из воды утопленника, не знали, что с ним делать. Государь соскочил с коня, велел раздеть покойника и вместе с крестьянами стал тереть ему виски, руки, подошвы ног. Между тем прискакала и свита и, можете себе представить, как была удивлена! А крестьяне совсем обомлели: они до тех пор принимали государя за простого офицера. В свите был и лейб-медик… Забыл, как его зовут…
– Вилье, – подсказал Куницын.
– Да, Вилье! Он достал сейчас же ланцет и стал пускать утопленнику кровь. Но кровь не пошла. Государь не мог успокоиться и целых два часа вместе со свитой и крестьянами возился с несчастным. Но все старания были напрасны. Государь был в отчаянии и велел Вилье еще раз попробовать пустить кровь. И что же? – Кровь пошла, покойник очнулся! Государь от радости даже заплакал и сказал: «Эта минута – счастливейшая в моей жизни!» – Разорвав собственный свой платок на бинты, он вместе с Вилье перевязал больному руку и оставил его только тогда, как убедился, что всякая опасность миновала. Английское общество «Спасения погибающих», когда узнало о таком поступке государя, прислало ему золотую медаль и диплом почетного члена.
– И это не единичный случай, – сказал Куницын, выслушав рассказ Пушкина с сочувственным вниманием. – Но еще более, быть может, должны мы ценить его общие меры человеколюбия. Вы – мальчик развитой, вы меня поймете.
И с прежним одушевленным красноречием он передал теперь подробности о том, как император Александр Павлович вслед за восшествием на престол раскрыл ворота Петропавловской крепости для всех в ней заключенных; как уничтожил виселицы на площадях в городах и селах; как отменил пытку во всех видах ее: с истязаниями и «пристрастными допросами»; как изгнал слово «нещадно» даже из судебных приговоров; как облегчил разные затруднения к поездкам русских за границу и к въезду иностранцев в Россию; как для возможного уравнения прав своих подданных разрешил купцам, мещанам и казенным поселянам покупать земли; как воспретил публикации в ведомостях о продаже людей без земли…
– И говорят даже, – прибавил Куницын с возрастающим увлечением, – что государь задумал совсем освободить крепостных крестьян…
– Этим он себя обессмертит! – воскликнул Пушкин. – Позвольте, я сейчас расскажу другим…
– Чшшш!.. Пока никому ни слова! – спохватился профессор. – У меня как-то нечаянно с языка сорвалось. О будущих благих предначертаниях своих сам государь хранит молчание, и хотя бы таковые им даже окончательно решены и сделались известны всему свету, он не любит громких восхвалений, ибо до крайности скромен. Пример: после войны 1805 года кавалерская дума наша преподнесла ему в ознаменование воинских доблестей противу современного цесаря – Наполеона Бонапарта орденские знаки Георгия 1-й степени; а он что же? – отклонил от себя столь высокое отличие и принял лишь те же знаки 4-й степени. Теперь вы, я полагаю, понимаете, за что его все так любят?
– О да! Не любить его – боготворить надо… Как бы мне хотелось хоть раз увидеть его!
– А вам разве не довелось еще его видеть?
– Никогда!
– Ну, скоро удастся – в этот четверг, 19 числа. А видеть его надо: он прекрасен и духом и телом.
Подошедший тут к Пушкину дядька Леонтий Кемерский прервал дальнейший разговор.
– Пожалуйте-ка, ваше благородие, цирюльник ждет не дождется.
Неохотно оторвался мальчик от молодого профессора, который своею благородною пылкостью сразу привлек его к себе.
День пролетел незаметно среди разнообразных новых впечатлений, в тесном кругу товарищей-лицеистов. Когда же после вечернего чая все они разбрелись по своим кельям, и Пушкин вошел к себе усталый, с отяжелевшей от всего пережитого в течение одного этого дня головой, им овладело вдруг смутное чувство полного одиночества. В первый раз в жизни ведь он был один, совсем один! Правда, эти новые товарищи были веселые, резвые мальчики, но все же чужие ему, как и эта комната…
Он тоскливо огляделся: тускло горела на ночном столике единственная сальная свеча; неприветливо стояла кругом казенная скромная мебель, а в дверях зияла черными квадратиками проволочная сетка…
Келья, как есть, да еще тюремная!..
С тяжелым вздохом Пушкин протянул руку к лежавшей на комоде плитке шоколада и случайно взглянул при этом в висевшее над комодом зеркальце. Оттуда в упор уставилось на него, точно чужое, незнакомое ему теперь, собственное лицо – унылое, с остриженными под гребенку волосами. Губы его искривились горькой улыбкой.
– Арестант! – произнес он валух, в каком-то бессилии опустился на край кровати и машинально стал обдирать обложку с шоколадной плитки.
С улицы доносился заунывный свист и вой разгулявшейся метели, стекла в оконной раме дрожали и дребезжали под хлопьями налетавшего на них снега.
«Заупокойная по мне! – думал про себя Пушкин и с каким-то ожесточением грыз шоколад. – И зачем это они еще кровать переставили? Кто их просил!..»
– Что же вы не ляжете, сударь! Аль по своим взгрустнулось? – послышался над головой его участливый голос.






