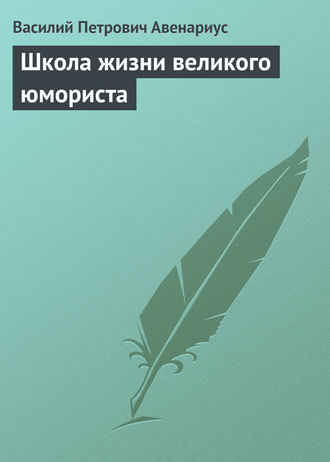
Школа жизни великого юмориста
– Он теперь, кажется, также профессором в здешнем университете?
– Да, и большой эстетик, милейший и благороднейший человек. Итак, я жду вашего предисловия.
Ждать Плетневу пришлось недолго: дня через два Гоголь принес уже свое предисловие и сам прочитал ему его.
Читая, Гоголь по временам вскидывал исподлобья глаза на своего судью и видел, как спокойные черты последнего все более оживлялись. Когда же пасечник в заключение принялся расхваливать стряпню хуторских баб: «Пили ли вы когда-либо, господа, грушевый квас с терновыми ягодами или варенуху с изюмом и сливами? Или не случалось ли вам подчас есть путрю с молоком? Боже ты мой, каких на свете нет кушаньев! Станешь есть – объеденье, да и полно; сладость неописанная! Прошлого года… Однако ж, что я в самом деле разболтался?.. Приезжайте только, приезжайте поскорее; а накормим так, что будете рассказывать и встречному и поперечному», – тут даже хладнокровный всегда Плетнев не вытерпел и потрепал пасечника по спине!
– Браво, браво! Вы так расписываете, что даже у нашего брата, горожанина, слюнки потекут.
– Значит, вы, Петр Александрович, одобряете?
– Ни слова ни прибавить, ни убавить.
– А у меня есть еще второе предисловьице «Вечеру накануне Иана Купала» специально для Свиньина.
– Это для чего?
– Для того, чтобы отблагодарить его за непрошенные поправки.
Миролюбивому Плетневу такая злопамятность была совсем не по душе.
– Ну, полноте, любезный Николай Васильевич! – сказал он. – Кто старое вспомянет, тому глаз вон.
– Да ведь я его не называю; вся отповедь у меня обиняками, которые ему одному могут быть понятны: имеющий уши да слышит. Позвольте, я вам прочитаю.
Это было то самое предисловие, которое с тех пор печатается в начале названного рассказа. Пара «крепких словечек» заставили Плетнева слегка поморщиться, точно в рот ему попало что-то горькое.
– В этом великомудром паныче из Полтавы в гороховом кафтане непосвященному, действительно, довольно трудно угадать Свиньина, – заметил он. – А дьяк диканьской церкви Фома Григорьевич у вас тоже живое или вымышленное лицо?
– Вымышленное, но в то же время один из моих самых старинных знакомых – дьяк Хома Григорович, действующий в комедии моего покойного отца «Простак».
– И вы помянули его теперь добрым словом? Знаете ли что, Николай Васильевич: на днях должен прибыть сюда из Москвы Пушкин. Что скажет Пушкин, то и благо.
Можно себе представить, с каким нетерпением и сердечным трепетом ожидал Гоголь приезда своего кумира – Пушкина!
И вот накануне одной из суббот Жуковского, на которые имел теперь доступ и Гоголь, Плетнев, встретясь с последним в институте, сообщил ему, что Пушкин прибыл и будет завтра у Василия Андреевича.
– Не забудьте же взять с собой ваши рассказы, – напомнил он.
Еще бы не взять! Но на душе у Гоголя было так неспокойно, что перед выходом из дому он на всякий случай принял гофманских капель.
– А вот и Гоголёк наш! – радушно встретил его Жуковский. – Где это вы, пане добродию, так замешкались? У нас тут весь Олимп уже в сборе.
В самом деле, в виду окончания зимнего сезона, перед разъездом на дачи, а еще более, быть может, в расчете встретиться опять с Пушкиным после долгого его отсутствия из Петербурга, – здесь оказались налицо князья Одоевский и Вяземский, Крылов, Гнедич, Воейков. Но у Гоголя не было теперь глаз ни для кого, кроме Пушкина, который раньше всех поздоровался с ним со словами:
– Слышал о вас немало, но до сих пор, грешный человек, не читал ни единой вашей строчки. Нынче, однако, вы исправите, говорят, мой грех?
Но как это было сказано! С какой чарующей улыбкой! Великолепные, словно выточенные из слоновой кости, зубы так и блистали, сверкали белизной; а глаза, глаза!
Совсем растерявшись, Гоголь пробормотал про хрипоту, которая едва ли позволит ему читать.
– Да ты, Александр Сергеевич, не осаживай его с места, – вмешался Жуковский и обратился затем к князю Одоевскому: – Вы, Владимир Федорович, начали что-то про вашу поездку в Павловск?
В 1831 году Одоевскому шел всего двадцать восьмой год, но и тогда уже он был большим знатоком и страстным любителем музыки, тогда же начал ряд своих рассказов из области музыки. Мягким и, так сказать, «музыкальным» голосом заговорил он о «музыкальном» же предмете.
– Хотя аллеи в павловском парке после зимы не совсем еще просохли, меня безотчетно как-то потянуло к Розовому павильону, откуда издали уже долетали ко мне звуки эоловой арфы, точно голос с того света незабвенной императрицы Марии. Когда же вступил в павильон, меня охватило жутко-таинственное чувство, точно светлый образ самой государыни незримо витал еще в этих мирных покоях. Каждая вещь кругом напоминала об ней! Я раскрыл клавесин, коснулся одной клавиши – и она издала такой жалобный тон, что у меня дрогнуло сердце, навернулись слезы. Третий год ведь уже, что благодетельницы нашей не стало, а все как-то не верится, что никогда, никогда ее не увидишь…
Одоевский умолк, и на несколько мгновений вокруг воцарилось молчание.
– В альбоме там я нашел также ваш автограф, Иван Андреевич, – заговорил он снова, – посвященную государыне-солнышку басню «Василек»:
В глуши расцветший ВасилекВдруг захирел, завял почти до половиныИ, голову склоня на стебелек,Уныло ждал своей кончины…– Ну, теперь-то стебелек, пожалуй, не обломится, – заметил князь Вяземский, и лежавшее на всех присутствующих грустное очарование как рукой сняло: все весело оглянулись на старика-баснописца, тучный стан которого недаром заслужил ему от Карамзиной (вдовы историографа) прозвище Слон.
Сам Крылов не повернул даже головы на толстой короткой шее, как бы опасаясь нарушить найденное раз в кресле удобное положение, и только сверху покосился на большой бриллиантовый перстень, пожалованный ему императрицею Марией Федоровной и ярко сверкавший теперь на его жирной руке, покоившейся на ручке кресла.
– Смейтесь, смейтесь! – проворчал он. – Какое вам еще доказательство волшебной силы солнца, коли василек оно обратило в слона?
– На бивни которого не дай Бог попасть! – досказал Пушкин. – А что, Иван Андреевич, прочитали бы вы нам которую-нибудь из ваших басен?
– Не умею я читать…
– Вы-то не умеете? Как сейчас помню: у Олениных[38] играли в фанты; вам вышел фант – прочитать басню. Усадили вас на средину залы, и стали вы читать басню: «Осел и Мужик», – да как этак многозначительно огляделись:
Осел был самых честных правил! —мы все, обступившие вас, так и покатились со смеху. Самому Крылову, должно быть, припомнилось описанное чтение, потому что он чуть-чуть усмехнулся и вздохнул:
– Да, бывало, бывало!
– Не только бывало, но можно сказать, – бывывало, – поправил Пушкин.
– Можно сказать даже «бывывывало», – подхватил Вяземский.
– Можно-то можно, – с самым серьезным видом согласился Крылов, – да только этого и трезвому не выговорить.
Пушкин залился таким звонким, заразительным хохотом, что никто не мог устоять, – никто, кроме одного старика Воейкова: безобразный, желтый, изможденный, он угрюмо сидел поодаль от всех в углу и недоброжелательно исподлобья озирал смеющихся.
– Все басни Ивана Андреевича я готов отдать за одну, – проговорил он, – про общего нашего друга-приятеля – змею подколодную.
– Это про Булгарина? – тихонько спросил Гоголь сидевшего около него Плетнева.
– А то про кого же? – отозвался Плетнев. – Вы знаете ведь басню «Крестьянин и Змея?»
– Господь уж с ним! – миролюбиво вступился Жуковский. – Ты сам, Александр Федорович, усадил его в Желтый Дом[39], ну, и пускай сидит себе там.
– Да ведь и тебе, Василий Андреевич, отведен там особый покой, – сказал Пушкин. – Так не лучше ли всех вас оттуда временно выпустить – на людей поглядеть и себя показать? Александр Федорович! Покажите-ка нам, право, опять всех ваших постояльцев.
К просьбе Пушкина присоединились и другие. Сделавшись предметом общего внимания, старый светоненавистник приосанился и с язвительной усмешкой сказал наизусть целый ряд куплетов из своей бесконечно длинной сатиры «Дом сумасшедших». Гоголь слышал ее в первый раз и потому заслушался уже с самого вступления автора в «Желтый дом».
Вечерком, простившись с вами,В уголку сидел одинИ Кутузова стихамиЯ растапливал камин;Подбавлял из Глинки сору,И твоих, о, Мерзляков,Из Омира по сю поруНедочитанных стихов!Дым от смеси этой едкойНос мне сажей закоптил,Но, в награду, крепко-крепкоИ приятно усыпил!Снилось мне, что в Петрограде,Чрез Обухов мост пешкомПерешед, спешу к оградеИ вступаю в «Желтый дом».Кого-кого желчный сатирик не усадил в свой «Желтый дом»! Когда в числе его жильцов оказался и Жуковский, Гоголь, вместе с другими, невольно взглянул на хозяина-поэта; но тот, как ни в чем не бывало, благодушно только улыбался. Из других помешанных наиболее заинтересовали Гоголя Свиньин, Греч и Булгарин.
В заключение сатиры, автор готов был бежать без оглядки из «Желтого дома», но смотритель дома удерживает его и читает ему указ:
Тот Воейков, что бранился,С Гречем в подлый бой вступал,Что с Булгариным возилсяИ себя тем замарал,Должен быть, как сумасбродный,Сам посажен в «Желтый дом».Голову обрить сегодняИ тереть почаще льдом!Хотя все присутствующие, за исключением одного лишь Гоголя, знали уже сатиру Воейкова, но, по-видимому, выслушали ее не без удовольствия и, вслед за Жуковским, довольно дружно захлопали в ладоши.
– А ты, мой Гнедко, чего надулся? Или обижен, что тебя тоже забыли? – заметил Жуковский Гнедичу, который едва ли не один из всех с явным неодобрением относился к хлестким стихам сатирика.
Как уже известно было Гоголю, Гнедич, подобно Крылову, служил библиотекарем в Императорской Публичной библиотеке, подобно ему, пользовался там казенной квартирой и жил бобылем. Видаясь изо дня в день, они, несмотря на разность лет, состояли в дружеских отношениях и должны бы были, кажется, невольно перенять один от другого некоторые привычки. Между тем трудно было встретить двух людей более противоположных. Крылов был олицетворением славянской стихийной натуры – простой, неряшливой и ленивой. Гнедич, напротив, был чопорный европеец, завивал волосы, одевался по моде и держал себя так, будто считал себя Адонисом, тогда как в действительности лицо его изрытое оспою, было нимало не привлекательно. Даже в горячем споре он сохранял свою величавость, самые простые вещи говорил как бы гекзаметрами и слегка в нос, точно по-французски, причем охотно также украшал свою речь французскими фразами, которые, впрочем, не всегда согласовались с правилами французской грамматики.
– C'est simplement triviale, – прогнусил в ответ Гнедич, – ce ne sont pas des figures, mais, comme disent les Francais, ce sont des figurlettes[40].
– Однако и наш Иван Андреевич выводит в своих баснях своего рода фигюрлеток, – улыбнулся Жуковский, – вместо Сидора да Карпа у него выступают самые подлые твари, а Сидор да Карп тотчас узнают себя.
– Quod licet Jovi, non licet bovi. Что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку.
– Вы это, Николай Иванович, на чей счет? – огрызнулся тут из своего угла Воейков.
Жуковский, в качестве хозяина, поспешил вступиться посредником:
– Bos, bovis, в просторечии бык – общесобирательное имя средней руки поэтов, представителем коих являюсь я, бык по преимуществу, так и именуемый в ковчеге Арзамаса Бычком, тогда как наш поэт Слон и по вашему собственному «Парнасскому адрес-календарю» есть «действительный поэт 1-го класса и входит к его парнасскому величеству без доклада».
– Музу свою вообще посвящая низким предметам, Слон наш с бессмертными также беседу ведет на Парнасе! – с важностью добавил от себя Гнедич.
– Не по-гречески ли, как ваша милость? – колко отозвался Воейков.
– Именно так! Он не меньший знаток древней эллинской речи, чем слуга ваш покорный.
– Вот на! С каких это пор?
– Да неужто ты об этом еще не слышал, Александр Федорович? – спросил Жуковский. – Единственный, можно сказать, пример, что труднейшему языку ленивейший человек в подлунном мире научился на старости лет. Расскажи-ка, Николай Иванович, как это было.
– Было то вот как, – начал Гнедич, самодовольно озираясь и оправляя на шее толстый модный шарф, видимо, сдавливавший ему голосовые связки. – Однажды, едва я поднялся с постели, слышу за дверью слоновую поступь соседа – живем мы ведь с ним на одном коридоре. «Что бы то значило? – думаю. – Верно, по самонужнейшему делу!» И точно. «Так и так, – говорит, – был я вечор у Орлова. Стал он меня подбивать по-гречески вместе учиться; прибыл такой, мол, француз из Парижа, что в короткое время берется и стариков обучить этой мудрости. Как ты рассудишь, дружище?» – «Как рассужу? – говорю, а сам усмехаюсь: стоит предо мной мой Иван Андреевич в туфлях на босу ногу, в шлафоре – грудь нараспашку. – Ты и теперь уж в классической тоге, в сандалиях. Ступай! И передеваться не нужно». – «Будто я так уж ленив?» – «Воплощенная лень, брат! Я бы на месте твоем купил себе греческий Новый Завет да в ящик ночного стола положил бы: авось и собрался бы раз почитать на досуге». – «Гм», – промычал он в ответ, повернулся и вышел. Как-то потом заглянуть мне случилось в ночной его столик. Так ведь и есть! Лежит там евангелие с греческим текстом: только сверху-то пыли чуть не на палец. «Что, cher ami, – говорю, – греки не свой брат?» – «Да, – говорит, – хотел поучиться, да лень раньше нас родилася». Так вот проходит два года. Позвал нас обедать Оленин. После обеда хозяин с Иваном Андреичем скрылись, – верно, в объятья к Морфею, думаю; сам заболтался с хозяйкой. Глядь, к нам Барюша и Петя – хозяйские дети – Ивана Андреича под руки тащат, а следом за ним Алексей Николаич, да три фолианта под мышкой. «Вот вы, Иван Андреевич, спорили все, что???? имеет одно лишь значение: „пасу“, а вот у Гомера и Ксенофонта нашел я другое значение еще: „разделяю“. – „Дайте взглянуть“, – говорит мой Иван Андреич. И что же? Представьте, берет „Илиаду“ и, как ни в чем не бывало, читает себе, переводит по-русски. „Э! – говорю, – не обманешь. И сам я по-английски раз страницу вызубрил, чтобы друзей провести. А на, прочитай-ка из этой вот песни“. Взял он, читает опять, переводит. „Нет, брат, пустое! Не верю. У вас, Алексей Николаич, есть тут, я вижу, еще Ксенофонт; на нем-то уж верно запнется“. Ан не запнулся ведь! „Ну, – говорю, – Иван Андреевич! Было в древности семь чудес, а ты уж восьмое! Как это, братец, скажи, ты в эллина вдруг превратился?“ – „А ведь не боги ж, – в ответ он, – горшки обжигают. Каждую ночь до четвертого часа читал я в постели; ради мелкой печати очками еще обзавелся. Ну, а теперь все едино, что по-гречески мне, что по-русски“».
Рассказывая так, Гнедич безотчетно скандировал каждую фразу. Все с улыбкой поглядывали то на него, то на Крылова; сам же Крылов, точно речь шла вовсе и не об нем, сидел по-прежнему неподвижно, по временам протягивая руку за стаканом остывшего чая.
– А что, Николай Васильевич, – тихонько обратился тут к Гоголю Плетнев, – не пора ли выступить и вам?
Того как варом обожгло.
– Нет, Петр Александрович, лучше отложим до осени…
– До осени? Ну нет, извините. Господа! – громко возгласил Плетнев. – Вот у Николая Васильевича взята с собой рукопись его талантливого земляка-хохла – пасечника Рудого Панька. Не желаете ли послушать один рассказец?
– И весьма! – подхватил первым Пушкин. – Василий Андреевич, стакан сахарной воды и пару свечей.
Не успел очнуться Гоголь, как сидел уже посреди комнаты за маленьким столиком с двумя восковыми свечами (стеариновых в то время не было еще и в помине).
– Смелей, смелей, – шепнул ему Жуковский, ставя к нему на столик стакан сахарной воды.
Было это не лишне: Гоголь чувствовал, как вся кровь у него отлила к сердцу, и дрожащей рукой он поднес к губам стакан сахарной воды.
– Книгу свою пасечник назвал «Вечера на хуторе близ Диканьки», – предварил он слушателей; затем откашлянулся и стал читать: – «Это что за невидаль: „Вечера на хуторе близ Диканьки?“ Что это за вечера? И швырнул в свет какой-то пасечник! Слава Богу, еще мало ободрали гусей на перья и тряпья на бумагу, еще мало народу, всякого звания и сброду, вымарало пальцы в чернилах!..»
С первых же строк, едва только окунувшись в родную стихию, Гоголь, как рыба в воде, ожил. Куда и робость его делась! Читал он так просто, так естественно, точно и в самом деле говорил это старый пасечник. Когда же среди общего напряженного молчания прорывался на том или другом конце комнаты сдержанный смех, по губам читающего пробегала также усмешка, старик-пасечник лукаво посмеивался в бороду: «Будто уж так смешно? Смейтесь на здоровье, люди добрые!»
Когда он дочел свое предисловие, Пушкин опять-таки первый ударил в ладоши; но Жуковский остановил его:
– Это только присказка, сказка впереди.
По прочтении затем и самой сказки – «Вечер накануне Ивана Купала», чтеца наградили еще более шумные рукоплескания, чем давеча Воейкова.
– Вот, господа, чистая родниковая вода, истинная поэзия! – воскликнул Пушкин.
– Ну какая же это поэзия? Это повседневная проза… – стыдливо пробормотал Гоголь, но сам был так счастлив, о, как счастлив!
– Именно поэзия! – продолжал Пушкин. – Даже предисловие пасечника полно безыскусственной красоты. Настоящий комизм есть прекращенное безобразие и восстановленная красота. При случае вы, пожалуйста, еще кое-что мне прочитайте. Вы где располагаете провести лето?
– В Павловске – на кондициях в одном доме…
– Ну вот, чего же лучше? Из Павловска до Царского рукой подать. Я буду жить там – не забудьте! – по Колпинской на даче Китаевой; Василий Андреевич – в Александровском дворце. По образу пешего хождения можете навещать нас хоть каждый день; милости просим.
Глава восемнадцатая
Donna sol
Еще до переезда своего на лето в Павловск Гоголю пришлось познакомиться с молодою фрейлиной Александрой Осиповной Россет, которой суждено было впоследствии найти в нем лучшего друга и первого советчика в вопросах религии и совести.
Хотя ей минул всего двадцать год, но, благодаря ее необыкновенно привлекательной наружности, пленительному обращению, живому уму и многостороннему образованию, она играла уже видную роль как в интимном кружке молодой императрицы, так и в литературном мире: в гостиной ее собирались первые тогдашние литераторы, находившие в ней всегда самую отзывчивую и самую влиятельную защитницу от строгостей цензуры. Она умела ценить, впрочем, не только Байрона и Пушкина, но и Рафаэля и Брюлова, Гайдна и Глинку; изучив генерал-бас, она была также прекрасная музыкантша. Чтобы лучше уразуметь восточное богослужение, поучения Григория Назианского и Иоанна Златоуста, она брала уроки греческого языка; после же урока тотчас отправлялась на дипломатический раут, где беседовала с французским посланником о парижских делах, как старый политик, а вслед за тем перед цветом придворной молодежи рассыпала блестки остроумия.
Как благодатное солнце, всех равно освещающее, она получила от князя Вяземского прозвище Donna Sol, по имени главного действующего лица в драме Виктора Гюго «Эрнани». Но у нее было, кроме того, несколько не менее лестных наименований: тот же Вяземский титуловал ее еще «мадам Фонвизин» и Ласточкой, Жуковский – вечною принцессой и небесным дьяволенком, Мятлев – Пэри и Колибри, Хомяков – Девой Розой, Глинка – Инезильей. При дворе же она, брюнетка, была известна более под именем Саши Черненькой, в отличие от другой фрейлины, Александры Эйлер, блондинки, Саши Беленькой, как называла их маленькая княжна Александра Николаевна.
Обо всем этом Гоголь слышал еще зимою у Жуковского и Плетнева, как и о том, что в жилах Россет не было ни капли русской крови[41], но что она провела свое раннее детство в Малороссии, воспитывалась в Екатерининском институте и в душе была настоящей русской.
И вот однажды, в мае месяце, когда он только что давал (по собственным его словам) «прескучный» урок в доме Балабиных и его «бедная ученица зевала», совершенно неожиданно вошла к ним Россет.
– А я пришла проститься с тобой, Мари: послезавтра мы с императрицей переезжаем в Царское, – объявила Александра Осиповна, с любопытством оглядывая учителя-хохла, о таланте которого наслышалась также от его двух покровителей.
Но Гоголь показался ей таким «неловким, робким и печальным», что она оставила его на этот раз в покое. Зато на другой же день по записке Плетнева он был вытребован к половине седьмого вечера к Жуковскому; когда же явился туда, то застал там, кроме Плетнева, еще и Пушкина, который встретил его со смехом:
– Попался, пасечник! Я всегда ведь говорил, что женщины дипломатичнее нашего брата. Пожалуйте-ка теперь с нами.
– Куда? – перепугался Гоголь.
– Очень недалеко: до фрейлинского коридора.
– Но к кому? Неужели…
– К донне Sol? Именно. Она видела вас вчера у Балабиных.
– И взяла с нас слово привести к ней земляка сегодня же во что бы то ни стало, потому что завтра уж перебирается в Царское, – пояснил Жуковский.
– Причем сама подала мысль – не говорить вам вперед, для чего вас вызывают… – добавил Плетнев.
– Потому что знала, что вы упрямый хохол, – заключил Пушкин.
Гоголь совсем оторопел.
– Нет, господа, воля ваша, я не могу, ей-ей, не могу!
– Если кто не может чего, то говорит «не хочу»; если же не хочет, то говорит «не могу». Вы можете, но не хотите.
– Да как он смеет не хотеть! – вскричал Жуковский. – Он должен за великую честь почитать! Вы, Николай Васильевич, поймите, просто глупый молодой человек…
– И невежа, поймите, и грубиян! – подхватил опять Пушкин. – Все должны слушаться Александры Осиповны, и никто не смеет упираться, когда она приказывает.
Под таким градом неотразимых аргументов Гоголь поник головой.
– Ну, слава Богу, кажется, урезонили, – сказал Плетнев, берясь за шляпу. – Меня уж извините, господа, перед Александрой Осиповной: в половине восьмого у меня в институте конференция. Смотрите только, чтобы арестант не сбежал у вас по пути.
– Не сбежит.
… – Орест и Пилад! – радостно приветствовала Россет своих двух старых друзей, а затем, когда Пушкин заявил, что они насилу привели к ней упрямца, и просил приютить последнего, чтобы он не хандрил по своей Украине, – она с тою же обворожительною улыбкой обратилась и к Гоголю, схоронившемуся было за широкой спиной Жуковского: – Вас, верно, тоже давит это северное небо, как свинцовая шапка? Я семи лет уже уехала из милой моей Малороссии на север – на скучный север! – и все вот не могу забыть и хуторов, и степи, и солнца… Однако позвольте вас познакомить с моими двумя подругами.
Подруги эти были сидевшие тут же на диване другие фрейлины императрицы: Урусова и Эйлер.
«Саша Беленькая»! – вспомнилось Гоголю при виде высокой и полной, флегматического вида блондинки-немки.
На столе перед гостями стояла ваза с крупной земляникой.
– Первые ягоды из царскосельских оранжерей, – объяснила молодая хозяйка, накладывая полную хрустальную тарелочку самых сочных ягод и густо посыпая их сахаром. – Вас, Бычок и Сверчок, угостят ваши дамы. Я угощаю теперь только своего земляка. Вы, конечно, не откажетесь?
– Прийде коза до воза, каже: «Ме-е-е!» – отвечал Гоголь скрепя сердце, с натянутой улыбкой.
– Так Хохландией и повеяло! – рассмеялась Россет. – Пойдемте-ка сюда, к окошку: тут ни один москаль нам не помешает.
Усевшись с земляком у открытого окна, выходившего на Неву, она завязала с ним оживленную беседу о родной Украине. Что значит, с кем говорить и о чем! Перескакивая с русского языка на малороссийский, а с малороссийского опять на русский, она живо выведала у него все, что ей нужно было, о Васильевке и ее обитателях, а потом принялась сама рассказывать о малороссийском хуторе своей бабушки Громоклее-Водине и аистах на его крышах, о самой бабушке, хорошо говорившей также по-малороссийски, но с грузинским акцентом, о своей бонне швейцарке Амалии Ивановне, выписанной из Невшателя, о своей няне Гопке, которая так стращала ее своими рассказами о Вие…
– Это – вампир греков и южных славян, – подал голос из глубины комнаты Пушкин, прислушивавшийся, по-видимому, к болтовне хохла и хохлушки.
– Сверчок, под печку! – шутливо цыкнула на него Россет и принялась декламировать малороссийские стихи.
– А теперь спойте ему «Грыцю», – сказал Жуковский. – Угощать так угощать.
Россет, не чинясь, села за фортепиано и затянула: «Ой, не ходы, Грыцю, на вечерныцю…». В голосе у нее нашлись такие задушевные ноты, что, когда она кончила, все слушатели просидели еще несколько мгновений молча, как бы ловя улетевшие звуки, а потом все разом вдруг объявили, что она никогда еще так не пела, – все, кроме Гоголя, который только тяжело дышал да хлопал ресницами, точно у него за ними что-то накипало. Певица не могла, конечно, не заметить произведенного не него впечатления.
– Ах, нагла милая, милая Украйна! – вырвалось у нее. – Я отдала бы, кажется, все на свете, чтобы увидеть опять нашу чудную степь с ее весенними цветами: колокольчиками, нарциссами, васильками…






