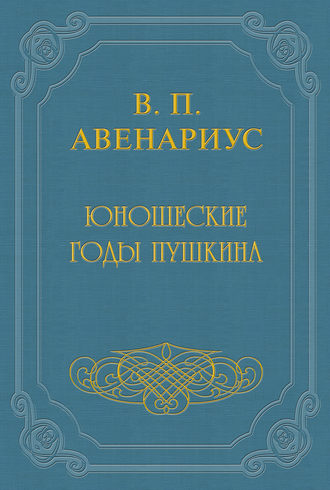
Юношеские годы Пушкина
Для телесных упражнений воспитанников Энгельгардт завел гимнастику, а в парке зимой устраивал для них ледяные горы и каток.
Раз до него дошел слух, что в Павловске у императрицы Марии Федоровны какой-то заезжий итальянец давал представления с маленькой дрессированной лошадкой. Он не замедлил послать за этим искусником, и на лицейском дворе, в присутствии всех обитателей лицея: начальства, воспитанников и прислуги, франт-итальянец во фраке, треугольной шляпе, чулках и башмаках вывел свою ученую лошадку, которая премило кланялась публике, сгибая передние ноги, и ударом копыта отвечала на задаваемые вопросы о времени, о числе собранных тут лицеистов и т. п. Для финала сам «синьоре профессоре» (как величал себя фокусник) просвистал несколько итальянских арий соловьем. Графу Броглио последнее так понравилось, что он за приличное вознаграждение упросил искусника дать ему несколько приватных уроков и, действительно, научился у него щелкать и рокотать почти по-соловьиному.
Всем описанным не ограничивались заботы Энгельгар-дта о лицеистах. Зимою, в праздники, он возил их на тройках за город, а летом, захватив с собой провизии, совершал с ними пешком отдаленные «географические» экскурсии, продолжавшиеся день и два.
Наконец, находя, что домашнее воспитание должно служить фундаментом для воспитания школьного и общественного, что вращение в семейном кругу и особенно в женском обществе «шлифует» угловатые манеры, смягчает нравы необузданной молодежи, – он выхлопотал у министра лицеистам старшего курса право отлучаться после уроков в город, т. е. в Царское Село и Софию, в знакомые им семейные дома, и точно так же открыл им двери и в собственный свой дом. Семья его состояла из жены и пятерых детей[38]. Кроме того, в доме у него проживала молодая родственница – вдова Мария Смит, урожденная Шарон-Лароз, впоследствии вышедшая замуж за Паскаля, очень милая и остроумная дама. Ежедневно несколько человек лицеистов приглашались на квартиру директора и проводили здесь вечер в непринужденной беседе, в чтении по ролям театральных пьес, в общественных играх.
Здесь же, у Энгельгардтов, они увидели впервые запросто, как обыкновенного смертного, императора Александра Павловича. Государь, давно знавший и оценивший Энгельгардта, при встрече с ним в парке охотно с ним заговаривал, а иногда заглядывал к нему и в дом. Так зашел он раз под вечер, когда у директора собралась уже компания лицеистов, в том числе и Пушкин.
– Вижу и радуюсь, что директор и его воспитанники составляют одну нераздельную семью, – сказал он; затем, обернувшись к хозяину, добавил: – Твои воспитанники, стало быть, для тебя не мертвый педагогический материал, а живые люди?
– Ваше величество, – отвечал Энгельгардт, – позвольте мне повторить то, что сами вы при мне приказывали вашему придворному садовнику, когда я имел раз счастье сопровождать вас на прогулке. «Где увидишь протоптанную тропинку, – сказали вы ему, – там смело прокладывай дорожку: это – указание, что есть потребность в ней».
– А у молодых людей, заметил ты, вероятно, не меньшая потребность в обществе взрослых и семейных людей?
– Да, ваше величество, в особенности же это важно для юношей восторженных и талантливых, которые подают большие надежды, но, по выходе из заведения, среди беспокойной толпы очутились бы как на бурном море.
– Так есть между твоими воспитанниками и такие? – спросил государь и, прищурясь своими близорукими глазами, с любопытством оглядел вытянувшихся в ряд лицеистов.
– Одного я имею возможность сейчас представить вашему величеству, – сказал Энгельгардт и, подойдя к Пушкину, подвел его за руку к государю. – Это – Александр Пушкин, будущая надежда и краса родной литературы.
– Я читал твои «Воспоминания о Царском» и стихи на мое «возвращение», – ласково произнес Александр Павлович. – Старайся – и я тебя не забуду.
Поэт-лицеист от неожиданности был до того смущен, что ничего не нашелся ответить. Император, делая вид, что не замечает его замешательства, обратился опять к Энгельгардту.
– Ты, я полагаю, теперь уже не раскаиваешься, что принял от меня должность начальника лицея?
– Нет, государь, не только не раскаиваюсь, но полагаю, что всякий подданный ваш может мне позавидовать, – не потому, чтобы обязанности мои были так легки, а потому, что нет деятельности полезнее для общества, как деятельность добросовестного педагога.
– Ты полагаешь?
– Я убежден в этом. Всякая другая деятельность, как бы она ни была усердна, остается единичною; педагог же воспитывает, дает отечеству десятки примерных граждан и тем удесятеряет свою деятельность на пользу общества.
– Ты прав, – сказал государь. – Воспитание юношества – самое благородное занятие, но, я думаю, и самое трудное! Мне остается только гордиться тем, что я выбрал тебя, что я – твой хозяин, как ты – хозяин твоего верного Султана. Кстати, что его не видать?
– Отслужил уже свою службу, ваше величество, – со вздохом отвечал Энгельгардт, – и прошлой зимой приказал долго жить.
– А жаль: славный пес был!
Сказав еще несколько милостивых слов хозяйке и молодым людям, император удалился. Лицеистов заинтересовало, почему вдруг Александр Павлович вспомнил о собаке директора?
– Султан мой был огромный водолаз и вернейший пес, – объяснил Энгельгардт. – И летом, и зимой он сторожил здесь в Царском нашу дачу. Чужих он вообще очень неохотно пропускал в дом; военных же особенно недолюбливал. И вот однажды, когда я сидел в кабинете за письменной работой, за окошком раздался шум подъезжающего экипажа и страшный собачий лай. Я выглянул – да так и обмер: у калитки остановилась царская коляска; в саду же никого не было, кроме Султана, который с бешеным лаем огромными скачками бежал навстречу государю! Не помню уж, как я сам выскочил на балкон. И что же я вижу? Государь стоит совершенно спокойно там же, у калитки, и ласкает моего Султана, а Султан лижет ему ласкающую руку.
– Что ты так бледен, Энгельгардт? – спросил меня государь. – Ты нездоров?
– От испуга, ваше величество, – отвечал я. – Я услышал лай собаки и увидел вашу коляску…
– Чего же тебе было пугаться? Ведь она тебя, я думаю, слушается?
– Слушается, государь; но ведь я – ее хозяин…
– А я – твой хозяин, – сказал с улыбкой государь. – Ты видишь, собака это хорошо понимает: она мне руку лижет.
Большинство лицеистов в скором времени оценило нового директора и с каждым днем все более привязывалось к нему. Даже своевольный граф Броглио, попытавшийся было сначала выйти из-под его власти, сам собой смирился. Дело было так.
Все лицейское начальство до сих пор говорило лицеистам «вы». Исключение делал иногда только (как уже упомянуто нами) надзиратель Фролов, когда был в духе.
– Что с него взыскивать, – говорили меж собой лицеисты, – он – старый служака, военная косточка!
И вдруг теперь Энгельгардт, человек уже не военный, придававший особенное значение приличному, деликатному обращению, с первого же дня стал говорить без разбору всем воспитанникам «ты».
– Какое право он имеет так фамильярничать с нами? – зароптал громче всех надменный Броглио. – Мы, кажется, уже не такие малюточки! Я его когда-нибудь хорошенько проучу!
– Ну, не решишься, – усомнились товарищи.
– Я-то не решусь? А вот погодите: обрею лучше бритвы!
Он воспользовался для того первым случаем, когда директор проходил через рекреационный зал. Ласково заговаривая по пути то с одним, то с другим, Энгельгардт подошел только что к дверям в столовую, когда Броглио, протиснувшись мимо него, задел его локтем и, пробормотав вскользь: «Виноват!», посвистывая, прошел далее.
– Послушай-ка, Броглио! – раздался позади него голос директора.
Броглио на ходу озирался по сторонам с таким видом, будто недоумевает, к кому могут относиться эти слова.
– Граф Броглио! – вторично окликнул его Энгельгардт. Тот с самою утонченною вежливостью подошел к начальнику и шаркнул ногой.
– Вы меня звали, Егор Антоныч?
– Звал. У тебя, мой друг, дурная привычка – свистать.
Броглио опять обернулся через плечо, как бы желая удостовериться, нет ли кого у него за спиной.
– Вы с кем это говорите, Егор Антоныч?
– С вами, ваше сиятельство!
– Ах, со мной! А то я подумал, что тут стоит какой-нибудь сторож, потому что нас, лицеистов, слава Богу, никто из начальства еще до сих пор не «тыкал».
Ходившие по залу и громко разговаривавшие между собой товарищи молодого графа теперь остановились, примолкли и с затаенным любопытством следили за возникшим между ним и директором препирательством.
– Виноват, ваше сиятельство! – произнес с явной иронией Энгельгардт, нимало при этом не возвышая голоса. – Говорил я вам «ты» не потому, что считал вас сторожем (хотя манера ваша толкаться и свистать – скорее прилична сторожу, чем лицеисту), но потому, что в воспитанниках вижу как бы моих родных детей и обращаюсь с ними, как с собственными детьми. Но вы, граф, можете быть отныне совершенно покойны: насильно я не буду вам отцом, и вы для меня будете только казенным воспитанником.
С легким поклоном директор вышел. Броглио, меняясь в лице, кусая губы, глядел ему вслед; потом вдруг расхохотался. Но хохот его как-то не удался и на полутоне оборвался.
– Что, брат, поперхнулся? – донеслось к нему из ближайшей кучки товарищей.
– Бородобрей! Обрил лучше бритвы! – послышалось из другой группы.
– Дурачье! – буркнул Броглио и, круто повернувшись, вышел также вон.
Прошел день, прошло два, а прежние приятельские отношения Броглио к другим лицеистам еще не возобновились. Энгельгардт, ничуть не изменив своего обхождения с остальными, подходил, как бывало, то к одному, то к другому, продолжал называть их «ты», и никто этим не думал обижаться. Самолюбивого же графа он решительно не замечал, глядел на него как в пустое пространство. Такое невнимание к нему любимого директора не осталось без влияния и на прочих воспитанников: точно по уговору, они, видимо, избегали уже опального товарища. Сам Броглио, чувствуя это, гордо сторонился от них и, против обыкновения, забивался куда-нибудь в отдаленный угол с книжкой.
На третьи же сутки Энгельгардт совершенно неожиданно подошел к отверженному.
– Чего ты сидишь все один? – сказал он с обычной своей добротой. – Ступай сейчас играть с друзьями.
Наболевшее сердце молодого графа не выдержало: он отвернулся, чтобы не показать, что у него на глазах слезы.
– Комовский! Тырков! – позвал Энгельгардт проходивших мимо двух лицеистов. – Не видите: на друга вашего хандра напала! Возьмите его с собой.
– Что ж, в самом деле, Броглио? Пойдем с нами, – сказал Комовский.
– Ступай с ними, друг мой, – повторил директор, – они давно соскучились по тебе.
Клеймо, наложенное на опального, было снято, и товарищи тем охотнее приняли его вновь в свою среду, что за последние два дня лишились в нем главного руководителя игр.
С этих пор у лицеистов считалось уже большим наказанием, когда Егор Антонович не удостаивал говорить им «ты». Стоило ему мимоходом спросить кого-нибудь: «Хорошо ли вы, N. N., провели время там-то?» – и все уже знали, что N. N. провинился, и невольно чуждались его, пока не слышали опять обращенное к нему директором отеческое «ты».
Глава XVI
Пушкин и Энгельгардт
Придет ли час моей свободы?Пора, пора! Взываю к ней.«Евгений Онегин»Воспоминание безмолвно предо мнойСвой длинный развивает свиток;И с отвращением читая жизнь мою,Я трепещу и проклинаю,И горько жалуюсь, и горько слезы лью,Но строк печальных не смываю.«Воспоминание» (1828)Если Энгельгардт сумел уже внушить уважение и любовь всем вообще лицеистам, то тем более должны были питать к нему чувство благодарности лицейские литераторы, о которых он специально позаботился увеличением библиотеки и устройством чтений. Восторженный Кюхельбекер, а за ним невозмутимый Дельвиг, действительно, сделались самыми усердными участниками литературных вечеров на квартире директора. Один только Пушкин не мог побороть своего врожденного отвращения к немецкому языку, на котором не только зачастую происходили чтения (потому что читались в оригинале и немецкие классики), но велись также разговоры в семье директора. Недавнее посещение «арзамасцев» тянуло его совершенно в другую сторону – к родной литературе. Душевное настроение его в это время лучше всего рисует следующее письмо его к князю Вяземскому от 27 марта 1816 года:
«Признаюсь, что одна только надежда получить из Москвы русские стихи Шапеля и Буало могла победить благословенную мою лень. Так и быть, уж не пеняйте, если письмо мое заставит зевать ваше пиитическое сиятельство: сами виноваты! Зачем дразнить было несчастного царскосельского пустынника, которого уж и без того дергает бешеный демон бумагомарания?..
Что сказать вам о нашем уединении? Никогда Лицей (или Ликей, только, ради Бога, не Лицея) не казался мне так несносным, как в нынешнее время. Уверяю вас, что уединение в самом деле вещь очень глупая, назло всем философам и поэтам, которые притворяются, будто бы живали в деревнях и влюблены в безмолвие и тишину.
Блажен, кто в шуме городскомМечтает об уединенье,Кто видит только в отдаленьеПустыню, садик, сельский дом,Холмы с безмолвными лесами,Долину с резвым ручейкомИ даже… стадо с пастухом!Блажен, кто с добрыми друзьямиСидит до ночи за столомИ над словенскими глупцамиСмеется русскими стихами.Правда, время нашего выпуска приближается; остался год еще. Но целый год еще плюсов, минусов, прав, налогов, высокого, прекрасного!.. Это ужасно! Право, с радостью согласился бы я двенадцать раз перечитать все 12 песен пресловутой „Россиады“, даже с присовокуплением к тому и премудрой критики Мерзлякова, с тем только, чтобы граф Разумовский сократил время моего заточения. Безбожно молодого человека держать взаперти и не позволять ему участвовать даже и в невинном удовольствии погребать покойную „Академию“ и „Беседу губителей Российского слова…“»
Но вот, очень скоро после этого письма, Пушкин зачастил в дом Энгельгардта, сделался там почти ежедневным гостем. И вдруг, точно так же внезапно, он прекратил опять свои посещения. Что было причиной того и другого?
У Энгельгардта собралось к чаю, по обыкновению, несколько человек лицеистов; был тут и Пушкин. Весь вечер он был в каком-то ненормальном настроении духа. Сперва он был до ребячества весел, до колкости остроумен; потом вдруг стал до беспамятства рассеян, до угрюмости молчалив. Такая перемена совпала в нем как раз с исчезновением из-за чайного стола молодой родственницы хозяина, Марии Смит.
– Да где же Мери? – хватилась ее хозяйка и отправилась отыскивать отсутствующую.
Вскоре затем возвратившись, она наклонилась к уху мужа и шепнула ему что-то. При этом взор ее на одно мгновение вперился в лицо Пушкина. Но взор этот был так пытлив и проницателен, что Пушкин зашевелился на стуле и опустил глаза. Между тем Энгельгардт встал и ушел в свой кабинет.
– Что с мадам Смит? – спросил кто-то за столом.
– Ничего… мигрень… – отрывисто отозвалась г-жа Энгельгардт.
Немного погодя, Егор Антонович вышел опять из кабинета.
Он не взглянул ни на кого, не промолвил ни слова; но пасмурное, почти суровое выражение его лица, всегда столь открытого и приветливого, не предвещало ничего доброго.
Когда пробила половина десятого и лицеисты стали расходиться, Энгельгардт задержал Пушкина:
– Останьтесь на минутку.
Потом, выждав, когда все прочие удалились, он позвал его за собой в кабинет.
– Что это значит, Пушкин? – с сдержанным негодованием заговорил он тут. – Сколько я знаю, вы – хорошего семейства: в лицей воспитанников принимают с строгим разбором; у вас самих есть, кажется, и старшая сестра?
– Есть… – отвечал Пушкин, не смея поднять на директора глаз.
– Как же вы, скажите, позволили себе такую выходку с Мери?
– Что же я такое сделал, Егор Антоныч? Я написал ей только стихи…
– Стихи – да; но какие!
Они стояли около письменного стола, освещенного лампой. Егор Антонович поднял на столе пресс-папье, под которым лежала пачка бумаг. Сверху оказался розовый почтовый листок, очень хорошо знакомый Пушкину. Энгельгардт взял его в руки.
– Вы не знаете еще никакого различия между людьми! – продолжал он, и в голосе его невольно прорывалось его душевное раздражение. – Не говоря уже о совершенной неуместности вообще обращаться со стихами к молодой даме, когда она со своей стороны не подала к тому ни малейшего повода, – у вас есть тут, например, такие стихи:
О, бесценная подруга!Вечно ль слезы проливать?Вечно ль мертвого супругаИз могилы вызывать?Что это такое, Бога ради, объясните мне? Молодую вдову, которая едва схоронила только и оплакивает своего любимого мужа, без спросу утешает первый попавшийся школьник и для рифмы еще осмеливается называть ее «бесценной подругой»! Скажите: что вы – в уме своем были или нет?
Пушкин молчал, сгорая от стыда и досады. Энгельгардт пристально смотрел на него, как бы стараясь проникнуть в глубину его души.
– Вы не думайте, что я слишком короткое время знаю вас, – заговорил он опять. – Хоть я, правда, здесь в лицее всего несколько недель, но я старался внимательно изучить всех вас и составил лично для себя даже письменно характеристику каждого из вас. Я буду с вами, Пушкин, вполне откровенен: я прочту вам то, чего никому не читал, никому не прочту.
Вынув из стола толстую тетрадь, Энгельгардт стал перелистывать ее[39].
– Я пишу для себя по-немецки, – объяснил он. – Вы хотя и слабы в этом языке, но, надеюсь, сколько нужно – поймете. Если же чего не поймете, то спросите – я вам переведу. Слушайте, что у меня сказано про вас:
«Его высшая и конечная цель – блестеть, и именно поэзиею; но едва ли найдет она у него прочное основание, потому что он боится всякого серьезного учения, и его ум, не имея ни проницательности, ни глубины, совершенно поверхностный, французский ум».
– Верно это или нет? – спросил Егор Антонович, переставая читать.
– Может быть, и верно… – с глухим ожесточением отвечал Пушкин. – Но если природа отказала мне в настоящем уме, так разве в том моя вина?
– Это было у меня написано до сегодняшнего дня, – сказал Энгельгардт. – Но вот час тому назад, когда госпожа Смит передала ваши стихи, я приписал следующее:
«Это еще самое лучшее, что можно сказать о Пушкине. Его сердце холодно и пусто; в нем нет ни любви, ни религии; может быть, оно так пусто, как никогда еще не было юношеское сердце. Нежные и юношеские чувствования унижены в нем воображением…»[40]
– Нет, Егор Антоныч! Это уже неправда! – горячо перебил тут Пушкин. – О религии лучше не будем говорить, потому что вы – лютеранин, я – православный; но сердце во мне есть, теплое русское сердце… когда-нибудь вы это узнаете…
В голосе поэта-лицеиста сквозь слезы звучала нота глубоко уязвленного самолюбия.
– Дай-то Бог! – вздохнул Энгельгардт. – Но если так, то чем же прикажете объяснить ваш поступок? Беспредельным легкомыслием, что ли? Скажите: вы любите вашу сестру?
– Как вы еще спрашиваете!
– Очень любите?
– Очень.
– Так вот, представьте же себе, что она вышла бы замуж, что она вскоре бы овдовела, и тут какой-нибудь молодчик без всякого повода с ее стороны написал бы ей такое же точно милое утешение. Сочли ли бы вы это за дерзость?
– Еще бы!..
– Как же вы поступили бы с ним?
Ответа не было.
– Что сделали бы вы с ним? – повторил Егор Антонович.
– Я убил бы его на месте!.. – глухо прошептал Пушкин.
– Надеюсь, что до этого не дошло бы, – сказал Энгельгардт. – Но совесть и, кажется, сердце у вас все же есть. Очень рад и буду еще более доволен, если все окажется с вашей стороны только юношеским увлечением. Во всяком случае, вы поймете, Пушкин, что мадам Смит не может не чувствовать оскорбления, что ей тяжело быть в одном обществе со своим оскорбителем, пока хоть несколько не уляжется ее неприязнь против него.
– Хорошо! Я не буду вовсе ходить к вам… – отрывисто проговорил Пушкин.
– Неделю-другую пропустите, а там опять милости просим. Тем временем вы успеете на досуге вдуматься в ваш поступок. Вообще, всякому из нас нелишне время от времени перебирать свое прошлое, чтобы избегать ошибок. И вам советую делать то же. Доброй ночи!
В последних словах звучало уже снова то отеческое благоволение, которое выказывал директор ко всем лицеистам.
Давно обитатели лицея от мала до велика покоились мирным сном. Один только Пушкин ворочался под своим одеялом и ни в каком положении не находил себе покоя. О! Как охотно открыл бы он теперь наболевшую душу перед первым своим другом, Пущиным… Стоило ведь только стукнуть в разделявшую их стенку. Но рука у него не подымалась: признаться другу в таком поступке – о, нет, нет!.. Тот от него, пожалуй, тоже отшатнется…
«Вдумайтесь на досуге в ваш поступок; переберите ваше прошлое», – вспомнились ему тут слова директора. И с каким-то горьким самоуслаждением кающегося дервиша, истязающего самого себя, он стал в памяти перебирать свое прошлое, свое непослушание и своеволие как в родительском доме, так и в лицее, разные мелкие столкновения с товарищами, с начальством… Ночью, когда воображение наше работает сильнее, все предметы, как известно, являются нам в значительно преувеличенном виде. Нагромождая против себя обвинение на обвинение, Пушкин представлялся сам себе наконец каким-то беспримерным, чудовищным грешником. Слезы душили его, но он пересиливал себя, и только глубокие вздохи невольно вырывались из его груди.
– Что же ты, Пушкин, не ходишь уже к Егору Антонычу? – спросил его как-то несколько дней спустя Пущин.
– Как не хожу? Вчера еще был… – отговорился он.
– Вчера? Нет, вчера как раз я был там, и тебя наверное не было.
– Ну, так третьего дня.
– И третьего дня тебя там не могло быть: мы вместе же с тобой сидели еще здесь за ужином, помнишь?
– Ах, отстань, пожалуйста!
Покачав головой, Пущин отстал.
Но вот две и три недели прошли уже со времени разговора с директором, а Пушкин по-прежнему чуждался его. Сам Егор Антонович наконец зашел к нему в камеру, где застал его за конторкой с пером в руках. Обернувшись и увидев директора, Пушкин как будто оторопел и спрятал свое писание в конторку.
– Пиши, пиши: я не хочу мешать тебе, – с прежней уже ласковостью заговорил Энгельгардт. – Я хотел только спросить тебя, Пушкин: за что ты еще дуешься на меня?
– Я не дуюсь, Егор Антоныч… – не поборов еще смущения, отвечал Пушкин.
– Но ты не бываешь у меня?
– Вы очень хорошо знаете, Егор Антоныч, почему…
– О! Если ты про то, то все уже давно забыто и прощено. О тебе уже спрашивали…
– Благодарю вас; но… извините меня…
– Так ты меня, видно, вовсе не любишь? Но за что, скажи?
– Вы сами же, Егор Антоныч, меня тоже терпеть не можете! – с внезапною горечью вырвалось у Пушкина. – Вы считаете меня совсем бессердечным…
– Я, может быть, несколько переменил уже мое мнение о тебе; от тебя же зависит совершенно переубедить меня.
Обняв рукой юношу, Энгельгардт продолжал:
– То, что я слышал с тех пор про тебя от твоих наставников, от твоих товарищей, заставило меня глубже вдуматься в тебя. Из тебя выйдет, вероятно, не совсем заурядный человек. У тебя нет необходимой выдержки, усидчивости – правда; но зато природа одарила тебя богаче многих других. Ты нахватал урывками массу сведений, которых не найти ни в каких учебных книгах. Между тем обмен мыслями с другими людьми еще более упражняет и обогащает ум. Поэтому тебе просто грех избегать общества, которого ты мог бы быть украшением.
Пушкин слушал молча, насупив брови и отворотившись от директора.
– Напротив, Егор Антоныч, – отрывисто наконец произнес он, – я вовсе не гожусь для общества. В обществе требуется так называемый такт, то есть лицемерие, ложь; а я лгать не умею: что на душе, то и на языке.
– Лгать, мой друг, или не всегда говорить правду – разница огромная. Можно быть благороднейшим, правдивейшим человеком – и высказывать истину только там, где от того может быть польза, умалчивать же о ней там, где нет от того пользы или где можно нанести только незаслуженный вред или оскорбление. Не безрассудно ли, например, не жестоко ли доказывать слепому счастье зрячих – видеть окружающий мир и несчастие его самого – не иметь зрения? Не безумно ли описывать лопарю прелести итальянской природы и убеждать его, что судьба обидела его суровым климатом, бесплодной землей?
– Ну, конечно… – должен был согласиться Пушкин.
– А не случалось ли, подумай, и тебе колоть глаза твоим ближним такими их недостатками, которых они, при всем желании, не могут исправить?
– Случалось… Но если кто чересчур уже смешон, как, например, Кюхельбекер, то как же над ним не посмеяться?
– Посмеяться – да, про себя, в душе; но не поднимать его публично на смех, не глумиться над ним перед всеми, не оскорблять в нем человека. Затем, однако, ты вообще также слишком опрометчиво выражаешь свои чувства, свои мнения (часто справедливые, но чаще еще преувеличенные) там, где следовало бы промолчать, – и приговор о тебе, по большей части слишком строгий, уже составлен. И я, признаюсь, поторопился несколько своим заключением о тебе. Но теперь между нами, надеюсь, нет уже недоразумений?






