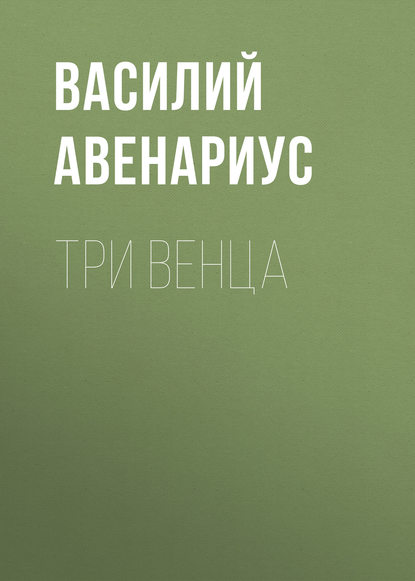По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Три венца
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Упаси Боже, ваша светлость!.. Я сказал только так, по необдуманности.
Князь оставил отговорку без дальнейшего внимания и поднял голову к кровле замка, над верхушечной башенкой которого развивался родной стяг Вишневецких.
– Гай-гай, диду! – громко крикнул он.
Никого в вышине не было видно, и отклика не последовало.
– Дидусю! Павло! – еще зычнее крикнул князь. Над выступом башенки вынырнула белая, как лунь, старческая голова, четко выделяясь на небесной лазури.
– Чего, батьку? – донесся вниз разбитый, дребезжащий голос «дида» Павла.
– Не видать их?
Как петух, высматривающий на земле зерно, старик свернул свою белую голову на бок и приставил руку рупором к уху.
– Глухой тетерев! – вспылил господин его. – Не видать гостей, что ли?
– Нету-ти.
– Совсем плох стал старичина! Пора на покой, – проворчал про себя князь. – Эй, Юшка! Слетай-ка ты на вышку да дерни, когда нужно, звонок: старик, чего доброго, проглядит еще гостей.
– Мигом слетаю, батюшка князь.
Но «слетать» на вышку он уже не успел: «дид Павло» напряг теперь, как видно, свое ослабевшее зрение, чтобы в угоду князю поскорее усмотреть гостей, и дернул звонок. По замку резко прозвенел знакомый всем обитателям его колокольчик, и весь замок, как муравейник, в который ткнули палкой, вдруг взворошился, ожил.
Церемониал встречи почетных, да и непочетных гостей в «доброе старое время» соблюдался куда строже, чем в наше вольнодумное время, особливо в былой Речи Посполитой, в тонкости обращения едва ли не превзошедшей даже Западную Европу. Не прошло пяти минут от данного с вышки сигнала, как весь придворный штат, хоронившийся от дневной жары по своим покоям, был уже налицо. На пороге ожидали гостей сами хозяева: князь Константин и княгиня Урсула, не совсем уже молодая, но очень видная дама, в парадном костюме: темно-синем аксамитовом (бархатном) кубраке (дамский кунтуш) с горностаевой опушкой; в необычайно высоком корнете (головной убор из «газу» и «блондын»), так называемой «вавилонской башне»; с богатейшим диамантовым пунталом (ожерелье) на оголенной, полной как подушка шее; с драгоценными манелями (браслетами) и кольцами на столь же выхоленных руках. По сторонам стояли: около князя – маршал двора, пан Пузын, и секретарь, пан Бучинский; около княгини – статс-дамы и фрейлины ее. Вдоль всего портала, где должны были подъезжать один за другим экипажи, выстроились в два ряда ливрейные гайдуки и пажи, под наблюдением двух дежурных маршалков. За спиной хозяев, точно также в два ряда, вплоть до передней, растянулись высшие и низшие придворные чины.
Княжеские сыновья-подростки с их ментором-семинаристом, капеллан жалосцского замка, патер Лович, а также приезжие гости: патер Сераковский и пан Тарло оставались пока в доме – в гостиной.
За воротами, по подъемному мосту послышался, наконец, лошадиный топот, гул колес; вот донеслось и хлопанье бича… Все взоры устремились к воротам, на всех лицах выразилось самое напряженное любопытство: никто ведь еще не видел этого московского царевича! Сейчас должны были показаться скороходы, за ними окруженный вершниками ряд колясок и карет…
Но что же это такое? Ни скороходов, ни вершников; вкатился на двор один только громоздкий, допотопный рыдван, который с трудом волокла четверка исхудалых, разношерстных коней, хотя сидевший на козлах возница очень усердно работал над ними бичом.
– Пан Боболя! – вырвался у всех присутствующих крик разочарования.
Но этикет должен был быть в точности соблюден: никто не тронулся с места. Покачиваясь и скрипя на своих высоких рессорах, рыдван въехал под портал. Первою выползла оттуда старушка – пани Боболя; за нею были высажены три ее дочери-девицы.
Княгиня Урсула с самой любезной миной, к какой только было способно ее надменное, строгое лицо, выразила гостям свое восхищение «наконец-то» видеть У себя дорогих соседок, которых ждала-де и не могла Дождаться. Троекратно поцеловавшись с каждою, она повела их между низко преклоняющимися придворными в гостиную.
Тем временем гайдуки подняли под руки из глубокого кузова рыдвана и самого пана Боболю. Как подагрик, он опирался на костыль и неуверенно переставлял свои поджарые ножки, которым было не под силу держать даже его не грузное, но рыхлое тело. Подслеповатые, в бесчисленных морщинках глаза его рассеянно щурились; с отвислых губ его не сходила какая-то по-детски наивная улыбка.
– Много чести, ваша светлость, слишком много чести! – шамкал он в ответ на приветствие светлейшего хозяина. – К чему все это? Мы же старые соседи! Позвольте прижать вас к сердцу!
Князь Константин, по поводу такого самообольщения непрошеного гостя, воображавшего, очевидно, что для него устроен весь почетный прием, сердито усмехнулся, однако же крепко обнял его и подставил обе щеки.
– Мы, признаться, ожидаем сейчас московского царевича, – объяснил он.
– Московского царевича? – недоумевая, переспросил пан Боболя. – А, да, да, как же, помню, знаю! – сказал он таким тоном, что ясно было: ничего он не помнит, ничего не знает. – Тем более нам чести. Позвольте за то еще раз обнять вас!
После этого хозяином и гостем была разыграна в дверях сценка, которую двести с лишним лет спустя заставил Чичикова и Манилова разыграть Гоголь.
– Милости просим, дорогой пане, без чинов! – говорил князь, деликатно подталкивая пана Боболю ладонью в спину через порог в сени.
– После вас, князь, только после вас! – счел нужным упереться пан Боболя.
– Но в ваши лета… ваша многолетняя опытность, хотел я сказать… – поспешил поправиться хозяин.
– Мы, можно сказать, почти однолетки, но в опытности ваша светлость мне не уступите, о, нет! Родовой же сан ваш…
– Да ведь и в вашем роде, пане Боболя, как всей Польше известно, полных десять колен…
– А в вашем, князь, двенадцать…
– Помилуйте, что за счеты!
– А, нет, ваша светлость! Придворный этикет Боболи, слава Богу, в тонкости тоже изучили.
В конце концов, однако, князь Константин, как и подобало хозяину, любезно пропихнул вперед гостя, и тот вполоборота, с виноватым видом, проковылял на своем костыле в сени, волоча за собою по полу свою старинную турецкую саблю.
Этим моментом воспользовался князь Вишневец-кий, чтобы через плечо вполголоса приказать маршалу, следовавшему за ним с секретарем:
– Диду Павлу полсотни горячих!
Маршал тихо повторил то же приказание секретарю, а тот, в свою очередь, одному из дежурных маршалков, причем еще тише, так, чтобы маршал не слышал, прибавил от себя: «на ковре».
– Виноват, пане секретарь, – позволил себе возразить маршалок, – дид хоть и стар, но ковер при консекуциях установлен только для дворян… И если князь проведал бы…
– Исполняйте, любезнейший, что вам поручают, – мягко, но безапелляционно сказал пан Бучинский, – ответственность я беру на себя.
Между тем, светлейший с гостем своим проследовали в переднюю, а оттуда и в гостиную, причем в дверях оба раза не обошлось опять без церемониального препирательства о первенстве, но в заключение, как и в первый раз, гость уступал настояниям хозяина и вполоборота проходил впереди него.
Дам в гостиной уже не оказалось: пани Боболю княгиня Урсула увела в свой «альков», чтобы напоить там кофеем; девицы же Боболи с панной Мариной и ее фрейлинами упорхнули в парк. Началось формальное представление наличного мужского персонала. Патерам Сераковскому и Ловичу пан Боболя поцеловал благословляющую руку; зато пан Тарло и два княжича сами чинно подошли к руке старого пана. Гувернера-семинариста пан Боболя не счел нужным заметить, и тот, низко поклонившись спине его, отретировался к окошку.
Усаживание гостя на диван сопровождалось также требуемыми формальностями: гость упрашивал хозяина показать ему пример, а хозяин предоставлял почет этот гостю. Усадив, наконец, последнего, князь Вишневецкий точно теперь только заметил на госте саблю и обратился к нему с просьбой отвязать ее. Пан Боболя никак не соглашался, но потом, точно убежденный красноречием гостеприимного хозяина, дал отобрать у себя оружие и поставить в угол.
Около этих двух главных действующих лиц второстепенные сгруппировались в строгом порядке придворного этикета: ближе всех присели два духовных лица и маршал; далее пан Тарло. Что же касается остальной свиты, в том числе и секретаря, а также княжичей с их гувернером, то все они остались на ногах и в течение всего разговора не смели ни опереться, ни пошевельнуться, тем более непрошенно вставить в беседу свое слово: нарушитель этикета без рассуждений был бы отправлен, наравне с простыми холопьими, на конюшню, имея перед ними одно только преимущество – «ковер».
Гайдук с подносом, на котором красовался кувшин с домашней наливкой и несколько серебряных чарок, дал взаимным любезностям хозяина и гостя другое направление: князь собственноручно налил и с поклоном поднес пану Боболе полную чару; тот, немного починись, с видом знатока отведал душистого напитка и рассыпался в неумеренных похвалах ему. Князь долил ему чару и упрашивал пить во здравие. Гость снова приложился и торжественно провозгласил:
– За ваше здравие, князь, за здравие светлейшей княгини и всего вашего светлейшего рода!
Князь не преминул отпить с таким же пожеланием, и оба снова обнялись и трижды накрест поцеловались. Теперь только завязалась беседа о других предметах, и патер Сераковский весьма искусно сумел дать ей общий интерес.
Между тем на дворе сильно стемнело – стемнело не от сумерек, потому что солнце еще не садилось, а от надвигавшейся грозы.
– Как бы дождем царевичу дороги не испортило, – озабоченно заметил Вишневецкий.
– Царевичу? Какому царевичу? – переспросил опять забывчивый пан Боболя, усердно прикладывавшийся к чаре. – А, да, да, помню, знаю…
Князь оставил отговорку без дальнейшего внимания и поднял голову к кровле замка, над верхушечной башенкой которого развивался родной стяг Вишневецких.
– Гай-гай, диду! – громко крикнул он.
Никого в вышине не было видно, и отклика не последовало.
– Дидусю! Павло! – еще зычнее крикнул князь. Над выступом башенки вынырнула белая, как лунь, старческая голова, четко выделяясь на небесной лазури.
– Чего, батьку? – донесся вниз разбитый, дребезжащий голос «дида» Павла.
– Не видать их?
Как петух, высматривающий на земле зерно, старик свернул свою белую голову на бок и приставил руку рупором к уху.
– Глухой тетерев! – вспылил господин его. – Не видать гостей, что ли?
– Нету-ти.
– Совсем плох стал старичина! Пора на покой, – проворчал про себя князь. – Эй, Юшка! Слетай-ка ты на вышку да дерни, когда нужно, звонок: старик, чего доброго, проглядит еще гостей.
– Мигом слетаю, батюшка князь.
Но «слетать» на вышку он уже не успел: «дид Павло» напряг теперь, как видно, свое ослабевшее зрение, чтобы в угоду князю поскорее усмотреть гостей, и дернул звонок. По замку резко прозвенел знакомый всем обитателям его колокольчик, и весь замок, как муравейник, в который ткнули палкой, вдруг взворошился, ожил.
Церемониал встречи почетных, да и непочетных гостей в «доброе старое время» соблюдался куда строже, чем в наше вольнодумное время, особливо в былой Речи Посполитой, в тонкости обращения едва ли не превзошедшей даже Западную Европу. Не прошло пяти минут от данного с вышки сигнала, как весь придворный штат, хоронившийся от дневной жары по своим покоям, был уже налицо. На пороге ожидали гостей сами хозяева: князь Константин и княгиня Урсула, не совсем уже молодая, но очень видная дама, в парадном костюме: темно-синем аксамитовом (бархатном) кубраке (дамский кунтуш) с горностаевой опушкой; в необычайно высоком корнете (головной убор из «газу» и «блондын»), так называемой «вавилонской башне»; с богатейшим диамантовым пунталом (ожерелье) на оголенной, полной как подушка шее; с драгоценными манелями (браслетами) и кольцами на столь же выхоленных руках. По сторонам стояли: около князя – маршал двора, пан Пузын, и секретарь, пан Бучинский; около княгини – статс-дамы и фрейлины ее. Вдоль всего портала, где должны были подъезжать один за другим экипажи, выстроились в два ряда ливрейные гайдуки и пажи, под наблюдением двух дежурных маршалков. За спиной хозяев, точно также в два ряда, вплоть до передней, растянулись высшие и низшие придворные чины.
Княжеские сыновья-подростки с их ментором-семинаристом, капеллан жалосцского замка, патер Лович, а также приезжие гости: патер Сераковский и пан Тарло оставались пока в доме – в гостиной.
За воротами, по подъемному мосту послышался, наконец, лошадиный топот, гул колес; вот донеслось и хлопанье бича… Все взоры устремились к воротам, на всех лицах выразилось самое напряженное любопытство: никто ведь еще не видел этого московского царевича! Сейчас должны были показаться скороходы, за ними окруженный вершниками ряд колясок и карет…
Но что же это такое? Ни скороходов, ни вершников; вкатился на двор один только громоздкий, допотопный рыдван, который с трудом волокла четверка исхудалых, разношерстных коней, хотя сидевший на козлах возница очень усердно работал над ними бичом.
– Пан Боболя! – вырвался у всех присутствующих крик разочарования.
Но этикет должен был быть в точности соблюден: никто не тронулся с места. Покачиваясь и скрипя на своих высоких рессорах, рыдван въехал под портал. Первою выползла оттуда старушка – пани Боболя; за нею были высажены три ее дочери-девицы.
Княгиня Урсула с самой любезной миной, к какой только было способно ее надменное, строгое лицо, выразила гостям свое восхищение «наконец-то» видеть У себя дорогих соседок, которых ждала-де и не могла Дождаться. Троекратно поцеловавшись с каждою, она повела их между низко преклоняющимися придворными в гостиную.
Тем временем гайдуки подняли под руки из глубокого кузова рыдвана и самого пана Боболю. Как подагрик, он опирался на костыль и неуверенно переставлял свои поджарые ножки, которым было не под силу держать даже его не грузное, но рыхлое тело. Подслеповатые, в бесчисленных морщинках глаза его рассеянно щурились; с отвислых губ его не сходила какая-то по-детски наивная улыбка.
– Много чести, ваша светлость, слишком много чести! – шамкал он в ответ на приветствие светлейшего хозяина. – К чему все это? Мы же старые соседи! Позвольте прижать вас к сердцу!
Князь Константин, по поводу такого самообольщения непрошеного гостя, воображавшего, очевидно, что для него устроен весь почетный прием, сердито усмехнулся, однако же крепко обнял его и подставил обе щеки.
– Мы, признаться, ожидаем сейчас московского царевича, – объяснил он.
– Московского царевича? – недоумевая, переспросил пан Боболя. – А, да, да, как же, помню, знаю! – сказал он таким тоном, что ясно было: ничего он не помнит, ничего не знает. – Тем более нам чести. Позвольте за то еще раз обнять вас!
После этого хозяином и гостем была разыграна в дверях сценка, которую двести с лишним лет спустя заставил Чичикова и Манилова разыграть Гоголь.
– Милости просим, дорогой пане, без чинов! – говорил князь, деликатно подталкивая пана Боболю ладонью в спину через порог в сени.
– После вас, князь, только после вас! – счел нужным упереться пан Боболя.
– Но в ваши лета… ваша многолетняя опытность, хотел я сказать… – поспешил поправиться хозяин.
– Мы, можно сказать, почти однолетки, но в опытности ваша светлость мне не уступите, о, нет! Родовой же сан ваш…
– Да ведь и в вашем роде, пане Боболя, как всей Польше известно, полных десять колен…
– А в вашем, князь, двенадцать…
– Помилуйте, что за счеты!
– А, нет, ваша светлость! Придворный этикет Боболи, слава Богу, в тонкости тоже изучили.
В конце концов, однако, князь Константин, как и подобало хозяину, любезно пропихнул вперед гостя, и тот вполоборота, с виноватым видом, проковылял на своем костыле в сени, волоча за собою по полу свою старинную турецкую саблю.
Этим моментом воспользовался князь Вишневец-кий, чтобы через плечо вполголоса приказать маршалу, следовавшему за ним с секретарем:
– Диду Павлу полсотни горячих!
Маршал тихо повторил то же приказание секретарю, а тот, в свою очередь, одному из дежурных маршалков, причем еще тише, так, чтобы маршал не слышал, прибавил от себя: «на ковре».
– Виноват, пане секретарь, – позволил себе возразить маршалок, – дид хоть и стар, но ковер при консекуциях установлен только для дворян… И если князь проведал бы…
– Исполняйте, любезнейший, что вам поручают, – мягко, но безапелляционно сказал пан Бучинский, – ответственность я беру на себя.
Между тем, светлейший с гостем своим проследовали в переднюю, а оттуда и в гостиную, причем в дверях оба раза не обошлось опять без церемониального препирательства о первенстве, но в заключение, как и в первый раз, гость уступал настояниям хозяина и вполоборота проходил впереди него.
Дам в гостиной уже не оказалось: пани Боболю княгиня Урсула увела в свой «альков», чтобы напоить там кофеем; девицы же Боболи с панной Мариной и ее фрейлинами упорхнули в парк. Началось формальное представление наличного мужского персонала. Патерам Сераковскому и Ловичу пан Боболя поцеловал благословляющую руку; зато пан Тарло и два княжича сами чинно подошли к руке старого пана. Гувернера-семинариста пан Боболя не счел нужным заметить, и тот, низко поклонившись спине его, отретировался к окошку.
Усаживание гостя на диван сопровождалось также требуемыми формальностями: гость упрашивал хозяина показать ему пример, а хозяин предоставлял почет этот гостю. Усадив, наконец, последнего, князь Вишневецкий точно теперь только заметил на госте саблю и обратился к нему с просьбой отвязать ее. Пан Боболя никак не соглашался, но потом, точно убежденный красноречием гостеприимного хозяина, дал отобрать у себя оружие и поставить в угол.
Около этих двух главных действующих лиц второстепенные сгруппировались в строгом порядке придворного этикета: ближе всех присели два духовных лица и маршал; далее пан Тарло. Что же касается остальной свиты, в том числе и секретаря, а также княжичей с их гувернером, то все они остались на ногах и в течение всего разговора не смели ни опереться, ни пошевельнуться, тем более непрошенно вставить в беседу свое слово: нарушитель этикета без рассуждений был бы отправлен, наравне с простыми холопьими, на конюшню, имея перед ними одно только преимущество – «ковер».
Гайдук с подносом, на котором красовался кувшин с домашней наливкой и несколько серебряных чарок, дал взаимным любезностям хозяина и гостя другое направление: князь собственноручно налил и с поклоном поднес пану Боболе полную чару; тот, немного починись, с видом знатока отведал душистого напитка и рассыпался в неумеренных похвалах ему. Князь долил ему чару и упрашивал пить во здравие. Гость снова приложился и торжественно провозгласил:
– За ваше здравие, князь, за здравие светлейшей княгини и всего вашего светлейшего рода!
Князь не преминул отпить с таким же пожеланием, и оба снова обнялись и трижды накрест поцеловались. Теперь только завязалась беседа о других предметах, и патер Сераковский весьма искусно сумел дать ей общий интерес.
Между тем на дворе сильно стемнело – стемнело не от сумерек, потому что солнце еще не садилось, а от надвигавшейся грозы.
– Как бы дождем царевичу дороги не испортило, – озабоченно заметил Вишневецкий.
– Царевичу? Какому царевичу? – переспросил опять забывчивый пан Боболя, усердно прикладывавшийся к чаре. – А, да, да, помню, знаю…