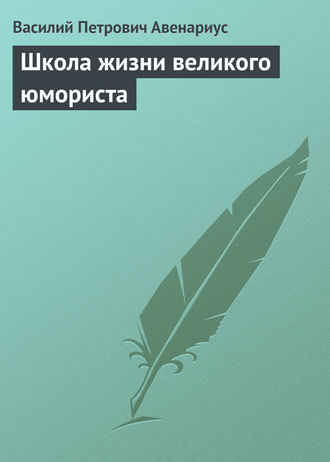
Школа жизни великого юмориста
«Начальник отделения мой, от которого я непосредственно завишу, В. И. Панаев – человек очень хороший, которого в душе я истинно уважаю, – писал он матери еще в начале июня. По скрытности своей, не посвящая ее еще в свои тайные замыслы, он слегка однако намекнул уже на них: – Литературные мои занятия и участие в журналах я давно оставил, хотя одна из статей моих доставила мне место, ныне мною занимаемое. Теперь я собираю материалы только и в тишине обдумываю свой обширный труд».
А как изменились душевное настроение нашего нелюдима, его отношения к ближним, весь его образ жизни! С «первой ласточкой» и в душе его повеяло весной.
«Я каждый почти день прогуливаюсь по дачам и прекрасным окрестностям, – рассказывал он матери в том же письме. – Нельзя надивиться, как здесь приучаешься ходить: прошлый год, я помню, сделать верст пять в день была для меня большая трудность; теперь же я делаю свободно верст двадцать и более и не чувствую никакой усталости. В девять часов утра отправляюсь я каждый день в свою должность и пробываю там до трех часов; в половине четвертого я обедаю; после обеда в пять часов отправляюсь я в класс, в Академию художества, где занимаюсь живописью, которую я никак не в состоянии оставить. По знакомству своему с художниками и со многими даже знаменитыми, я имею возможность пользоваться средствами и выгодами, для многих недоступными. Не говоря уже об их таланте, я не могу не восхищаться их характером и обращением. Что это за люди! Узнавши их, нельзя отвязаться от них навеки. Какая скромность при величайшем таланте! О чинах и в помине нет, хотя некоторые из них статские и даже действительные советники. В классе, который посещаю я три раза в неделю, просиживаю два часа; в семь часов прихожу домой, иду к кому-нибудь из своих знакомых на вечер, – которых у меня гаки не мало. Верите ли, что одних однокорытников моих из Нежина до двадцати пяти человек[29]. Вы, может быть, думаете, что такое знакомство должно быть в тягость? Ничуть; это не в деревне, где обязаны угощать своих гостей столом или чаем. Каждый у нас ест у себя, приятелей же и товарищей угощают беседою, которою всякий из нас бывает вполне доволен. Три раза в течение недели отправляюсь я к людям семейным, у которых пью чай и провожу вечер. С девяти часов вечера я начинаю свою прогулку, или бываю на общем гулянье, или сам отправляюсь на разные дачи. В одиннадцать часов вечера гулянье прекращается, и я возвращаюсь домой, пью чай, если нигде не пил (вам не должно это казаться поздним: я не ужинаю); иногда прихожу домой часов в двенадцать и в час, и в это время еще можно видеть толпу гуляющих. Ночей, как вам известно, здесь нет; все светло и ясно, как днем, только что нет солнца. Вот вам описание моего летнего дня».
Описание дня, но не ночи; а сколько ночных часов уходило у него еще на его «обширный труд»!
На дворе стояла уже осень, а в четвертом этаже дома каретника Иохима в Столярном переулке по-прежнему царила весна.
«Служба моя идет очень хорошо; начальники мои все прекрасные люди», – повторялось и в письме от 1-го сентября.
За окном крутились хлопья первого снега, а в комнатке молодого писателя щебетала уже целая стая певчих птиц. Оставалось только выпустить их на свет Божий…
В один табельный день по извилистому каменному лабиринту бесконечных коридоров и переходов Шепелевского дворца (часть нынешнего нового Эрмитажа, у Зимней канавки) шагал рослый, на славу откормленный придворный лакей в красной ливрее с галунами, а следом за ним семенил маленькими шажками очень невысокий, тщедушный и просто одетый молодой человек с довольно объемистым бумажным пакетом под мышкой.
– Да примет ли меня еще Василий Андреевич? Великолепный великан вполоборота через плечо оглянулся на скромного карлика.
– Василий-то Андреевич? Га! Да у них тут на лестнице каждое утро толчется всякого сброду и попрошаек видимо-невидимо. Никому нет отказу. Словно и не генерал!
Когда они поднялись в третий этаж, откуда-то из полутемного коридора донесся к ним прежалобный писк скрипки.
– Опять запиликал! – проворчал роскошный вожатый.
– Кто же это упражняется?
– Да Григорий, камердинер Василия Андреевича: купил себе, вишь, на толкучем скрипицу за два двугривенных и дерет теперь, знай, барину уши круглый день, а тот, по ангельскому малодушию, хошь бы что!
С этими словами говорящий остановился у двери с надписью: «Василий Андреевич Жуковский» и дернул колокольчик с такой силой, что скрипка разом умолкла.
– Проведи-ка их благородие к своему барину, – величественно кивнул он открывшему дверь камердинеру на молодого гостя и, приняв, как бы из снисхождения, двугривенный, сунутый ему последним в руку, ушел опять своей дорогой.
Жуковский был в своем кабинете и стоял за длинной конторкой с пером в руке. На глум шагов он поднял голову, и задумчиво-важное лицо его осветилось приветливой улыбкой. Он сделал два шага навстречу молодому гостю и, как доброму знакомому, подал ему руку.
– Всякому новому посетителю я сердечно рад, – промолвил он, – приобрел, значит, еще одного доброжелателя. С кем имею честь?..
– Фамилия моя – Гоголь и вам ничего не объяснит; но у меня к вам рекомендательное письмо…
От кого было оно? Ответить на это мы не умеем: сведений о том не сохранилось. Да и не все ли равно? Податель письма нуждался не столько в рекомендации, сколько в предлоге добраться до адресата. А тот, очевидно, так и понял, потому что, взглянув только на подпись, отложил письмо в сторону и ни словом не упомянул уже о писавшем.
– Присядьте, пожалуйста, – сказал он, пододвигая стул. – Устали, я думаю, подымаясь на наши горные выси? Нашему брату холостяку чердашничать сам Бог велит; лишь бы устроиться поуютней. Особенную уютность жилищу придают, я нахожу, картины, к которым, как и к музыке, я питаю большую слабость. Ценю я не столько даже искусство живописца, сколько Stimmung, как говорят немцы, настроение картины. Вот хоть бы этот ландшафт кисти Фридриха – лунная ночь на еврейском кладбище – для знатоков не имеет, пожалуй, художественного значения, но для меня, дебютировавшего некогда кладбищенскою же элегией[30], эта картина – постоянный, неистощимый источник грустных, но усладительных мечтаний.
Нет, какова доброта, деликатность! Нарочно ведь с первых же слов вводит тебя в свои личные, самые интимные интересы, чтобы ты «оттаял». По виду-то он вовсе не похож уже на мечтателя: телом приятнодоротен, вместо романтических кудрей – почти оголенное темя едва прикрыто редкими прядями шелковисто-мягких волос, а что до морщин, этих строк, которые вписываются неумолимою рукой судьбы на каждом челе, и между которыми опытному взору нетрудно прочесть много тяжелого и горького, то на молочно-белом лице поэта-романтика, несмотря на его зрелый возраст[31], удивительное дело, нет еще ни одной морщинки, и каждая черта его дышит таким прямодушным, искренним благоволением, из темных слегка скошенных по-азиатски глаз (мать его была ведь турчанка) просвечивает такая хрустально-чистая душа…
«Смелее, смелее, милый мой! – как будто говорит этот добрый взгляд. – Ведь мы же братья: я – старший, ты – младший; и в тебе, я знаю, как во всех людях-братьях, теплится святая искра Божия; надо ее только умеючи раздуть. Вот я и раздуваю. Ну же, ну, смелее!»
И Гоголь разом приободрился, не стесняясь брякнул, что вот явился к нему, как к отцу литературы…
– К крестному разве? – улыбнулся Жуковский. – Хотя вопрос еще: есть ли вообще у нас литература?
– Но вы сами, Василий Андреевич, Пушкин, Грибоедов, Батюшков, Крылов, Державин…
– Да, у нас есть отдельные, весьма талантливые, может быть, даже гениальные поэты (о себе я не говорю: я более переводчик), но где же у нас, скажите, прозаики: романисты и драматурги, критики и ораторы, историки и философы? В полной литературе должны быть представлены все музы, как все искусства в совокупности только составляют один художественный цикл. Литературу какого-нибудь народа я сравнил бы с лесом, состоящим из деревьев высоких и низких, из кустарников и мелких растений: цветов и трав, грибов и мхов. Десяток деревьев: ель, дуб, береза, рябина, липа, или даже два-три десятка – составляют только маленькую кущу, рощицу среди необозримой поляны. Вот поэтому-то я придаю особенное значение писателям второстепенным и третьестепенным и приветствую всякое нарождающееся дарование. Мне не было бы, поверьте, лучшего удовольствия, как приветствовать в числе их и вас, – отечески-ласково заключил Жуковский, поглядывая на толстый пакет, который юный гость его все время судорожно мял у себя на коленях. – У вас это что?
– Сборник рассказов…
– И вы желали бы, чтобы я еще до печати просмотрел их?
– Да-с…
– Я сделаю это весьма охотно. Но имейте в виду, что я не господин своего времени, что вам придется подождать, быть может, даже довольно долго.
– Вы состоите, кажется, при наследнике?
– Да, я руковожу всем его учением.
– Но сами, конечно, знакомите его с родным языком?
– Нет, я предоставил это одному из добрых друзей моих – Петру Александровичу Плетневу.
– Кому Пушкин посвятил своего «Онегина»?
– Да, и посвятил не без основания. Плетнев хоть и не писатель по профессии, но глубокий знаток словесности. Сам Пушкин настолько ценит его литературный вкус, что по его указаниям исправляет свои стихи. Вы назвали меня отцом литературы; уж коли кому приличествует этот титул, так Плетневу. Знаете ли что, господин Гоголь? Чем ждать вам, пока я соберусь просмотреть ваши рассказы, не проще ли вам обратиться теперь же к Плетневу? Он сделает это, я убежден, и скорее, и совершеннее меня.
– Но я с ним вовсе не знаком…
– А со мной вы разве были знакомы?
– К вам у меня была хоть рекомендация.
– Так и я дам вам к нему записочку.
Минуту спустя новая записочка была в кармане Гоголя.
Попал он к Плетневым, оказалось, не совсем кстати: они сидели за обеденным столом (по случаю праздничного дня часом раньше обыкновенного), и горничная, взяв у гостя записку Жуковского, самого его провела в кабинет барина.
Сейчас тоже видно обиталище «книжного» человека, но вместо резных, полированных, полисандрового дерева книжных шкафов по стенам сверху до низу открытые полки, полки да полки с плотными рядами книг; на окнах вместо тяжелых штофных гардин простые белые шторы, впускающие массу трезвого дневного света; на незатейливом, но уместительном письменном столе никаких дорогих безделушек, одни необходимые письменные принадлежности да прекрасно исполненный портрет бледнолицей дамы, – без сомнения жены; а в глубине комнаты над диваном также картина – сельский ландшафт, но в простой черной рамке, под стеклом и исполненный не масляными красками, а гуашью.
«То же тяготение к матери-природе, что у друга его Жуковского, – подумал Гоголь, подходя к картине, представлявшей раскинутое на берегу многоводной реки село с деревянного церковью, около которой, над обрывом, укромно ютился среди фруктового сада дом священника. – Уж не родительский ли дом его?»
– Это моя родина на Волге, – раздался вдруг негромко, но так неожиданно ответ на мысленный вопрос над самым ухом погруженного в созерцание картины, что он вздрогнул и быстро обернулся.
Перед ним стоял сам Плетнев, который и обувь носил нарочно, должно быть, без каблуков, чтобы никого не беспокоить. Не приглашая гостя сесть, он принял от него рукопись и положил на стол.
– Сегодня же, как немножко отдохну, – сказал он, – примусь за ваши рассказы. На полях, если позволите, я буду делать карандашом пометки…
– Об этом именно я хотел просить вас. Я – малоросс и потому не вполне еще, пожалуй, усвоил себе обороты великорусской речи…
– Слог вам исправлять я во всяком случае не стану: каждый писатель прежде всего должен быть самим собой. И вы меня не слишком торопите. Зайдите как-нибудь на той неделе вечерком к чаю, только не в субботу: субботы принадлежат Жуковскому.
Прием был тоже прост, но далеко не задушевен. Ужели он будет таков же и по прочтении рассказов?
Глава пятнадцатая
Под скальпелем критики
Да, на этот-то раз Плетнев принял его совсем иначе! Он подвел его за руку к дивану и, все не выпуская руки, уселся с ним рядом.
– Расскажите-ка мне, где вы родились, где воспитывались?
Узнав то и другое, он тихонько вздохнул.
– Вы имели счастье уже в ранние годы проникнуться духом родной литературы. Мне, замкнутому в стенах духовной семинарии, счастье это далось значительно позже, и, тем не менее, я об этом не особенно жалею, потому что зато классический мир Гомера и Вергилия, наполнявший, веселивший мое детство, продолжавший услаждать меня и по переходе в педагогический институт, доселе звучит для меня какою-то родною музыкой.
– Как-то не верится, Петр Александрович, чтобы вы предпочитали когда-нибудь Гомера и Вергилия русским поэтам! Как же вышел из вас такой словесник?
– Да какие же были у нас тогда поэты? Жуковский и Батюшков едва начинали только настраивать свои лиры. Был, правда, Державин; но пышные цветы его придворной музы были не по мне, деревенскому мальчику. Гораздо ближе были мне скромные полевые цветы Дмитриева. Множество затрагиваемых им предметов, драгоценных для русского сердца, шутки острые, но благородные – привлекали мальчика, развивали в нем литературный вкус, обогащали память… Да, есть неизъяснимая сладость в тех воспоминаниях, которые уносят нас к началу наших умственных трудов. Это первая чистая любовь, врожденное желание совершенства, благодатный источник нравственных начал, нередко иллюзий, но самых чистых, окрыляющих дух к подвижничеству.
Пока Плетнев говорил это, Гоголь имел полный досуг ближе разглядеть черты его лица. Они дышали тем же благодушием, как у Жуковского, глаза глядели также честно и прямо, но, вместо самоуверенной благости и как бы юношеской хитрости, в них светилась какая-то необычайная кротость, христианское смирение. Они могли и улыбаться, но не искрились, не зажигали в собеседнике яркого огня веселости, а обвевали его лишь мимолетным теплом. То был не лучезарный закат, а приятный серенький и тепленький денек.
– Но не заняться ли нам теперь нашим делом? – прервал тут Плетнев сам себя и, встав, перенес с письменного стола лампу, вместе с знакомою рукописью, на преддиванный стол.
– Я отвлек вас, кажется, от дела? – сказал Гоголь, указывая на огромные листы, разложенные на письменном столе. – Вы были заняты корректурой?
– Да, но она не так уже к спеху, хотя редко, признаться, я вел корректуру с таким наслаждением!
– А что это такое, смею спросить?
– Новая драма Пушкина – «Борис Годунов».
– Так наконец-то ее разрешили напечатать!
– И притом без всяких урезок. Первого января она будет преподнесена публике в виде новогоднего подарка. Такого подарка давно ей не было – нечто шекспировское!
– И посвящается, вероятно, опять вам, Петр Александрович?
– Нет, памяти Карамзина; в самом посвящении указывается, что «сей труд гением его вдохновлен». Что-то скажут недруги Пушкина – Булгарин с компанией?
– Зашипят, конечно, а самих их, как змей, и меч не берет: рассечешь надвое – срастаются.
– Да, много труда дают себе эти господа возвеличить своего брата – мелкого человека, а еще более – умалить великого; последнее даже легче в глазах толпы, потому что всякое пятно, всякая заплата куда виднее на пышном наряде, чем на рубище. Самому Пушкину, впрочем, пока не до врагов: впереди у него семейное счастье.
– Он женится?
– Да, и на первой красавице московской – Гончаровой.
– Дай ему Бог! Так он теперь в Москве?
– Был там до первых чисел сентября. Но потом, чтобы привести перед свадьбой в некоторый порядок свои денежные дела, отправился в свое нижегородское имение Болдино да там и застрял: по случаю холеры вокруг Москвы устроен строгий карантин.
– И бедного жениха не пускают к невесте? То-то, я чай, стосковался!
– Не думаю: это удивительно уравновешенная натура. В письмах своих он, по крайней мере, шутить не разучился. Могу дать вам сейчас образчик его настроения.
Письмами Пушкина Плетнев, видно, очень дорожил, потому что они хранились у него отдельно, и поделиться их содержанием с другими доставляло ему, по-видимому, особенное удовольствие.
– Вот что он, например, пишет мне: «Около меня колера морбус. Знаешь ли, что это за зверь? Того и гляди, что забежит и к нам в Болдино да всех нас перекусает; того и гляди, что к дяде Василию отправлюсь[32]; а ты и пиши мою биографию. Бедный дядя Василий! Знаешь ли его последние слова? Приезжаю к нему, нахожу в забытьи; очнувшись, он узнал меня, погоревал, потом, помолчав: „Как скучны статьи Катенина!“ – и более ни слова. Каково? Вот что значит умереть честным воином на щите, le cri de guerre a la bouche!..[33] Ты не можешь вообразить, как весело удрать от невесты да и засесть стихи писать. Жена не то, что невеста. Куда, жена свой брат. При ней пиши сколько хочешь. А невеста пуще цензора Щег лова язык и руки связывает… Сегодня от своей получил я премиленькое письмо. Зовет меня в Москву – я приеду не прежде месяца, а оттоле к тебе, моя радость. Что делает Дельвиг, видишь ли ты его? Скажи ему, пожалуйста, чтобы он мне припас денег, деньгами нечего шутить, деньги вещь важная, – спроси у Канкрина[34] и у Булгарина. Ах, мой милый! Что за прелесть здешняя деревня, вообрази: степь, соседей ни души; езди верхом сколько душе угодно, пиши дома сколько вздумается, никто не помешает. Уж я тебе приготовлю всячины, и прозы, и стихов». Так вот как он проводит свое время в деревне, – заключил Плетнев, бережно складывая опять письмо друга-поэта и пряча на прежнее место. – Барон Дельвиг молит только Бога, чтобы карантин задержал Пушкина в Болдине месяца три: тогда его «Литературная газета» будет обеспечена прекраснейшим материалом на целый год. Пушкин, коли раз засядет, так напишет в десять раз более, да и лучше всякого другого[35]. Теперь, однако же, обратимся от Пушкина к вам…
– От великого к смешному! – досказал в несколько минорном тоне Гоголь.
– И смешное может быть велико; вспомните хоть «Дон-Кихота». У вас здесь, оказывается, одна вещь уже в печатном виде…
– Да, «Вечер накануне Ивана Купала», но Свиньин позволил себе в ней без моего согласия столько изменений, что я ее заново переработал.
– И хорошо сделали: большую часть ваших переделок я могу только одобрить. Особенно выдвинулся у вас теперь характер главного героя, хотя, по правде сказать… вы не взыщете, если я буду говорить вам одну чистую правду?
– Напротив. Не странно ли, право, что мы извиняемся, когда говорим правду…
– А не извиняемся, когда лжем? Потому что приятную ложь нам охотно прощают, а горькую правду нет. Итак, говоря откровенно, мне сдается, что при переработке этого рассказа вы были под влиянием повести Тика «Liebeszauber» – «Чары любви».
Гоголь покраснел и должен был сознаться, что, действительно, не так давно прочел повесть Тика[36].
– Вы не смущайтесь, – успокоил его Плетнев, – рассказ ваш от этого, во всяком случае, только выиграл. Пчела берет мед из всякого цветка, не причиняя ему вреда.
– Но все-таки могут сказать, что я пою с чужого голоса.
– Природа нигде не повторяется, и едва ли есть на свете две мухи, совершенно сходные между собою. То же и с оригинальными писателями. В общем вы самобытны и никому не подражаете; а это я ценю в вас всего выше. Многое у вас, правда, еще не додумано, не доделано, словом – не дозрело. Вам надо серьезно поработать над собою. Писатель постоянно должен помнить, что он пишет не для себя, а для тысячей других людей, что если он на какой-нибудь частный раут не является в халате, не чесанным, небритым, то тем менее ему позволительно являться в таком неприглядном виде перед всей читающей Россией. Если вы желаете, чтобы вас читали и через десять лет, быть может, даже после вашей смерти, – вы должны взвешивать каждое ваше выражение, каждое слово. И относясь к вашим рассказам с этой точки зрения, я должен сказать вам, что они меня далеко не удовлетворяют. Лучше теперь же тонким скальпелем эстетической критики удалить все болезненные наросты…
– Чтобы потом журнальные живодеры своими кухонными ножами не вырезали вместе и лучшие куски здорового мяса? – сказал Гоголь.
– А вы все еще не можете простить Свиньину? Он принес вам пользу уже тем, что заставил вас внимательнее отнестись к своей работе.
И тем же ровным, может быть, еще более ласковым тоном критик-эстетик начал комментировать свои загадочные вопросительные и восклицательные знаки, которыми были испещрены чуть ли не все страницы рукописи молодого автора.
Тут скрипнула дверь, и в комнату заглянула бледная дама, в которой Гоголь тотчас признал оригинал того портрета, который обратил в первый раз его внимание, на письменном столе хозяина.
– Жена моя, – рекомендовал ее Плетнев гостю. – Что скажешь, милая?
Застенчиво и молчаливо ответив на поклон Гоголя, хозяйка наклонилась к уху мужа.
– Да, да, лучше сюда, мой друг, – отвечал Плетнев, – мы долго еще не кончим.
Вслед за горничною, принесшею им чай, вошла девочка с сухарницей, наполненной всяким печеньем и бутербродами.
– Моя единственная, совсем в маму, – с нежностью проговорил Плетнев и потрепал дочку по щеке. – А ты все еще не спишь?
– Манечка тоже не спит, – тихонько отвечала девочка, из-за плеча отца украдкой поглядывая на гостя.
– Это ее кукла, – с улыбкой пояснил Плетнев гостю. – Так ты бы ее уложила.
– Да ей еще не хочется. Отец беззвучно рассмеялся.
– В самом деле? Ну, может быть, теперь и захочется: поди, посмотри.
Отец поцеловал дочку в лоб и осенил крестом.
– Вы не поверите, – обратился он к Гоголю, когда она на цыпочках опять вышла, – как этакая детская наивность утешает, освежает родительское сердце! точно сам вдруг опять молодеешь.
И он с новыми силами принялся за свои комментарии. Уже близко к полночи была просмотрена последняя тетрадка.
– Ну, вот, – заключил Плетнев, проводя ладонью по утомленному лицу и слегка отдуваясь, – если имеете что возразить, то, сделайте милость, говорите: и мне, как всякому, свойственно ошибаться.
– Что я могу возразить? – прошептал упавшим голосом Гоголь. – Все ваши замечания безусловно верны, и я понимаю, что вы могли бы еще многое заметить, но, по доброте своей, меня пощадили. Вот Пушкин выработался сам собой, без чужой указки…
– Нет, Жуковский был его главным учителем, пока сам не признал себя побежденным. Мне припоминается один случай, – продолжал Плетнев, бесстрастные черты которого при этом несколько опять оживились. – Жил Василий Андреевич тогда еще не во дворце – он был еще простой смертный, – а в Коломне, у Кашина моста, в семействе своего деревенского друга Плещеева. Но по субботам у него и тогда уже собирался литературный кружок: Пушкин, Дельвиг, Вяземский, Баратынский… Василий Андреевич взял привычку – при исправлении своих стихов в перебеленной уже тетради не зачеркивать забракованные строки, а заклеивать сверху полосками бумаги. И вот однажды, когда он прочитывал нам такие исправленные стихи, кто-то из присутствующих заметил, что прежняя редакция стихов была удачнее, и сорвал наклеенную бумажку. Вдруг смотрим, что такое? Пушкин лезет под стол за бумажкой и прячет ее в карман с важным видом: «Что Жуковский бросает, то нам еще пригодится!»
Гоголь не рассмеялся, а только грустно усмехнулся.
– Пушкину-то хорошо так шутить, когда весь свет признает его громадный талант!
– И ваш талант, Николай Васильевич, со временем, надеюсь, признают; но для этого, повторяю, вы должны быть своим собственным критиком, переделывать по несколько раз то, что вам самим не нравится. Талантливому писателю это не может представлять особенного труда: птицу не спрашивают, трудно ли ей летать.
Плетнев не выражал восторга, и впоследствии Гоголь никогда не замечал, чтобы этот проницательный и невозмутимо-спокойный критик чем-либо шумно восхищался; только в редких случаях, именно, когда появлялось какое-нибудь художественное произведение его молодого друга – Пушкина, он, бывало, приходил в тихое умиление. Но уже тот искренний отеческий тон, которым была произнесена эта умеренная похвала, вызвал в Гоголе сильный подъем духа.
– О, я готов залететь хоть за облака! – воскликнул он. – Так вы, Петр Александрович, стало быть, ни одной из моих вещей не бракуете?
– Гм… Посмотрим, каковы они выйдут в окончательной отделке. Кажется, что все могут быть напечатаны. Во всяком случае, я не напечатал бы их вместе.
– А как же иначе?
– А вот четыре ваших крупных рассказа – «Вечер накануне Ивана Купала», «Сорочинская ярмарка», «Майская ночь» и «Страшная месть», носят все один и тот же характер – легендарной Малороссии. Их я выпустил бы в одной книжке под каким-нибудь общим заглавием. Об этом мы еще потолкуем с Жуковским, как и о том, выступить ли вам под своим собственным именем или под псевдонимом.
– А что же сделать с остальными вещами?






