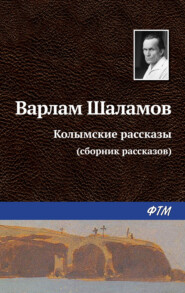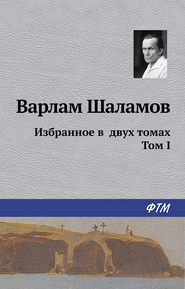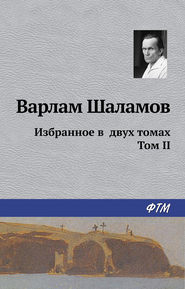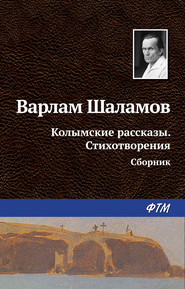По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Четвертая Вологда
Автор
Год написания книги
2011
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Надежды эти всегда сбывались и сбывались немедленно – ссыльные бежали, их привозили из побегов, и все начиналось сначала.
Именно из Вологды Герман Лопатин увез Лаврова, чтобы тот успел принять участие на баррикадах Парижской коммуны – по железной дороге Вологда – Петербург. Лопатин в Вологде долго ждал поезда и чуть не сгубил дело.
Но поезда не стали ходить медленнее. Напротив, поезда стали ходить чаще, расстояние от столицы до Вологды все уменьшалось. Бежать становилось все легче и все заманчивей.
Тех ссыльных, кто не бежал, освобождали по заявлению. Вернуться в столицы было легко. Вековать в Вологде никто из ссыльных не хотел и не вековал.
Вот эта устремленность на Запад и создает третью Вологду – Вологду ссыльных – бывших, сущих и будущих. Такие семена никогда не остаются бесплодными.
Почва слишком богата, жирна, пропитана кровью – и в буквальном, и в переносном смысле.
Споры ссыльных между собой – это не споры о пальце Ивана Грозного – а о будущем России, о смысле жизни.
Временность ссылки не подменяет временности земного бытия, свободомыслие цветет в Вологде ярким цветом – свободомыслием Джефферсона, Франклина.
Доклад о современных, революционных движениях любой вологодский ссыльный может сделать вполне квалифицированно – на уровне самых последних философских, религиозных, экономических течений.
Политика здесь, как всегда, выступает в смысле рычага общей культуры. Вологда осведомлена и о Блоке, и о Бальмонте, о Хлебникове, не говоря уж о Горьком, или о таком кумире русской провинции, как Некрасов. «Колокол» Герцена – а не только «Кто виноват» – идет нарасхват.
Естественно, что отец – шаман и сын шамана[2] – вернулся после двенадцати лет заграничной службы европейски образованным человеком – вернулся не к первой Вологде – оттуда он вышел родом, не ко второй – исторической, от имени которой он уже научен был говорить, а к третьей Вологде – Вологде освободительного движения. В эту третью Вологду отец и вошел со всеми своими знакомствами, интересами, связями и идеалами – по возвращении из Америки, в 1905 году, за два года до моего рождения. Уже замысел моего рождения продиктован другим человеком, чем тот священник, который уезжал в прошлом столетии на Алеутские острова.
Я не был экспериментом отца, я был ставкой, шашкой в его игре – в шахматы отец не умел играть, а то бы я применил другое сравнение, – отнюдь не азартной, а рассчитанной, продуманной, разумной, победоносной партии.
И не вина отца, что силы, с которыми он столкнулся, были слишком неожиданны, масштабы их нельзя было определить ни в каком политическом клубе.
Даже Достоевский, который много угадал, прошел мимо практического решения этого теоретического вопроса.
Отец мало обращался к Достоевскому, к художественной литературе вообще. Позитивист до мозга костей, он не верил никаким пророчествам. Напротив, пророчества оскорбляли его разум – отец не нуждался в пророчествах. Поэтому в будущем он ничего не угадал… Он только воспитал в себе вкусы, понятия, пытался по этим понятиям жить и учить как-то других.
У Вологды была еще одна важная сторона. Там создавалась как бы «обязательная школа», «техминимум революции», выражаясь языком тридцатых годов. Эта обязательная школа, может, была и побольше, чем техникум, – вроде гимназического диплома.
Вологда была легкой ссылкой, и в то же время обязательной, как бы почетной и зависящей от самого ссыльного.
В этой легкости – ссылка могла быть прервана в любой момент по заявлению ссыльного, да еще близость к столицам – ночь до Москвы, ночь до Питера, – создавалось для либеральных высших чиновников статистическое оправдание. Ведь в тюремных заведениях статистика всегда в почете.
Сколько сослали – столько-то. Борьба, значит, ведется. А куда же сослали? В Вологду. Цифры успокаивали верхи и радовали либералов.
Вологду не сравнивайте с Сибирью. Вологда – это Москва и Петербург. Только об этом не говорите при начальстве.
Вологодская ссылка была отпиской либеральных царских министров начала XX века. Потому-то в Вологде и не проходило дня без рефератов, диспутов, споров.
Конечно, как во всякой ссылке, в Вологде были свои драмы, свои вожди и пророки, свои шарлатаны.
Но я не пишу ни истории революции, ни истории своей семьи. Я пишу историю своей души – не более.
Но: публичность этой третьей Вологды, ее ориентация на глобальность, на современность создает особую страну в северном русском городе.
Эта третья Вологда не писала своей истории, как написали Нерчинск, Акатуй и – в более широком смысле – Сибирь.
Для русского освободительного движения Вологда – это своеобразный Барбизон для французской новой живописи.
Третья Вологда была вся в живой борьбе, глубоко дыша воздухом обеих столиц. Укрепляла свои силы мышцами традиций поисков смысла жизни, решения вечных вопросов.
Энтузиастов хватает в каждом русском поколении.
Во время моей юности я слушал лекцию Владимира Александровича Поссе[3] – тоже одного из праведников прошлого столетия. Сама лекция его так и называлась: «В чем смысл жизни?» В. А. Поссе был только одним из сотен, из тысяч других.
Все эти речи обращались именно к третьей Вологде. Традиции города в этом смысле были чрезвычайно плодотворны. И хотя меня не лекция Поссе заставила задуматься над смыслом жизни – Поссе немного опоздал, – все же я слушал его с большим мальчишеским вниманием и пиететом.
Поссе был седой краснощекий старик в вельветовой куртке, размахивающий маленькими короткими руками над затаившим дыхание залом женской гимназии.
Дорог для утверждения добра Поссе предлагал очень много, слишком много для такого юного догматика, каким был я.
Третья Вологда знала пути на любые вкусы. Третья Вологда организовывала народные читальни, библиотеки, кружки, кооперативы, мастерские, фабрики.
Каждый уезжающий ссыльный – это было традицией – жертвовал свою всегда огромную библиотеку в книжный фонд Городской публичной библиотеки – тоже общественного предприятия, тоже гордости вологжан.
III
Резкой металлической дробью щелкал рукомойник, и где-то совсем близко за стеной на этот звук отзывались колокола. Чесучой шуршала одежда отца, вздыхала с чуть слышным скрипом тяжелая дверь в парадное, выпуская отца на улицу, звякал тяжелый крюк, возвращаясь в гнездо под рукой матери. Все стихало. Через какое-то время звуки возвращались в обратном порядке. Стучал откидываемый крюк, скрипела дверь, шуршала одежда. Колокола негромко отыгрывали какую-то поспешную, торопливую мелодию, металлом гремел рукомойник на кухне.
Семья садилась за утренний завтрак, который у нас почему-то назывался чаем, хотя меньше всего тут было чая.
Каждому выдавалась серебряная ложка; ставилось молоко – топленое и обыкновенное – и сахарный песок наполнял сахарницу – отец не признавал другого. Ни пирожных, ни конфет никогда не давалось. А если пироги, то только собственной материнской выпечки, да и то если остались от праздничных трудов.
Праздников, впрочем, в городе было немало. Я как-то подсчитал все царские дни, церковные и светские праздники. Насчитал около 120 дней в году – когда пироги могли быть традицией.
Большой раздвижной стол с обеих сторон занимали дети – отец на главном месте со своим стаканом с серебряным подстаканником и огромной, какой-то особенной ложечкой, которая щелкала весьма выразительно, аккомпанируя то заочным мыслям, то открытым поучениям отца.
Для матери тут не было места. Она только носила посуду, подавала самовар, успевала все нужное сварить и приготовить. Вдобавок отец любил черный хлеб собственной материнской выпечки. Это заставляло мать ежедневно заводить опару, выпекать хлеба, хотя в магазине хлеб был гораздо вкуснее и дешевле, и все дети любили магазинный хлеб.
Но дома подавался хлеб только домашний, и притом самой свежей сиюминутной выпечки, теплый.
Отец вечно спешил на какие-то заседания, собрания – уже за завтраком было видно, что он давно вне дома.
И вот он вынимал свои огромные золотые часы, резко щелкала крышка, привлекая всеобщее внимание к солнечному лучу зайчика, прыгавшего на этой крышке. Крышка закрывалась, и отец уходил.
Эти золотые часы – американский полухронометр – хорошо известны мне с детства. Именно по ним мама моя проверяла, заводила и переводила свои дешевые кухонные ходики с гирями. Никаких других часов, настольных, например, в нашем доме не было.
Когда наступило время продажи этих часов, выяснилось, что часы – не золотые, а только позолоченные, – тоже одно из открытий моей юности. Но как бы то ни было, часы пережили разрухи, революцию и войны, пережили и лагерь – были со мной на Колыме, после освобождения и вернулись в Москву и живут до сих пор у меня.
IV
Крошечная казенная квартира из трех комнат и кухни для семьи из шести, а когда родился я – из семи человек;[1 - Уточнить состав и возраст членов семьи позволяют сохранившиеся данные из клировой ведомости Софийского собора за 1907 год: «В семействе у него (священника Тихона Николаевича Шаламова. – И. С): жена Надежда Александровна – 37 лет, дети: Валерий-13, Галя-11, Сергей-9, Наталия-7, Варлаам-6 месяцев». Гос. архив Вологодской обл., ф. 496, оп. 1, д. 18474, л. 609/об.] в казенном соборном доме для причта – старинной постройки, охраняемой государством сейчас, – дом уцелел из-за близости к собору Ивана Грозного, к ценному архитектурному комплексу.
Устраивал он отца и не только по своим архитектурным качествам.
Жизнь соборного священника, живущего на жалованье, а не на сбор подаяний во время «славления», привлекала его, и ни старшие дети, ни я никогда к этой стороне поповской жизни не обращались – отец просто выключал свою семью из разнообразного круга влияний специфического быта духовенства.