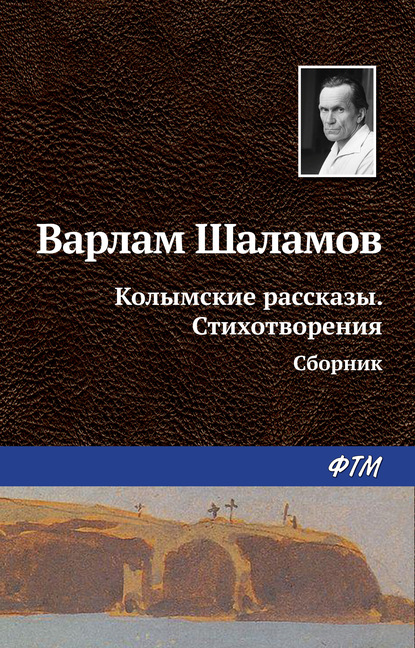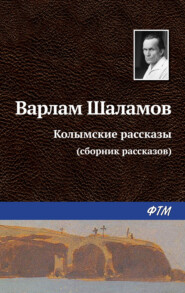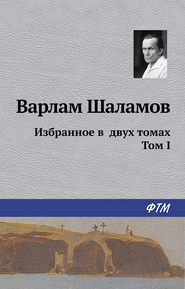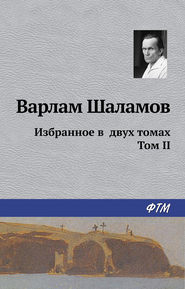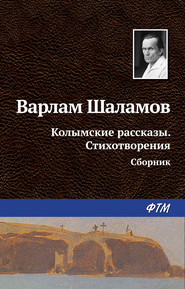По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Колымские рассказы. Стихотворения (сборник)
Автор
Год написания книги
2010
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Садись в машину!
Конвоир откинул край большого брезента, закрывавшего машину, – машина была полна людей, сидевших по всей форме.
– Полезай!
Все пятеро сели вместе. Все молчали. Конвоир сел в машину, затарахтел мотор, и машина двинулась по шоссе, выезжая на главную трассу.
– На четвертый километр везут, – сказал печник.
Верстовые столбы уплывали мимо. Все пятеро сдвинули головы около щели в брезенте, не верили глазам…
– Семнадцатый…
– Двадцать третий… – считал Филипповский.
– На местную, сволочи! – злобно прохрипел печник.
Машина давно уже вертелась витой дорогой между скал. Шоссе было похоже на канат, которым тащили море к небу. Тащили горы-бурлаки, согнув спину.
– Сорок седьмой, – безнадежно пискнул вертлявый эсперантист.
Машина пролетела мимо.
– Куда мы едем? – спросил Андреев, ухватив чье-то плечо.
– На Атке, на двести восьмом будем ночевать.
– А дальше?
– Не знаю… Дай закурить.
Грузовик, тяжело пыхтя, взбирался на перевал Яблонового хребта.
1959
Левый берег
И.П. Сиротинской
Ире – мое бесконечное воспоминание, заторможенное в книжке «Левый берег»
Прокуратор Иудеи
Пятого декабря тысяча девятьсот сорок седьмого года в бухту Нагаево вошел пароход «КИМ» с человеческим грузом. Рейс был последний, навигация кончилась. Сорокаградусными морозами встречал гостей Магадан. Впрочем, на пароходе были привезены не гости, а истинные хозяева этой земли – заключенные.
Все начальство города, военное и штатское, было в порту. Все бывшие в городе грузовики встречали в Нагаевском порту пришедший пароход «КИМ». Солдаты, кадровые войска окружили мол, и выгрузка началась.
За пятьсот километров от бухты все свободные приисковые машины двинулись к Магадану порожняком, подчиняясь зову селектора.
Мертвых бросали на берегу и возили на кладбище, складывали в братские могилы, не привязывая бирок, а составив только акт о необходимости эксгумации в будущем.
Наиболее тяжелых, но еще живых – развозили по больницам для заключенных в Магадане, Оле, Армани, Дукче.
Больных в состоянии средней тяжести везли в центральную больницу для заключенных – на левый берег Колымы. Больница туда только что переехала с двадцать третьего километра. Приди бы пароход «КИМ» годом раньше – ехать за пятьсот километров не пришлось бы.
Заведующий хирургическим отделением Кубанцев, только что из армии, с фронта, был потрясен зрелищем этих людей, этих страшных ран, которые Кубанцеву в жизни не были ведомы и не снились никогда. В каждой приехавшей из Магадана машине были трупы умерших в пути. Хирург понимал, что это легкие, транспортабельные, те, что полегче, а самых тяжелых оставляют на месте.
Хирург повторял слова генерала Риджуэя, которые где-то сразу после войны удалось ему прочитать: «Фронтовой опыт солдата не может подготовить человека к зрелищу смерти в лагерях».
Кубанцев терял хладнокровие. Не знал, что приказать, с чего начать. Колыма обрушила на фронтового хирурга слишком большой груз. Но надо было что-то делать. Санитары снимали больных с машин, несли на носилках в хирургическое отделение. В хирургическом отделении носилки стояли по всем коридорам тесно. Запахи мы запоминаем, как стихи, как человеческие лица. Запах этого первого лагерного гноя навсегда остался во вкусовой памяти Кубанцева. Всю жизнь он вспоминал потом этот запах. Казалось бы, гной пахнет везде одинаково и смерть везде одинакова. Так нет. Всю жизнь Кубанцеву казалось, что это пахнут раны тех первых его больных на Колыме.
Кубанцев курил, курил и чувствовал, что теряет выдержку, не знает, что приказать санитарам, фельдшерам, врачам.
– Алексей Алексеевич, – услышал Кубанцев голос рядом. Это был Браудэ, хирург из заключенных, бывший заведующий этим же самым отделением, только что смещенный с должности приказом высшего начальства только потому, что Браудэ был бывшим заключенным, да еще с немецкой фамилией. – Разрешите мне командовать. Я все это знаю. Я здесь десять лет.
Взволнованный Кубанцев уступил место командира, и работа завертелась. Три хирурга начали операции одновременно – фельдшера вымыли руки, как ассистенты. Другие фельдшера делали уколы, наливали сердечные лекарства.
– Ампутации, только ампутации, – бормотал Браудэ. Он любил хирургию, страдал, по его собственным словам, если в его жизни выдавался день без единой операции, без единого разреза. – Сейчас скучать не придется, – радовался Браудэ. – А Кубанцев хоть и парень неплохой, а растерялся. Фронтовой хирург! У них там все инструкции, схемы, приказы, а вот вам живая жизнь, Колыма!
Но Браудэ был незлой человек. Снятый без всякого повода со своей должности, он не возненавидел своего преемника, не делал ему гадости. Напротив, Браудэ видел растерянность Кубанцева, чувствовал его глубокую благодарность. Как-никак у человека семья, жена, сын-школьник. Офицерский полярный паек, высокая ставка, длинный рубль. А что у Браудэ? Десять лет срока за плечами, очень сомнительное будущее. Браудэ был из Саратова, ученик знаменитого Краузе и сам обещал очень много. Но тридцать седьмой год вдребезги разбил всю судьбу Браудэ. Так Кубанцеву ли он будет мстить за свои неудачи…
И Браудэ командовал, резал, ругался. Браудэ жил, забывая себя, и хоть в минуты раздумья часто ругал себя за эту презренную забывчивость – переделать себя он не мог.
Сегодня решил: «Уйду из больницы. Уеду на материк».
…Пятого декабря тысяча девятьсот сорок седьмого года в бухту Нагаево вошел пароход «КИМ» с человеческим грузом – тремя тысячами заключенных. В пути заключенные подняли бунт, и начальство приняло решение залить все трюмы водой. Все это было сделано при сорокаградусном морозе. Что такое отморожение третьей-четвертой степени, как говорил Браудэ, – или обморожение, как выражался Кубанцев, – Кубанцеву дано было знать в первый день его колымской службы ради выслуги лет.
Все это надо было забыть, и Кубанцев, дисциплинированный и волевой человек, так и сделал. Заставил себя забыть.
Через семнадцать лет Кубанцев вспоминал имя, отчество каждого фельдшера из заключенных, каждую медсестру, вспоминал, кто с кем из заключенных «жил», имея в виду лагерные романы. Вспомнил подробный чин каждого начальника из тех, что поподлее. Одного только не вспомнил Кубанцев – парохода «КИМ» с тремя тысячами обмороженных заключенных.
У Анатоля Франса есть рассказ «Прокуратор Иудеи». Там Понтий Пилат не может через семнадцать лет вспомнить Христа.
1965
В приемном покое
– Этап с Золотистого!
– Чей прииск?
– Сучий.
– Вызывай бойцов на обыск. Не справишься ведь сам.
– А бойцы прохлопают. Кадры.
– Не прохлопают. Я постою в дверях.