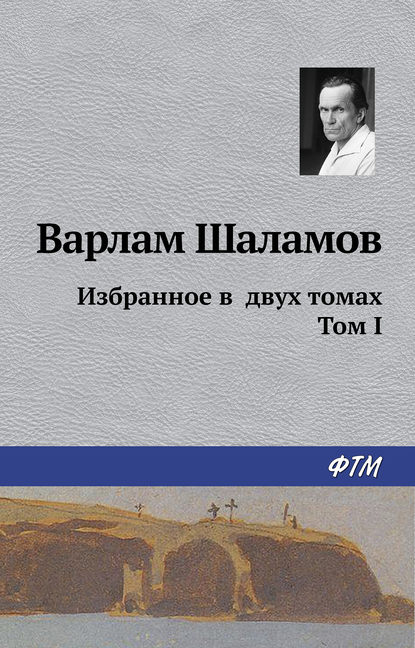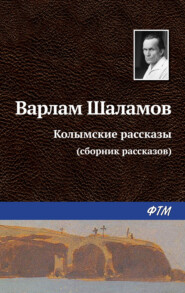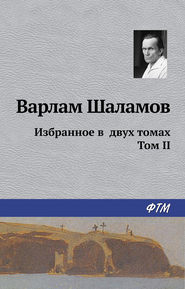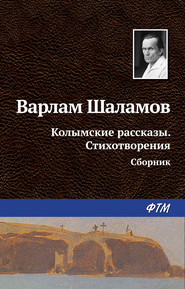По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Избранное в двух томах. Том I
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Был и третий, самый распространенный выход. Многие отдавали хранить посылки своим знакомым по лагерю или тюрьме, работавшим на каких-либо должностях и работах, где можно было запереть и спрятать. Или давали кому-либо из вольнонаемных. И в том и в другом случае всегда был риск – никто не верил в добросовестность хозяев, – но это была единственная возможность спасти полученное.
Денег не платили вовсе. Ни копейки. Платили только лучшим бригадам, и то пустяки, которые не могли дать им серьезной помощи. Во многих бригадах бригадиры делали так: выработку бригады записывали на два-три человека, давая им перевыполненный процент, за что полагалась денежная премия. На остальные двадцать-тридцать человек в бригаде полагался штрафной паек. Это было остроумным решением. Если бы на всех заработок был поделен поровну, никто не получил бы ни копейки. А тут получали два-три человека, выбираемые совсем случайно, часто даже без участия бригадира в составлении ведомости.
Все знали, что нормы невыполнимы, что заработка нет и не будет, и все же за десятником ходили, интересовались выработкой, бежали встречать кассира, ходили в контору за справками.
Что это такое? Есть ли это желание обязательно выдать себя за работягу, поднять свою репутацию в глазах начальства, или это просто какое-то психическое расстройство на фоне упадка питания? Последнее более верно.
Светлая, чистая, теплая следственная тюрьма, которую так недавно и так бесконечно давно они покинули, всем, неукоснительно всем казалась отсюда лучшим местом на земле. Все тюремные обиды были забыты, и все с увлечением вспоминали, как они слушали лекции настоящих ученых и рассказы бывалых людей, как они читали книги, как они спали и ели досыта, ходили в чудесную баню, как получали они передачи от родственников, как они чувствовали, что семья вот здесь, рядом, за двойными железными воротами, как они говорили свободно, о чем хотели (в лагере за это полагался дополнительный срок заключения), не боясь ни шпионов, ни надзирателей. Следственная тюрьма казалась им свободнее и родней родного дома, и не один говорил, размечтавшись на больничной койке, хотя оставалось жить немного: «Я бы хотел, конечно, повидать семью, уехать отсюда. Но еще больше мне хотелось бы попасть в камеру следственной тюрьмы – там было еще лучше и интересней, чем дома. И я рассказал бы теперь всем новичкам, что такое "чистый воздух"».
Если ко всему этому прибавить чуть не поголовную цингу, выраставшую, как во времена Беринга, в грозную и опасную эпидемию, уносившую тысячи жизней; дизентерию, ибо ели что попало, стремясь только наполнить ноющий желудок, собирая кухонные остатки с мусорных куч, густо покрытых мухами; пеллагру – эту болезнь бедняков, истощение, после которого кожа на ладонях и стопах слезала с человека, как перчатка, а по всему телу шелушилась крупным круглым лепестком, похожим на дактилоскопические оттиски, и, наконец, знаменитую алиментарную дистрофию – болезнь голодных, которую только после ленинградской блокады стали называть своим настоящим именем. До того времени она носила разные названия: РФИ – таинственные буквы в диагнозах историй болезни, переводимые как резкое физическое истощение, или, чаще, полиавитаминоз, чудное латинское название, говорящее о недостатке нескольких витаминов в организме человека и успокаивающее врачей, нашедших удобную и законную латинскую формулу для обозначения одного и того же – голода.
Если вспомнить неотапливаемые, сырые бараки, где во всех щелях изнутри намерзал толстый лед, будто какая-то огромная стеариновая свеча оплыла в углу барака… Плохая одежда и голодный паек, отморожения, а отморожение – это ведь мученье навек, если даже не прибегать к ампутациям. Если представить, сколько при этом должно было появиться и появлялось гриппа, воспаления легких, всяческих простуд и туберкулеза в болотистых этих горах, губительных для сердечника. Если вспомнить эпидемии саморубов-членовредителей. Если принять во внимание и огромную моральную подавленность, и безнадежность, то легко увидеть, насколько чистый воздух был опаснее для здоровья человека, чем тюрьма.
Поэтому нет нужды полемизировать с Достоевским насчет преимущества «работы» на каторге по сравнению с тюремным бездельем и достоинствами «чистого воздуха». Время Достоевского было другим временем, и каторга тогдашняя еще не дошла до тех высот, о которых здесь рассказано. Об этом заранее трудно составить верное представление, ибо все тамошнее слишком необычайно, невероятно, и бедный человеческий мозг просто не в силах представить в конкретных образах тамошнюю жизнь, о которой смутное, неуверенное понятие имел наш тюремный знакомый – татарский мулла.
1955
Первая смерть
Много я видел человеческих смертей на Севере – пожалуй, даже слишком много для одного человека, но первую виденную смерть я запомнил ярче всего.
Той зимой пришлось нам работать в ночной смене. Мы видели на черном небе маленькую светло-серую луну, окруженную радужным нимбом, зажигавшимся в большие морозы. Солнце мы не видели вовсе – мы приходили в бараки (не домой – домом их никто не называл) и уходили из них затемно. Впрочем, солнце показывалось так ненадолго, что не могло успеть даже разглядеть землю сквозь белую плотную марлю морозного тумана. Где находится солнце, мы определяли по догадке – ни света, ни тепла не было от него.
Ходить в забой было далеко – два-три километра, и путь лежал посреди двух огромных, трехсаженных снежных валов; нынешней зимой были большие снежные заносы, и после каждой метели прииск отгребался. Тысячи людей с лопатами выходили чистить эту дорогу, чтобы дать проход автомашинам. Всех, кто работал на расчистке пути, окружали сменным конвоем с собаками и целыми сутками держали на работе, не разрешая ни погреться, ни поесть в тепле. На лошадях привозили примороженные пайки хлеба, иногда, если работа затягивалась, консервы – по одной банке на двух человек. На тех же лошадях отвозили в лагерь больных и ослабевших. Людей отпускали только тогда, когда работа была сделана, с тем чтобы они могли выспаться и снова идти на мороз для своей «настоящей» работы. Я заметил тогда удивительную вещь – тяжело и мучительно трудно в такой многочасовой работе бывает только первые шесть-семь часов. После этого теряешь представление о времени, подсознательно следя только за тем, чтобы не замерзнуть: топчешься, машешь лопатой, не думая вовсе ни о чем, ни на что не надеясь.
Окончание этой работы бывает всегда неожиданностью, внезапным счастьем, на которое ты как будто никак и не смел рассчитывать. Все веселы, шумны, и на какое-то время будто нет ни голода, ни смертельной усталости. Наскоро построясь в ряды, все весело бегут «домой». А по бокам поднимаются валы огромной снеговой траншеи, валы, отрезающие нас от всего мира.
Метели давно уже не было, и пухлый снег осел, поплотнел и казался еще мощнее и тверже. По гребню вала можно было пройти не проваливаясь. Оба вала в нескольких местах были прорезаны перекрестной дорогой.
Часам к двум ночи мы приходили обедать, наполняя барак шумом намерзшихся людей, лязгом лопат, громким говором людей, вошедших с улицы, говором, который лишь постепенно стихает и глохнет, возвращаясь к обычной человеческой речи. Ночью обед был всегда в бараке, а не в мерзлой столовой с выбитыми стеклами, столовой, которую все ненавидели. После обеда те, у кого была махорка, закуривали, а тем, кто махорки не имел, товарищи оставляли покурить, и в общем выходило так, что «задохнуться» успевал каждый.
Наш бригадир, Коля Андреев, бывший директор МТС, а сущий заключенный, осужденный на десять лет по модной пятьдесят восьмой статье, ходил всегда впереди бригады и всегда быстро. Бригада наша была бесконвойная. Конвоя в те времена не хватало – этим и объяснялось доверие начальства. Однако сознание своей особенности, бесконвойности для многих было не последним делом, как это ни наивно. Бесконвойное хождение на работу всем по-серьезному нравилось, составляло предмет гордости и похвальбы. Бригада действительно и работала лучше, чем потом, когда конвоя стало достаточно и андреевская бригада была уравнена в правах со всеми остальными.
Нынешней ночью Андреев вел нас новой дорогой – не низом, а прямо по хребту снежного вала. Мы видели мерцанье золотых огней прииска, темную громаду леса влево и сливавшиеся с небом далекие вершины сопок. Впервые ночью мы видели свое жилье издали.
Дойдя до перекрестка, Андреев вдруг круто повернул вправо и сбежал вниз прямо по снегу. За ним, покорно повторяя его непонятные движения, посыпались гурьбой вниз люди, гремя ломами, кайлами, лопатами; инструмент никогда не оставляли на работе, там его крали, а за потерю инструмента грозил штраф.
В двух шагах от перекрестка дороги стоял человек в военной форме. Он был без шапки, короткие темные волосы его были взъерошены, пересыпаны снегом, шинель расстегнута. Еще дальше, заведенная прямо в глубокий снег, стояла лошадь, запряженная в легкие сани-кошевку.
А около ног этого человека лежала навзничь женщина. Шубка ее была распахнута, пестрое платье измято. Около головы ее валялась скомканная черная шаль. Шаль была втоптана в снег, так же как и светлые волосы женщины, казавшиеся почти белыми в лунном свете. Худенькое горло было открыто, и на шее справа и слева проступали овальные темные пятна. Лицо было белым, без кровинки, и, только вглядевшись, я узнал Анну Павловну, секретаршу начальника нашего прииска.
Мы все знали ее в лицо хорошо – на прииске женщин было очень мало. Месяцев шесть назад, летом, она проходила вечером мимо нашей бригады, и восхищенные взгляды арестантов провожали ее худенькую фигурку. Она улыбнулась нам и показала рукой на солнце, уже отяжелевшее, спускавшееся к закату.
– Скоро уже, ребята, скоро! – крикнула она.
Мы, как и лагерные лошади, весь рабочий день думали только о минуте его окончания. И то, что наши немудреные мысли были так хорошо поняты, и притом такой красивой, по нашим тогдашним понятиям, женщиной, растрогало нас. Анну Павловну наша бригада любила.
Сейчас она лежала перед нами мертвая, удавленная пальцами человека в военной форме, который растерянно и дико озирался вокруг. Его я знал гораздо лучше. Это был наш приисковый следователь Штеменко, который «дал дела» многим из заключенных. Он неутомимо допрашивал, нанимал за махорку или миску супа ложных свидетелей-клеветников, вербуя их из голодных заключенных. Некоторых он уверял в государственной необходимости лжи, некоторым угрожал, некоторых подкупал. Он не давал себе труда раньше ареста нового следственного познакомиться с ним, вызвать его к себе, хотя все жили на одном прииске. Готовые протоколы и побои ждали арестованного в следственном кабинете.
Штеменко был именно тот начальник, который при посещении нашего барака месяца три назад изломал все арестантские котелки, сделанные из консервных банок, – в них варили все, что можно сварить и съесть. В них носили обед из столовой, чтобы съесть его сидя и съесть горячим, разогрев в своем бараке на печке. Поборник чистоты и дисциплины, Штеменко потребовал кайло и собственноручно пробил днища консервных банок.
Сейчас он, заметив Андреева в двух шагах от себя, схватился за кобуру пистолета, но, увидев толпу людей, вооруженных ломами и кайлами, так и не вытащил оружия. Но ему уже крутили руки. Это делалось со страстью – узел затянули так, что веревку потом разрезать пришлось ножом.
Труп Анны Павловны положили в кошевку и двинулись в поселок, к дому начальника прииска. С Андреевым туда пошли не все – многие бросились скорей в барак, к супу.
Долго не отпирал начальник, разглядев сквозь стекло толпу арестантов, собравшихся у дверей его дома. Наконец Андрееву удалось объяснить, в чем дело, и он, вместе со связанным Штеменко и двумя заключенными, вошел в дом.
Обедали мы в эту ночь очень долго. Андреева водили куда-то давать показания. Но потом он пришел, скомандовал, и мы пошли на работу.
Штеменко вскоре осудили на десять лет за убийство из ревности. Наказание было минимальным. Судили его на нашем же прииске и после приговора куда-то увезли. Бывших лагерных начальников в таких случаях содержат где-то особо – никто никогда не встречал их в обыкновенных лагерях.
1956
Тетя Поля
Тетя Поля умерла в больнице от рака желудка в возрасте пятидесяти двух лет. Вскрытие подтвердило диагноз лечащего врача. Впрочем, в нашей больнице патологоанатомический диагноз редко расходился с клиническим – так бывает в самых лучших и самых плохих больницах.
Фамилию тети Поли знали только в конторе. Не помнила подлинной фамилии даже жена начальника, у которого тетя Поля семь лет была «дневальной», то есть прислугой.
Все знают, кто такой дневальный или дневальная, но не все знают, кем они могут быть. Доверенное лицо недоступного властителя тысяч человеческих судеб; свидетель его слабостей, его темных сторон. Человек, знающий теневые стороны дома. Раб, но и непременный участник подводной, подземной квартирной войны; участник или, по крайней мере, наблюдатель домашних сражений. Негласный арбитр в ссорах мужа и жены. Ведущий хозяйство семьи начальника, умножающий его богатство, и не только экономией и честностью. Один такой дневальный торговал в пользу начальника махорочными папиросами, продавая их заключенным по десять рублей папироса. Лагерная палата мер и весов установила, что в спичечную коробку входит махорки на восемь папирос, а восьмушка махорки состоит из восьми таких спичечных коробочек. Эти меры сыпучих тел действуют на 1/8 территории Советского Союза – во всей Восточной Сибири.
Наш дневальный выручал за каждую пачку махорки шестьсот сорок рублей. Но и эта цифра не была, как говорится, пределом. Можно было насыпать неполные коробочки – разница на взгляд почти незаметна, да и ссориться с дневальным начальника никто не захочет. Можно было вертеть более тонкие папиросы. Вся закрутка – дело рук и совести дневального. Наш дневальный скупал у начальника махорку по пятьсот рублей за пачку. Стосорокарублевая разница шла в карман дневального.
Хозяин тети Поли махоркой не торговал, и вообще никакими темными делами тете Поле у него заниматься не приходилось. Тетя Поля была великая стряпуха, а дневальные, сведущие в кулинарии, ценились особенно дорого. Тетя Поля могла взяться – и действительно бралась – устроить кого-либо из земляков-украинцев на легкую работу или включить в какой-нибудь список на освобождение. Помощь тети Поли своим землякам была весьма серьезной. Другим она не помогала, разве только советом.
Тетя Поля работала у начальника седьмой год и думала, что и все свои десять «рокив» проживет безбедно.
Тетя Поля была расчетливой бессребреницей и справедливо полагала, что ее равнодушие к подаркам, к деньгам не может не прийтись по душе любому начальнику. Расчеты ее оправдались. Она была своим человеком в семье начальника, и уже был намечен план ее освобождения – она должна была числиться грузчицей автомашины на прииске, где работал брат начальника, и прииск ходатайствовал бы о ее освобождении.
Но тетя Поля заболела, ей становилось все хуже, и ее отвезли в больницу. Главный врач распорядился, чтобы тете Поле отвели отдельную палату. Десять полутрупов вытащили в холодный коридор, чтобы освободить место дневальной начальника.
Больница оживилась. Ежедневно во второй половине дня приезжали «виллисы», приезжали грузовики; из кабин выходили дамы в тулупах, выходили военные – все стремились к тете Поле. И тетя Поля обещала каждому: если выздоровеет – замолвит словечко начальнику.
Каждое воскресенье лимузин ЗИС-110 въезжал в больничные ворота – тете Поле везли посылочку, записочку от жены начальника.
Тетя Поля отдавала все санитаркам, попробует ложечку и отдаст. Болезнь свою она знала.
Но выздороветь тетя Поля не могла. И вот однажды в больницу явился с запиской начальника необычайный посетитель – отец Пётр, как он назвал себя нарядчику. Оказывается, тетя Поля желала исповедаться.
Необычайный посетитель был Петька Абрамов. Его все знали. Он даже лежал в этой больнице несколько месяцев назад. А сейчас это был отец Пётр.
Визит преподобного взволновал всю больницу. Оказывается, в наших краях есть священники! И они исповедуют желающих! В самой большой палате больничной – палате номер два, где между обедом и ужином ежедневно рассказывался кем-либо из больных гастрономический рассказ, во всяком случае, не для улучшения аппетита, а из-за потребности голодного человека в возбуждении пищевых эмоций, – в этой палате говорили только об исповеди тети Поли.
Отец Пётр был в кепке, в бушлате. Ватные его брюки заправлены в кирзовые старенькие сапоги. Волосы были острижены коротко – для лица духовного звания гораздо короче, чем волосы стиляг пятидесятых годов. Отец Пётр расстегнул бушлат и телогрейку – стала видна голубая косоворотка и большой наперсный крест. Это был не простой крест, а распятие – только самодельное, выточенное умелой рукой, но без необходимых инструментов.
Отец Пётр исповедал тетю Полю и ушел. Он долго стоял на шоссе, поднимая руки, когда приближались грузовики. Две машины прошли не останавливаясь. Тогда отец Пётр вынул из-за пазухи готовую, свернутую папиросу, поднял ее над головой, и первая же машина затормозила, шофер гостеприимно открыл дверцу кабины.
Тетя Поля умерла, и похоронили ее на больничном кладбище. Это было большое кладбище под горой (вместо «умереть» больные говорили «попасть под сопку») с братскими могилами «А», «Б», «В» и «Г», несколькими хордообразными линиями могил-одиночек. Ни начальника, ни его супруги, ни отца Петра не было на похоронах тети Поли. Обряд похорон был обычным: нарядчик навязал на левую голень тети Поли деревянную бирку с номером. Это был номер личного дела. По инструкции номер должен быть написан простым черным карандашом, а отнюдь не химическим, как и на лесных топографических реперах-затесах.
Денег не платили вовсе. Ни копейки. Платили только лучшим бригадам, и то пустяки, которые не могли дать им серьезной помощи. Во многих бригадах бригадиры делали так: выработку бригады записывали на два-три человека, давая им перевыполненный процент, за что полагалась денежная премия. На остальные двадцать-тридцать человек в бригаде полагался штрафной паек. Это было остроумным решением. Если бы на всех заработок был поделен поровну, никто не получил бы ни копейки. А тут получали два-три человека, выбираемые совсем случайно, часто даже без участия бригадира в составлении ведомости.
Все знали, что нормы невыполнимы, что заработка нет и не будет, и все же за десятником ходили, интересовались выработкой, бежали встречать кассира, ходили в контору за справками.
Что это такое? Есть ли это желание обязательно выдать себя за работягу, поднять свою репутацию в глазах начальства, или это просто какое-то психическое расстройство на фоне упадка питания? Последнее более верно.
Светлая, чистая, теплая следственная тюрьма, которую так недавно и так бесконечно давно они покинули, всем, неукоснительно всем казалась отсюда лучшим местом на земле. Все тюремные обиды были забыты, и все с увлечением вспоминали, как они слушали лекции настоящих ученых и рассказы бывалых людей, как они читали книги, как они спали и ели досыта, ходили в чудесную баню, как получали они передачи от родственников, как они чувствовали, что семья вот здесь, рядом, за двойными железными воротами, как они говорили свободно, о чем хотели (в лагере за это полагался дополнительный срок заключения), не боясь ни шпионов, ни надзирателей. Следственная тюрьма казалась им свободнее и родней родного дома, и не один говорил, размечтавшись на больничной койке, хотя оставалось жить немного: «Я бы хотел, конечно, повидать семью, уехать отсюда. Но еще больше мне хотелось бы попасть в камеру следственной тюрьмы – там было еще лучше и интересней, чем дома. И я рассказал бы теперь всем новичкам, что такое "чистый воздух"».
Если ко всему этому прибавить чуть не поголовную цингу, выраставшую, как во времена Беринга, в грозную и опасную эпидемию, уносившую тысячи жизней; дизентерию, ибо ели что попало, стремясь только наполнить ноющий желудок, собирая кухонные остатки с мусорных куч, густо покрытых мухами; пеллагру – эту болезнь бедняков, истощение, после которого кожа на ладонях и стопах слезала с человека, как перчатка, а по всему телу шелушилась крупным круглым лепестком, похожим на дактилоскопические оттиски, и, наконец, знаменитую алиментарную дистрофию – болезнь голодных, которую только после ленинградской блокады стали называть своим настоящим именем. До того времени она носила разные названия: РФИ – таинственные буквы в диагнозах историй болезни, переводимые как резкое физическое истощение, или, чаще, полиавитаминоз, чудное латинское название, говорящее о недостатке нескольких витаминов в организме человека и успокаивающее врачей, нашедших удобную и законную латинскую формулу для обозначения одного и того же – голода.
Если вспомнить неотапливаемые, сырые бараки, где во всех щелях изнутри намерзал толстый лед, будто какая-то огромная стеариновая свеча оплыла в углу барака… Плохая одежда и голодный паек, отморожения, а отморожение – это ведь мученье навек, если даже не прибегать к ампутациям. Если представить, сколько при этом должно было появиться и появлялось гриппа, воспаления легких, всяческих простуд и туберкулеза в болотистых этих горах, губительных для сердечника. Если вспомнить эпидемии саморубов-членовредителей. Если принять во внимание и огромную моральную подавленность, и безнадежность, то легко увидеть, насколько чистый воздух был опаснее для здоровья человека, чем тюрьма.
Поэтому нет нужды полемизировать с Достоевским насчет преимущества «работы» на каторге по сравнению с тюремным бездельем и достоинствами «чистого воздуха». Время Достоевского было другим временем, и каторга тогдашняя еще не дошла до тех высот, о которых здесь рассказано. Об этом заранее трудно составить верное представление, ибо все тамошнее слишком необычайно, невероятно, и бедный человеческий мозг просто не в силах представить в конкретных образах тамошнюю жизнь, о которой смутное, неуверенное понятие имел наш тюремный знакомый – татарский мулла.
1955
Первая смерть
Много я видел человеческих смертей на Севере – пожалуй, даже слишком много для одного человека, но первую виденную смерть я запомнил ярче всего.
Той зимой пришлось нам работать в ночной смене. Мы видели на черном небе маленькую светло-серую луну, окруженную радужным нимбом, зажигавшимся в большие морозы. Солнце мы не видели вовсе – мы приходили в бараки (не домой – домом их никто не называл) и уходили из них затемно. Впрочем, солнце показывалось так ненадолго, что не могло успеть даже разглядеть землю сквозь белую плотную марлю морозного тумана. Где находится солнце, мы определяли по догадке – ни света, ни тепла не было от него.
Ходить в забой было далеко – два-три километра, и путь лежал посреди двух огромных, трехсаженных снежных валов; нынешней зимой были большие снежные заносы, и после каждой метели прииск отгребался. Тысячи людей с лопатами выходили чистить эту дорогу, чтобы дать проход автомашинам. Всех, кто работал на расчистке пути, окружали сменным конвоем с собаками и целыми сутками держали на работе, не разрешая ни погреться, ни поесть в тепле. На лошадях привозили примороженные пайки хлеба, иногда, если работа затягивалась, консервы – по одной банке на двух человек. На тех же лошадях отвозили в лагерь больных и ослабевших. Людей отпускали только тогда, когда работа была сделана, с тем чтобы они могли выспаться и снова идти на мороз для своей «настоящей» работы. Я заметил тогда удивительную вещь – тяжело и мучительно трудно в такой многочасовой работе бывает только первые шесть-семь часов. После этого теряешь представление о времени, подсознательно следя только за тем, чтобы не замерзнуть: топчешься, машешь лопатой, не думая вовсе ни о чем, ни на что не надеясь.
Окончание этой работы бывает всегда неожиданностью, внезапным счастьем, на которое ты как будто никак и не смел рассчитывать. Все веселы, шумны, и на какое-то время будто нет ни голода, ни смертельной усталости. Наскоро построясь в ряды, все весело бегут «домой». А по бокам поднимаются валы огромной снеговой траншеи, валы, отрезающие нас от всего мира.
Метели давно уже не было, и пухлый снег осел, поплотнел и казался еще мощнее и тверже. По гребню вала можно было пройти не проваливаясь. Оба вала в нескольких местах были прорезаны перекрестной дорогой.
Часам к двум ночи мы приходили обедать, наполняя барак шумом намерзшихся людей, лязгом лопат, громким говором людей, вошедших с улицы, говором, который лишь постепенно стихает и глохнет, возвращаясь к обычной человеческой речи. Ночью обед был всегда в бараке, а не в мерзлой столовой с выбитыми стеклами, столовой, которую все ненавидели. После обеда те, у кого была махорка, закуривали, а тем, кто махорки не имел, товарищи оставляли покурить, и в общем выходило так, что «задохнуться» успевал каждый.
Наш бригадир, Коля Андреев, бывший директор МТС, а сущий заключенный, осужденный на десять лет по модной пятьдесят восьмой статье, ходил всегда впереди бригады и всегда быстро. Бригада наша была бесконвойная. Конвоя в те времена не хватало – этим и объяснялось доверие начальства. Однако сознание своей особенности, бесконвойности для многих было не последним делом, как это ни наивно. Бесконвойное хождение на работу всем по-серьезному нравилось, составляло предмет гордости и похвальбы. Бригада действительно и работала лучше, чем потом, когда конвоя стало достаточно и андреевская бригада была уравнена в правах со всеми остальными.
Нынешней ночью Андреев вел нас новой дорогой – не низом, а прямо по хребту снежного вала. Мы видели мерцанье золотых огней прииска, темную громаду леса влево и сливавшиеся с небом далекие вершины сопок. Впервые ночью мы видели свое жилье издали.
Дойдя до перекрестка, Андреев вдруг круто повернул вправо и сбежал вниз прямо по снегу. За ним, покорно повторяя его непонятные движения, посыпались гурьбой вниз люди, гремя ломами, кайлами, лопатами; инструмент никогда не оставляли на работе, там его крали, а за потерю инструмента грозил штраф.
В двух шагах от перекрестка дороги стоял человек в военной форме. Он был без шапки, короткие темные волосы его были взъерошены, пересыпаны снегом, шинель расстегнута. Еще дальше, заведенная прямо в глубокий снег, стояла лошадь, запряженная в легкие сани-кошевку.
А около ног этого человека лежала навзничь женщина. Шубка ее была распахнута, пестрое платье измято. Около головы ее валялась скомканная черная шаль. Шаль была втоптана в снег, так же как и светлые волосы женщины, казавшиеся почти белыми в лунном свете. Худенькое горло было открыто, и на шее справа и слева проступали овальные темные пятна. Лицо было белым, без кровинки, и, только вглядевшись, я узнал Анну Павловну, секретаршу начальника нашего прииска.
Мы все знали ее в лицо хорошо – на прииске женщин было очень мало. Месяцев шесть назад, летом, она проходила вечером мимо нашей бригады, и восхищенные взгляды арестантов провожали ее худенькую фигурку. Она улыбнулась нам и показала рукой на солнце, уже отяжелевшее, спускавшееся к закату.
– Скоро уже, ребята, скоро! – крикнула она.
Мы, как и лагерные лошади, весь рабочий день думали только о минуте его окончания. И то, что наши немудреные мысли были так хорошо поняты, и притом такой красивой, по нашим тогдашним понятиям, женщиной, растрогало нас. Анну Павловну наша бригада любила.
Сейчас она лежала перед нами мертвая, удавленная пальцами человека в военной форме, который растерянно и дико озирался вокруг. Его я знал гораздо лучше. Это был наш приисковый следователь Штеменко, который «дал дела» многим из заключенных. Он неутомимо допрашивал, нанимал за махорку или миску супа ложных свидетелей-клеветников, вербуя их из голодных заключенных. Некоторых он уверял в государственной необходимости лжи, некоторым угрожал, некоторых подкупал. Он не давал себе труда раньше ареста нового следственного познакомиться с ним, вызвать его к себе, хотя все жили на одном прииске. Готовые протоколы и побои ждали арестованного в следственном кабинете.
Штеменко был именно тот начальник, который при посещении нашего барака месяца три назад изломал все арестантские котелки, сделанные из консервных банок, – в них варили все, что можно сварить и съесть. В них носили обед из столовой, чтобы съесть его сидя и съесть горячим, разогрев в своем бараке на печке. Поборник чистоты и дисциплины, Штеменко потребовал кайло и собственноручно пробил днища консервных банок.
Сейчас он, заметив Андреева в двух шагах от себя, схватился за кобуру пистолета, но, увидев толпу людей, вооруженных ломами и кайлами, так и не вытащил оружия. Но ему уже крутили руки. Это делалось со страстью – узел затянули так, что веревку потом разрезать пришлось ножом.
Труп Анны Павловны положили в кошевку и двинулись в поселок, к дому начальника прииска. С Андреевым туда пошли не все – многие бросились скорей в барак, к супу.
Долго не отпирал начальник, разглядев сквозь стекло толпу арестантов, собравшихся у дверей его дома. Наконец Андрееву удалось объяснить, в чем дело, и он, вместе со связанным Штеменко и двумя заключенными, вошел в дом.
Обедали мы в эту ночь очень долго. Андреева водили куда-то давать показания. Но потом он пришел, скомандовал, и мы пошли на работу.
Штеменко вскоре осудили на десять лет за убийство из ревности. Наказание было минимальным. Судили его на нашем же прииске и после приговора куда-то увезли. Бывших лагерных начальников в таких случаях содержат где-то особо – никто никогда не встречал их в обыкновенных лагерях.
1956
Тетя Поля
Тетя Поля умерла в больнице от рака желудка в возрасте пятидесяти двух лет. Вскрытие подтвердило диагноз лечащего врача. Впрочем, в нашей больнице патологоанатомический диагноз редко расходился с клиническим – так бывает в самых лучших и самых плохих больницах.
Фамилию тети Поли знали только в конторе. Не помнила подлинной фамилии даже жена начальника, у которого тетя Поля семь лет была «дневальной», то есть прислугой.
Все знают, кто такой дневальный или дневальная, но не все знают, кем они могут быть. Доверенное лицо недоступного властителя тысяч человеческих судеб; свидетель его слабостей, его темных сторон. Человек, знающий теневые стороны дома. Раб, но и непременный участник подводной, подземной квартирной войны; участник или, по крайней мере, наблюдатель домашних сражений. Негласный арбитр в ссорах мужа и жены. Ведущий хозяйство семьи начальника, умножающий его богатство, и не только экономией и честностью. Один такой дневальный торговал в пользу начальника махорочными папиросами, продавая их заключенным по десять рублей папироса. Лагерная палата мер и весов установила, что в спичечную коробку входит махорки на восемь папирос, а восьмушка махорки состоит из восьми таких спичечных коробочек. Эти меры сыпучих тел действуют на 1/8 территории Советского Союза – во всей Восточной Сибири.
Наш дневальный выручал за каждую пачку махорки шестьсот сорок рублей. Но и эта цифра не была, как говорится, пределом. Можно было насыпать неполные коробочки – разница на взгляд почти незаметна, да и ссориться с дневальным начальника никто не захочет. Можно было вертеть более тонкие папиросы. Вся закрутка – дело рук и совести дневального. Наш дневальный скупал у начальника махорку по пятьсот рублей за пачку. Стосорокарублевая разница шла в карман дневального.
Хозяин тети Поли махоркой не торговал, и вообще никакими темными делами тете Поле у него заниматься не приходилось. Тетя Поля была великая стряпуха, а дневальные, сведущие в кулинарии, ценились особенно дорого. Тетя Поля могла взяться – и действительно бралась – устроить кого-либо из земляков-украинцев на легкую работу или включить в какой-нибудь список на освобождение. Помощь тети Поли своим землякам была весьма серьезной. Другим она не помогала, разве только советом.
Тетя Поля работала у начальника седьмой год и думала, что и все свои десять «рокив» проживет безбедно.
Тетя Поля была расчетливой бессребреницей и справедливо полагала, что ее равнодушие к подаркам, к деньгам не может не прийтись по душе любому начальнику. Расчеты ее оправдались. Она была своим человеком в семье начальника, и уже был намечен план ее освобождения – она должна была числиться грузчицей автомашины на прииске, где работал брат начальника, и прииск ходатайствовал бы о ее освобождении.
Но тетя Поля заболела, ей становилось все хуже, и ее отвезли в больницу. Главный врач распорядился, чтобы тете Поле отвели отдельную палату. Десять полутрупов вытащили в холодный коридор, чтобы освободить место дневальной начальника.
Больница оживилась. Ежедневно во второй половине дня приезжали «виллисы», приезжали грузовики; из кабин выходили дамы в тулупах, выходили военные – все стремились к тете Поле. И тетя Поля обещала каждому: если выздоровеет – замолвит словечко начальнику.
Каждое воскресенье лимузин ЗИС-110 въезжал в больничные ворота – тете Поле везли посылочку, записочку от жены начальника.
Тетя Поля отдавала все санитаркам, попробует ложечку и отдаст. Болезнь свою она знала.
Но выздороветь тетя Поля не могла. И вот однажды в больницу явился с запиской начальника необычайный посетитель – отец Пётр, как он назвал себя нарядчику. Оказывается, тетя Поля желала исповедаться.
Необычайный посетитель был Петька Абрамов. Его все знали. Он даже лежал в этой больнице несколько месяцев назад. А сейчас это был отец Пётр.
Визит преподобного взволновал всю больницу. Оказывается, в наших краях есть священники! И они исповедуют желающих! В самой большой палате больничной – палате номер два, где между обедом и ужином ежедневно рассказывался кем-либо из больных гастрономический рассказ, во всяком случае, не для улучшения аппетита, а из-за потребности голодного человека в возбуждении пищевых эмоций, – в этой палате говорили только об исповеди тети Поли.
Отец Пётр был в кепке, в бушлате. Ватные его брюки заправлены в кирзовые старенькие сапоги. Волосы были острижены коротко – для лица духовного звания гораздо короче, чем волосы стиляг пятидесятых годов. Отец Пётр расстегнул бушлат и телогрейку – стала видна голубая косоворотка и большой наперсный крест. Это был не простой крест, а распятие – только самодельное, выточенное умелой рукой, но без необходимых инструментов.
Отец Пётр исповедал тетю Полю и ушел. Он долго стоял на шоссе, поднимая руки, когда приближались грузовики. Две машины прошли не останавливаясь. Тогда отец Пётр вынул из-за пазухи готовую, свернутую папиросу, поднял ее над головой, и первая же машина затормозила, шофер гостеприимно открыл дверцу кабины.
Тетя Поля умерла, и похоронили ее на больничном кладбище. Это было большое кладбище под горой (вместо «умереть» больные говорили «попасть под сопку») с братскими могилами «А», «Б», «В» и «Г», несколькими хордообразными линиями могил-одиночек. Ни начальника, ни его супруги, ни отца Петра не было на похоронах тети Поли. Обряд похорон был обычным: нарядчик навязал на левую голень тети Поли деревянную бирку с номером. Это был номер личного дела. По инструкции номер должен быть написан простым черным карандашом, а отнюдь не химическим, как и на лесных топографических реперах-затесах.