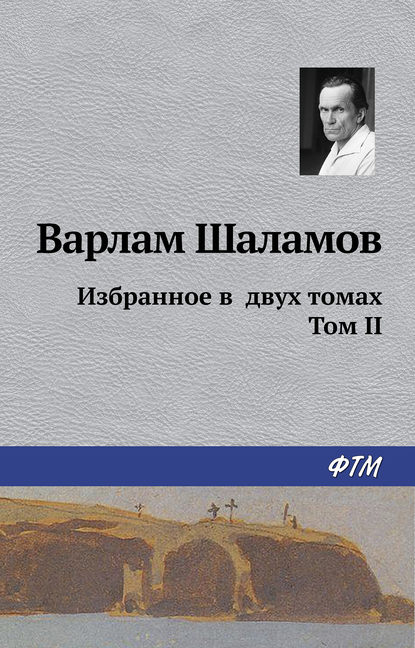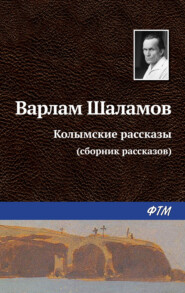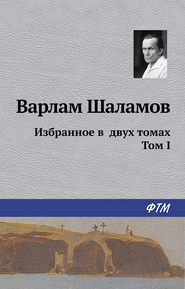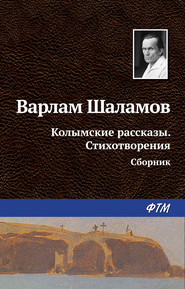По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Избранное в двух томах. Том II
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Трудно было писать, потому что мозг загрубел так же, как руки, потому что мозг кровоточил так же, как руки. Нужно было оживить, воскресить слова, которые уже ушли из моей жизни, и, как я считал, навсегда.
Я писал эту бумагу, потея и радуясь. В будке было жарко, и сразу же зашевелились, заползали по телу вши. Я боялся почесаться, чтобы не выгнали на мороз, как вшивого, боялся внушить отвращение своему спасителю.
К вечеру я написал жалобу Калинину. Зуев поблагодарил меня и сунул в руку пайку хлеба. Пайку надо было немедленно съесть, да и все, что можно съесть сразу, не надо откладывать до завтра, – этому я был обучен.
День уже кончался, – по часам десятников, ибо белая мгла была одинаковой и в полночь, и в полдень, – и нас повели домой.
Я спал и по-прежнему видел свой постоянный колымский сон – буханки хлеба, плывущие по воздуху, заполнившие все дома, все улицы, всю землю.
Утром я ждал встречи с Зуевым – может, закурить даст.
И Зуев пришел. Не таясь от бригады, от конвоя, он зарычал, вытаскивая меня из затишка на ветер:
– Ты обманул меня, сука!
Ночью он прочел заявление. Заявление ему не понравилось. Его соседи, десятники, тоже прочли и не одобрили заявления. Слишком сухо. Мало слез. Такое заявление и подавать бесполезно. Калинина не разжалобишь такой чепухой.
Я не мог, не мог выжать из своего иссушенного лагерем мозга ни одного лишнего слова. Не мог заглушить ненависть. Я не справился с работой, и не потому, что слишком велик был разрыв между волей и Колымой, не потому, что мозг мой устал, изнемог, а потому, что там, где хранились прилагательные восторженные, там не было ничего, кроме ненависти. Подумайте, как бедный Достоевский все десять лет своей солдатчины после Мертвого дома писал скорбные, слезные, унизительные, но трогающие душу начальства письма. Достоевский даже писал стихи императрице. В Мертвом доме не было Колымы. Достоевского постигла бы немота, та самая немота, которая не дала мне писать заявление Зуеву.
Я писал эту бумагу, потея и радуясь. В будке было жарко, и сразу же зашевелились, заползали по телу вши. Я боялся почесаться, чтобы не выгнали на мороз, как вшивого, боялся внушить отвращение своему спасителю.
К вечеру я написал жалобу Калинину. Зуев поблагодарил меня и сунул в руку пайку хлеба. Пайку надо было немедленно съесть, да и все, что можно съесть сразу, не надо откладывать до завтра, – этому я был обучен.
День уже кончался, – по часам десятников, ибо белая мгла была одинаковой и в полночь, и в полдень, – и нас повели домой.
Я спал и по-прежнему видел свой постоянный колымский сон – буханки хлеба, плывущие по воздуху, заполнившие все дома, все улицы, всю землю.
Утром я ждал встречи с Зуевым – может, закурить даст.
И Зуев пришел. Не таясь от бригады, от конвоя, он зарычал, вытаскивая меня из затишка на ветер:
– Ты обманул меня, сука!
Ночью он прочел заявление. Заявление ему не понравилось. Его соседи, десятники, тоже прочли и не одобрили заявления. Слишком сухо. Мало слез. Такое заявление и подавать бесполезно. Калинина не разжалобишь такой чепухой.
Я не мог, не мог выжать из своего иссушенного лагерем мозга ни одного лишнего слова. Не мог заглушить ненависть. Я не справился с работой, и не потому, что слишком велик был разрыв между волей и Колымой, не потому, что мозг мой устал, изнемог, а потому, что там, где хранились прилагательные восторженные, там не было ничего, кроме ненависти. Подумайте, как бедный Достоевский все десять лет своей солдатчины после Мертвого дома писал скорбные, слезные, унизительные, но трогающие душу начальства письма. Достоевский даже писал стихи императрице. В Мертвом доме не было Колымы. Достоевского постигла бы немота, та самая немота, которая не дала мне писать заявление Зуеву.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: