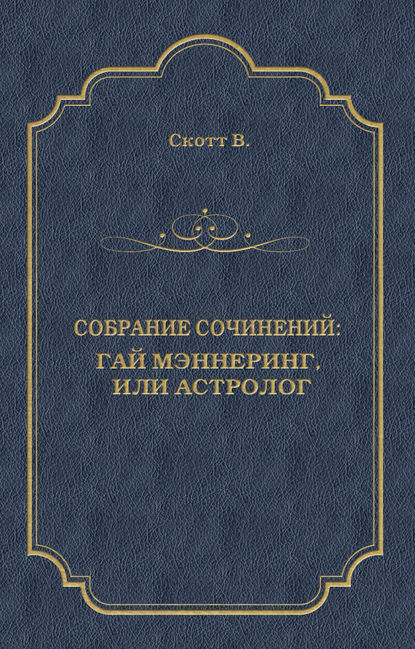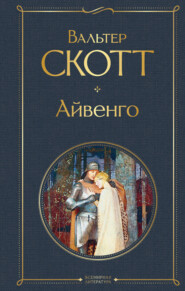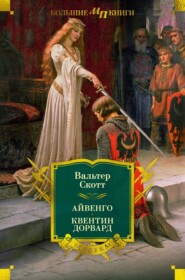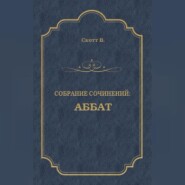По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Гай Мэннеринг, или Астролог
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
То тайный враг: сулит тебе беду
Звезды твоей сиянье – не дремли же!
Колридж[62 - Колридж Сэмюел Тейлор (1772–1834) – английский поэт и драматург, представитель романтической «Озерной школы».], из Шиллера
В середине семнадцатого века верование в астрологию было распространено повсеместно. К концу столетия престиж ее уже поколебался и многое стало ставиться под сомнение, а к началу восемнадцатого века к астрологии начали относиться с явным недоверием и даже с насмешкой. Но у нее все же было немало приверженцев, и даже среди ученых. Людям усидчивым и серьезным жаль было расставаться с вычислениями, которые были главным предметом их занятий с молодых лет; им не хотелось спускаться с той высоты, на которую воображаемая способность предсказывать судьбу по звездам возводила их над всеми остальными людьми.
В числе тех, кто с неослабной верой лелеял это мнимое преимущество, был и старый священник, которому юный Мэннеринг был отдан на воспитание. Не щадя глаз, он всматривался в звезды и переутомлял мозг, исчисляя их различные сочетания. Естественно, что это увлечение передалось и ученику. В течение некоторого времени он прилежно трудился, чтобы овладеть приемами астрологических вычислений, и, прежде чем он мог убедиться в их нелепости, сам Уильям Лили[63 - Лили Уильям (1602–1681) – английский астролог, автор книги «Введение в астрологию».] признал бы за ним «и редкостное воображение, и проницательность мысли во всем, что касалось составления гороскопов».
На другое утро, лишь только на осеннем небе забрезжил рассвет, Мэннеринг поднялся с постели и занялся составлением гороскопа юного наследника Элленгауэнов. Он взялся за это дело secundum artem[5 - По всем правилам (лат.).] отчасти для того, чтобы соблюсти приличия, отчасти просто из любопытства, чтобы проверить, помнит ли он и может ли еще применять все правила этой мнимой науки. И вот он начертил на бумаге звездное небо, разделив его на двенадцать домов, расположил в них планеты по таблице и внес поправки в соответствии с днем, часом и минутой рождения ребенка. Чтобы не докучать читателю теми предсказаниями, которые присяжные звездочеты извлекли бы из всех этих комбинаций, скажу только, что на чертеже был один знак, который сразу же приковал к себе внимание нашего астролога. Марс, господствуя над двенадцатым домом, угрожал новорожденному[64 - Марс, господствуя над двенадцатым домом, угрожал новорожденному… – Планету Марс, названную в честь римского бога войны, в астрологии обычно связывали с различными несчастьями.] ребенку пленом или внезапной насильственной смертью. Сделав дальнейшие вычисления, которыми, как утверждают прорицатели, можно проверить силу этого враждебного влияния, Мэннеринг нашел, что три периода жизни будут особенно опасны для новорожденного: пятый, десятый и двадцать первый годы его жизни.
Замечательнее всего было то, что Мэннеринг как-то раз уже занимался подобными пустяками по настоянию Софии Уэлвуд, молодой леди, в которую он был влюблен, и что точно такое же расположение планет угрожало и ей смертью или пленом на тридцать девятом году жизни. Девушке этой было тогда восемнадцать лет: таким образом, получалось, – если верить тем и этим вычислениям, – что один и тот же год грозил одинаковыми бедами ей и только что появившемуся на свет младенцу. Пораженный этим совпадением, Мэннеринг еще раз проверил свои вычисления с самого начала, и новый результат еще больше сблизил предсказанные события, так что в конце концов оказалось, что один и тот же месяц и день должны были стать роковыми для обоих.
Само собой разумеется, что, рассказывая об этом, мы не придаем никакого значения сведениям, полученным подобным способом. Но часто случается, – и такова уж свойственная нам любовь ко всему чудесному, – что мы сами охотно содействуем тому, чтобы подобного рода чувства одержали верх над рассудком. Было ли совпадение, о котором я рассказал, на самом деле одной из тех удивительных случайностей, которые иногда происходят наперекор всем человеческим расчетам, или Мэннеринг, заблудившись в лабиринте разных выкладок и путаных астрологических терминов, сам того не замечая, дважды ухватился за одну и ту же нить, чтобы выбраться из затруднительного положения, или, наконец, фантазия его, прельстившись внешним сходством отдельных черт, невольно восполнила это сходство и во всем остальном, – сейчас уже невозможно установить. Но так или иначе результаты полностью сошлись, и это его поразило.
Он не мог не удивляться столь странному и неожиданному совпадению. «Неужели же в это дело вмешался дьявол, чтобы отомстить нам за то, что мы обращаем в шутку науку, которая своим происхождением обязана колдовству? Или, может быть, как это допускают Бэкон и сэр Томас Браун, в строго и правильно понятой астрологии и на самом деле скрыта какая-то истина и не следует начисто отрицать влияние звезд на судьбу человека, хотя при всем этом и необходимо относиться крайне подозрительно к этой науке в тех случаях, когда она становится достоянием плутов, утверждающих, что они ее знают».
Поразмыслив, он отверг свое предположение как фантастическое и решил, что эти ученые пришли к подобному выводу только потому, что не решались сразу поколебать глубоко укоренившиеся предрассудки своего времени, или потому, что сами они не до конца освободились от заразительного влияния этого суеверия. Однако результат его выкладок произвел на него такое неприятное впечатление, что, подобно Просперо[65 - Просперо – герой драмы Шекспира «Буря», миланский герцог, живший в изгнании на острове со своей дочерью Мирандой. После счастливого завершения событий в своем последнем монологе Просперо отрекся от магии, искусством которой владел.], он мысленно простился со своим искусством и решил никогда больше ни в шутку, ни всерьез не браться за астрологию.
Он долго обдумывал, что теперь сказать лэрду Элленгауэну относительно гороскопа его первенца; в конце концов он решил прямо высказать ему все те выводы, которые он сделал, одновременно убедив его в неосновательности той науки, на которой они были основаны. Приняв это решение, он вышел на террасу.
Если пейзаж, открывавшийся вокруг замка Элленгауэнов, был хорош при лунном свете, то и под лучами восходящего солнца он не потерял своей красоты. Земля даже теперь, в ноябре, как будто улыбалась, обласканная солнцем. Крутые ступеньки вели с террасы наверх, на прилегающую возвышенность, и, поднявшись по ним, Мэннеринг очутился прямо перед старым замком. Замок этот состоял из двух массивных круглых башен, мрачные контуры которых выступали далеко вперед на обоих углах соединявшей их куртины, или крепостной стены; они прикрывали собою главный вход, открывавшийся в середине этой стены величественной аркой, которая вела во внутренний двор замка. Высеченный на камне родовой герб грозно нависал над воротами; у самого входа видны были следы приспособлений, некогда опускавших решетку и поднимавших мост. Грубые, деревенского вида ворота, сколоченные из молодых сосен, являлись теперь единственной защитой этой некогда неприступной твердыни. Вид с эспланады перед замком был великолепен.
Все унылые места, которые Мэннеринг проезжал накануне, были скрыты теперь за холмом, и расстилавшийся перед ним пейзаж радовал глаз сочетанием гор и долин с рекой, которая появлялась то тут, то там, а потом совсем исчезала, прячась между высокими берегами, покрытыми густым лесом. Шпиль церкви и несколько видневшихся поодаль домиков указывали, что на месте впадения реки в океан была расположена деревня. Поля были хорошо возделаны, разделявшие их низенькие изгороди окаймляли подножия холмов, иногда взбираясь на самые склоны их. Над ними расстилались зеленые пастбища, на которых паслись стада крупного рогатого скота, составлявшие главное богатство края в те времена; доносившееся издали мычание коров оживляло эту мертвую тишину. Чуть выше темнели еще более далекие холмы, а еще дальше, на горизонте, высились поросшие кустарником горы. Они служили естественным обрамлением для возделанных полей; отделяя их от остального мира, они накладывали на все окрестности печать отрадного уединения.
Морской берег, который был весь теперь на виду, красотой и разнообразием своих очертаний не уступал панораме холмов и гор. Местами его крутые утесы были увенчаны развалинами старинных зданий, башен или маяков, которые в прежнее время обычно располагались неподалеку друг от друга: таким образом, в случае вторжения врага или междоусобной войны можно было легко сообщить об этом сигналами и своевременно получить помощь. Замок Элленгауэн возвышался над всеми этими развалинами и своими огромными размерами и местоположением лишний раз подтверждал предание о том, что владельцы его были некогда первыми людьми среди всей окрестной знати. В других местах берег был более отлогим и весь был изрезан маленькими бухточками, а кое-где вдавался в море лесистыми мысами.
Картина эта, настолько непохожая на то, что предвещала вчерашняя дорога, произвела на Мэннеринга неизгладимое впечатление. Он видел перед собой вполне современный дом; в архитектурном отношении это было действительно довольно неуклюжее здание, но зато место было выбрано удачно – со всех сторон его окружала чудесная природа.
«Каким счастьем было бы жить в таком уединении! – подумалось нашему герою. – С одной стороны, поразительные остатки былого величия, словно сознающие, какое чувство родовой гордости они собой внушают; с другой – изящество и комфорт, которых вполне достаточно, чтобы удовлетворить не слишком требовательного человека. Быть бы здесь с тобою, София!..»
Но не будем больше подслушивать мечты влюбленного. Мэннеринг постоял так с минуту, скрестив на груди руки, а потом направился к развалинам замка.
Войдя в ворота, он увидел, что грубое великолепие внутреннего двора в полной мере соответствовало всему внешнему облику замка. С одной стороны тянулся ряд огромных высоких окон, разделенных каменными средниками; окна эти некогда освещали большой зал замка. С другой стороны – несколько зданий различной высоты. Построенные в разное время, они были расположены так, что со стороны фасада представлялись чем-то единым. Окна и двери были отделаны кружевной резьбой и грубыми изваяниями, частью уцелевшими, а частью уже обломанными, перевитыми плющом и другими вьющимися растениями, пышно разросшимися среди этих руин. Прямо напротив входа тоже некогда стояли какие-то замковые постройки, но эта часть замка больше всего подвергалась разрушениям; молва связывала их с длительной междоусобной войной, когда замок обстреливали с парламентских кораблей, которыми командовал Дин[66 - Дин Ричард (1610–1653) – сподвижник Кромвеля и английский адмирал. В феврале 1649 г. в числе трех комиссаров Долгого парламента Дин командовал флотом и в 1650 г. крейсировал в Северном море, чтобы воспрепятствовать сношениям Шотландии с Голландией. Погиб в сражении.]. Через пролом в стене Мэннерингу было видно море и небольшое судно, которое все еще продолжало стоять на середине залива[6 - В нашем описании эти развалины напоминают прекрасные руины Карлаверокского замка в шести-семи милях от графства Дамфриз, близ Лохар-мосс. (Примеч. авт.)]. В то время, когда Мэннеринг оглядывал развалины, он услышал откуда-то слева, из глубины дома, голос цыганки, виденной им накануне. Скоро он отыскал отверстие, сквозь которое он мог ее видеть, сам оставаясь незамеченным. И он невольно подумал, что весь ее облик, и поза, и работа, которой она занималась, делали ее похожей на древнюю сивиллу.
Она сидела на камне в углу комнаты, пол которой был вымощен. Вокруг было чисто подметено, чтобы ничто не мешало веретену кружиться. Яркий солнечный луч, проникая в комнату сквозь высокое узкое окно, падал на ее дикий наряд, на странные черты ее лица и на работу, от которой она ни на минуту не отрывалась. Остальная часть комнаты была погружена во мрак. Одежда ее представляла смесь чего-то восточного с национальным костюмом шотландской крестьянки. Она пряла нить из шерстяных волокон трех разных цветов: черного, белого и серого, пользуясь для этого ручным веретеном, которое сейчас почти уже вышло из употребления. Сидя за веретеном, она пела, и, по-видимому, это были какие-то заклинания. Мэннеринг, вначале тщетно старавшийся разобрать слова, попробовал потом в поэтической форме передать то, что ему удалось уловить из этой странной песни:
Вертись, кружись, веретено, –
Со счастьем горе сплетено;
С покоем – буря, страх с мечтой
Сольются в жизни начатой.
Чуть сердце детское забьется,
Как пряжа вещая прядется,
И роем сумрачных видений
Над колыбелью реют тени.
Безумств неистовых чреда,
И вслед за радостью – беда;
Тревог, сомнений и тягот
Несется страшный хоровод.
И тени мечутся вокруг,
То рвутся ввысь, то никнут вдруг.
Вертись, кружись, веретено, –
Со счастьем горе сплетено!
Прежде чем наш переводчик, или, лучше сказать, вольный подражатель, мысленно сложил эти строки и в то время как он все еще бормотал их про себя, отыскивая рифму к слову «веретено», работа сивиллы была окончена и вся шерсть выпрядена. Она взяла веретено, обмотанное теперь уже пряжей, и стала измерять длину нитки, перекидывая ее через локоть и натягивая между большим и указательным пальцами. Когда она измерила ее всю, она пробормотала: «Моток, да не целый; полных семьдесят лет, да только нить три раза порвана, три раза связывать надо; его счастье, если все три раза проскочит».
Герой наш уже собирался было заговорить с прорицательницей, как вдруг чей-то голос, такой же хриплый, как и ревевшие внизу и заглушавшие его волны, дважды прокричал, и каждый раз все нетерпеливее:
– Мег, Мег Меррилиз! Цыганка, ведьма, чертовка!
– Сейчас иду, капитан, – ответила Мег.
Но через несколько минут ее нетерпеливый хозяин явился к ней сам откуда-то из развалин замка.
По виду это был моряк, не очень высокий, с лицом, огрубевшим от бесчисленных встреч с норд-остом. Он был человеком удивительно крепкого, коренастого телосложения; казалось, что никакой рост не помог бы его противнику одолеть его в схватке. Черты его были грубы и, что еще того хуже, на лице его не было и следа того веселого добродушия, того беспечного любопытства ко всему окружающему, какие бывают у моряков во время их пребывания на суше. Качества эти, может быть, не меньше, чем все остальное, содействуют большой популярности наших моряков и хорошему отношению к ним, которое распространено у нас в обществе. Их отвага, смелость и стойкость – все это, вызывая к себе уважение, вместе с тем как будто даже несколько принижает в их присутствии мирных жителей суши. Но заслужить уважение людей отнюдь не то же самое, что завоевать их любовь, а чувство собственной приниженности тоже не очень-то располагает к этой любви. Зато разные мальчишеские выходки, безудержное веселье, неизменно хорошее расположение духа матроса, когда он отдыхает на берегу, смягчают собой все эти суровые черты его характера. Ничего этого не было в лице «капитана»; напротив, угрюмый и даже дикий взгляд омрачал его черты, которые и без того были неприятны и грубы.
– Где ты, чертова кукла? – сказал он с каким-то иностранным акцентом, хотя по-английски он говорил совершенно правильно. – Donner und Blitzen![7 - Гром и молния! (нем. ругательство.)] Мы ждем уже целых полчаса. Иди и благослови наш корабль на дорогу, а потом катись ко всем чертям!
В эту минуту он заметил Мэннеринга, который, чтобы подслушать заклинания Мег Меррилиз, так плотно прижался к выступу стены, что можно было подумать, что он от кого-то прячется. Капитан (так он себя именовал) замер от удивления и сразу же сунул руку за пазуху, как будто для того, чтобы достать оружие.
– А ты, братец, что тут делаешь? Небось подглядываешь?
Но, прежде чем Мэннеринг, озадаченный этим движением моряка и его наглым тоном, успел ответить, цыганка вышла из-под свода, где она сидела, и подошла к ним. Глядя на Мэннеринга, моряк спросил ее вполголоса:
– Ищейка, что ли?
Она отвечала ему так же тихо, на воровском наречии цыган:
– Заткни глотку, это господин из замка.
Мрачное лицо незнакомца прояснилось.
– Мое вам почтение, сэр. Я вижу, что вы гость моего друга мистера Бертрама; извините меня, я вас принял за другого.
– А вы, очевидно, капитан того корабля, который стоит в заливе?
– Ну да, сэр; я Дирк Хаттерайк, капитан люгера «Юнгфрау Хагенслапен», судна, которое здесь всем известно, и я не стыжусь ни имени своего, ни корабля, и уж если на то пошло, то и груза тоже.
– Для этого, наверно, и нет причины.
– Нет. Tausend Donner![8 - Тысяча громов! (нем.)] Я ведь здорово торгую, только что нагрузился там в Дугласе, на острове Мэн. Чистый коньяк, настоящий хи-чун и су-чонг[67 - Хи-чун и су-чонг – сорта китайского чая, зеленого и черного.], мехельнские кружева. Стоит вам только захотеть… Коньяк что надо. Целые сто бочек сегодня ночью выгрузили.
– Право же, я здесь только проездом, и мне ничего этого сейчас не нужно.
– Ну, в таком случае до свидания, потому что дело не ждет; или, может быть, поднимемся ко мне на корабль и хватим там глоток спиртного, да и чаю вы себе там полный мешок наберете. Дирк Хаттерайк умеет гостей принимать.
В человеке этом сочетались бесстыдство, грубость и подозрительность, и все это, вместе взятое, было отвратительно. Он вел себя как подлец, сознающий, что к нему относятся с недоверием, но старающийся заглушить в себе это сознание напускной развязностью. Мэннеринг сразу же отказался от его предложений, и тогда, буркнув: «Ну ладно, прощайте», Хаттерайк скрылся вместе с цыганкой среди развалин замка. Очень узенькая лестница вела оттуда прямо к морю и была устроена там, очевидно, для прохода войск во время осады. По ней-то и спустилась к морю эта достойная пара; приятная наружность сочеталась в каждом из них с не менее почтенным ремеслом. Человек, называвший себя капитаном, сел в небольшую лодку вместе с двумя какими-то людьми, которые, должно быть, его дожидались, а цыганка осталась на берегу и, отчаянно жестикулируя, что-то приговаривала или пела.
Звезды твоей сиянье – не дремли же!
Колридж[62 - Колридж Сэмюел Тейлор (1772–1834) – английский поэт и драматург, представитель романтической «Озерной школы».], из Шиллера
В середине семнадцатого века верование в астрологию было распространено повсеместно. К концу столетия престиж ее уже поколебался и многое стало ставиться под сомнение, а к началу восемнадцатого века к астрологии начали относиться с явным недоверием и даже с насмешкой. Но у нее все же было немало приверженцев, и даже среди ученых. Людям усидчивым и серьезным жаль было расставаться с вычислениями, которые были главным предметом их занятий с молодых лет; им не хотелось спускаться с той высоты, на которую воображаемая способность предсказывать судьбу по звездам возводила их над всеми остальными людьми.
В числе тех, кто с неослабной верой лелеял это мнимое преимущество, был и старый священник, которому юный Мэннеринг был отдан на воспитание. Не щадя глаз, он всматривался в звезды и переутомлял мозг, исчисляя их различные сочетания. Естественно, что это увлечение передалось и ученику. В течение некоторого времени он прилежно трудился, чтобы овладеть приемами астрологических вычислений, и, прежде чем он мог убедиться в их нелепости, сам Уильям Лили[63 - Лили Уильям (1602–1681) – английский астролог, автор книги «Введение в астрологию».] признал бы за ним «и редкостное воображение, и проницательность мысли во всем, что касалось составления гороскопов».
На другое утро, лишь только на осеннем небе забрезжил рассвет, Мэннеринг поднялся с постели и занялся составлением гороскопа юного наследника Элленгауэнов. Он взялся за это дело secundum artem[5 - По всем правилам (лат.).] отчасти для того, чтобы соблюсти приличия, отчасти просто из любопытства, чтобы проверить, помнит ли он и может ли еще применять все правила этой мнимой науки. И вот он начертил на бумаге звездное небо, разделив его на двенадцать домов, расположил в них планеты по таблице и внес поправки в соответствии с днем, часом и минутой рождения ребенка. Чтобы не докучать читателю теми предсказаниями, которые присяжные звездочеты извлекли бы из всех этих комбинаций, скажу только, что на чертеже был один знак, который сразу же приковал к себе внимание нашего астролога. Марс, господствуя над двенадцатым домом, угрожал новорожденному[64 - Марс, господствуя над двенадцатым домом, угрожал новорожденному… – Планету Марс, названную в честь римского бога войны, в астрологии обычно связывали с различными несчастьями.] ребенку пленом или внезапной насильственной смертью. Сделав дальнейшие вычисления, которыми, как утверждают прорицатели, можно проверить силу этого враждебного влияния, Мэннеринг нашел, что три периода жизни будут особенно опасны для новорожденного: пятый, десятый и двадцать первый годы его жизни.
Замечательнее всего было то, что Мэннеринг как-то раз уже занимался подобными пустяками по настоянию Софии Уэлвуд, молодой леди, в которую он был влюблен, и что точно такое же расположение планет угрожало и ей смертью или пленом на тридцать девятом году жизни. Девушке этой было тогда восемнадцать лет: таким образом, получалось, – если верить тем и этим вычислениям, – что один и тот же год грозил одинаковыми бедами ей и только что появившемуся на свет младенцу. Пораженный этим совпадением, Мэннеринг еще раз проверил свои вычисления с самого начала, и новый результат еще больше сблизил предсказанные события, так что в конце концов оказалось, что один и тот же месяц и день должны были стать роковыми для обоих.
Само собой разумеется, что, рассказывая об этом, мы не придаем никакого значения сведениям, полученным подобным способом. Но часто случается, – и такова уж свойственная нам любовь ко всему чудесному, – что мы сами охотно содействуем тому, чтобы подобного рода чувства одержали верх над рассудком. Было ли совпадение, о котором я рассказал, на самом деле одной из тех удивительных случайностей, которые иногда происходят наперекор всем человеческим расчетам, или Мэннеринг, заблудившись в лабиринте разных выкладок и путаных астрологических терминов, сам того не замечая, дважды ухватился за одну и ту же нить, чтобы выбраться из затруднительного положения, или, наконец, фантазия его, прельстившись внешним сходством отдельных черт, невольно восполнила это сходство и во всем остальном, – сейчас уже невозможно установить. Но так или иначе результаты полностью сошлись, и это его поразило.
Он не мог не удивляться столь странному и неожиданному совпадению. «Неужели же в это дело вмешался дьявол, чтобы отомстить нам за то, что мы обращаем в шутку науку, которая своим происхождением обязана колдовству? Или, может быть, как это допускают Бэкон и сэр Томас Браун, в строго и правильно понятой астрологии и на самом деле скрыта какая-то истина и не следует начисто отрицать влияние звезд на судьбу человека, хотя при всем этом и необходимо относиться крайне подозрительно к этой науке в тех случаях, когда она становится достоянием плутов, утверждающих, что они ее знают».
Поразмыслив, он отверг свое предположение как фантастическое и решил, что эти ученые пришли к подобному выводу только потому, что не решались сразу поколебать глубоко укоренившиеся предрассудки своего времени, или потому, что сами они не до конца освободились от заразительного влияния этого суеверия. Однако результат его выкладок произвел на него такое неприятное впечатление, что, подобно Просперо[65 - Просперо – герой драмы Шекспира «Буря», миланский герцог, живший в изгнании на острове со своей дочерью Мирандой. После счастливого завершения событий в своем последнем монологе Просперо отрекся от магии, искусством которой владел.], он мысленно простился со своим искусством и решил никогда больше ни в шутку, ни всерьез не браться за астрологию.
Он долго обдумывал, что теперь сказать лэрду Элленгауэну относительно гороскопа его первенца; в конце концов он решил прямо высказать ему все те выводы, которые он сделал, одновременно убедив его в неосновательности той науки, на которой они были основаны. Приняв это решение, он вышел на террасу.
Если пейзаж, открывавшийся вокруг замка Элленгауэнов, был хорош при лунном свете, то и под лучами восходящего солнца он не потерял своей красоты. Земля даже теперь, в ноябре, как будто улыбалась, обласканная солнцем. Крутые ступеньки вели с террасы наверх, на прилегающую возвышенность, и, поднявшись по ним, Мэннеринг очутился прямо перед старым замком. Замок этот состоял из двух массивных круглых башен, мрачные контуры которых выступали далеко вперед на обоих углах соединявшей их куртины, или крепостной стены; они прикрывали собою главный вход, открывавшийся в середине этой стены величественной аркой, которая вела во внутренний двор замка. Высеченный на камне родовой герб грозно нависал над воротами; у самого входа видны были следы приспособлений, некогда опускавших решетку и поднимавших мост. Грубые, деревенского вида ворота, сколоченные из молодых сосен, являлись теперь единственной защитой этой некогда неприступной твердыни. Вид с эспланады перед замком был великолепен.
Все унылые места, которые Мэннеринг проезжал накануне, были скрыты теперь за холмом, и расстилавшийся перед ним пейзаж радовал глаз сочетанием гор и долин с рекой, которая появлялась то тут, то там, а потом совсем исчезала, прячась между высокими берегами, покрытыми густым лесом. Шпиль церкви и несколько видневшихся поодаль домиков указывали, что на месте впадения реки в океан была расположена деревня. Поля были хорошо возделаны, разделявшие их низенькие изгороди окаймляли подножия холмов, иногда взбираясь на самые склоны их. Над ними расстилались зеленые пастбища, на которых паслись стада крупного рогатого скота, составлявшие главное богатство края в те времена; доносившееся издали мычание коров оживляло эту мертвую тишину. Чуть выше темнели еще более далекие холмы, а еще дальше, на горизонте, высились поросшие кустарником горы. Они служили естественным обрамлением для возделанных полей; отделяя их от остального мира, они накладывали на все окрестности печать отрадного уединения.
Морской берег, который был весь теперь на виду, красотой и разнообразием своих очертаний не уступал панораме холмов и гор. Местами его крутые утесы были увенчаны развалинами старинных зданий, башен или маяков, которые в прежнее время обычно располагались неподалеку друг от друга: таким образом, в случае вторжения врага или междоусобной войны можно было легко сообщить об этом сигналами и своевременно получить помощь. Замок Элленгауэн возвышался над всеми этими развалинами и своими огромными размерами и местоположением лишний раз подтверждал предание о том, что владельцы его были некогда первыми людьми среди всей окрестной знати. В других местах берег был более отлогим и весь был изрезан маленькими бухточками, а кое-где вдавался в море лесистыми мысами.
Картина эта, настолько непохожая на то, что предвещала вчерашняя дорога, произвела на Мэннеринга неизгладимое впечатление. Он видел перед собой вполне современный дом; в архитектурном отношении это было действительно довольно неуклюжее здание, но зато место было выбрано удачно – со всех сторон его окружала чудесная природа.
«Каким счастьем было бы жить в таком уединении! – подумалось нашему герою. – С одной стороны, поразительные остатки былого величия, словно сознающие, какое чувство родовой гордости они собой внушают; с другой – изящество и комфорт, которых вполне достаточно, чтобы удовлетворить не слишком требовательного человека. Быть бы здесь с тобою, София!..»
Но не будем больше подслушивать мечты влюбленного. Мэннеринг постоял так с минуту, скрестив на груди руки, а потом направился к развалинам замка.
Войдя в ворота, он увидел, что грубое великолепие внутреннего двора в полной мере соответствовало всему внешнему облику замка. С одной стороны тянулся ряд огромных высоких окон, разделенных каменными средниками; окна эти некогда освещали большой зал замка. С другой стороны – несколько зданий различной высоты. Построенные в разное время, они были расположены так, что со стороны фасада представлялись чем-то единым. Окна и двери были отделаны кружевной резьбой и грубыми изваяниями, частью уцелевшими, а частью уже обломанными, перевитыми плющом и другими вьющимися растениями, пышно разросшимися среди этих руин. Прямо напротив входа тоже некогда стояли какие-то замковые постройки, но эта часть замка больше всего подвергалась разрушениям; молва связывала их с длительной междоусобной войной, когда замок обстреливали с парламентских кораблей, которыми командовал Дин[66 - Дин Ричард (1610–1653) – сподвижник Кромвеля и английский адмирал. В феврале 1649 г. в числе трех комиссаров Долгого парламента Дин командовал флотом и в 1650 г. крейсировал в Северном море, чтобы воспрепятствовать сношениям Шотландии с Голландией. Погиб в сражении.]. Через пролом в стене Мэннерингу было видно море и небольшое судно, которое все еще продолжало стоять на середине залива[6 - В нашем описании эти развалины напоминают прекрасные руины Карлаверокского замка в шести-семи милях от графства Дамфриз, близ Лохар-мосс. (Примеч. авт.)]. В то время, когда Мэннеринг оглядывал развалины, он услышал откуда-то слева, из глубины дома, голос цыганки, виденной им накануне. Скоро он отыскал отверстие, сквозь которое он мог ее видеть, сам оставаясь незамеченным. И он невольно подумал, что весь ее облик, и поза, и работа, которой она занималась, делали ее похожей на древнюю сивиллу.
Она сидела на камне в углу комнаты, пол которой был вымощен. Вокруг было чисто подметено, чтобы ничто не мешало веретену кружиться. Яркий солнечный луч, проникая в комнату сквозь высокое узкое окно, падал на ее дикий наряд, на странные черты ее лица и на работу, от которой она ни на минуту не отрывалась. Остальная часть комнаты была погружена во мрак. Одежда ее представляла смесь чего-то восточного с национальным костюмом шотландской крестьянки. Она пряла нить из шерстяных волокон трех разных цветов: черного, белого и серого, пользуясь для этого ручным веретеном, которое сейчас почти уже вышло из употребления. Сидя за веретеном, она пела, и, по-видимому, это были какие-то заклинания. Мэннеринг, вначале тщетно старавшийся разобрать слова, попробовал потом в поэтической форме передать то, что ему удалось уловить из этой странной песни:
Вертись, кружись, веретено, –
Со счастьем горе сплетено;
С покоем – буря, страх с мечтой
Сольются в жизни начатой.
Чуть сердце детское забьется,
Как пряжа вещая прядется,
И роем сумрачных видений
Над колыбелью реют тени.
Безумств неистовых чреда,
И вслед за радостью – беда;
Тревог, сомнений и тягот
Несется страшный хоровод.
И тени мечутся вокруг,
То рвутся ввысь, то никнут вдруг.
Вертись, кружись, веретено, –
Со счастьем горе сплетено!
Прежде чем наш переводчик, или, лучше сказать, вольный подражатель, мысленно сложил эти строки и в то время как он все еще бормотал их про себя, отыскивая рифму к слову «веретено», работа сивиллы была окончена и вся шерсть выпрядена. Она взяла веретено, обмотанное теперь уже пряжей, и стала измерять длину нитки, перекидывая ее через локоть и натягивая между большим и указательным пальцами. Когда она измерила ее всю, она пробормотала: «Моток, да не целый; полных семьдесят лет, да только нить три раза порвана, три раза связывать надо; его счастье, если все три раза проскочит».
Герой наш уже собирался было заговорить с прорицательницей, как вдруг чей-то голос, такой же хриплый, как и ревевшие внизу и заглушавшие его волны, дважды прокричал, и каждый раз все нетерпеливее:
– Мег, Мег Меррилиз! Цыганка, ведьма, чертовка!
– Сейчас иду, капитан, – ответила Мег.
Но через несколько минут ее нетерпеливый хозяин явился к ней сам откуда-то из развалин замка.
По виду это был моряк, не очень высокий, с лицом, огрубевшим от бесчисленных встреч с норд-остом. Он был человеком удивительно крепкого, коренастого телосложения; казалось, что никакой рост не помог бы его противнику одолеть его в схватке. Черты его были грубы и, что еще того хуже, на лице его не было и следа того веселого добродушия, того беспечного любопытства ко всему окружающему, какие бывают у моряков во время их пребывания на суше. Качества эти, может быть, не меньше, чем все остальное, содействуют большой популярности наших моряков и хорошему отношению к ним, которое распространено у нас в обществе. Их отвага, смелость и стойкость – все это, вызывая к себе уважение, вместе с тем как будто даже несколько принижает в их присутствии мирных жителей суши. Но заслужить уважение людей отнюдь не то же самое, что завоевать их любовь, а чувство собственной приниженности тоже не очень-то располагает к этой любви. Зато разные мальчишеские выходки, безудержное веселье, неизменно хорошее расположение духа матроса, когда он отдыхает на берегу, смягчают собой все эти суровые черты его характера. Ничего этого не было в лице «капитана»; напротив, угрюмый и даже дикий взгляд омрачал его черты, которые и без того были неприятны и грубы.
– Где ты, чертова кукла? – сказал он с каким-то иностранным акцентом, хотя по-английски он говорил совершенно правильно. – Donner und Blitzen![7 - Гром и молния! (нем. ругательство.)] Мы ждем уже целых полчаса. Иди и благослови наш корабль на дорогу, а потом катись ко всем чертям!
В эту минуту он заметил Мэннеринга, который, чтобы подслушать заклинания Мег Меррилиз, так плотно прижался к выступу стены, что можно было подумать, что он от кого-то прячется. Капитан (так он себя именовал) замер от удивления и сразу же сунул руку за пазуху, как будто для того, чтобы достать оружие.
– А ты, братец, что тут делаешь? Небось подглядываешь?
Но, прежде чем Мэннеринг, озадаченный этим движением моряка и его наглым тоном, успел ответить, цыганка вышла из-под свода, где она сидела, и подошла к ним. Глядя на Мэннеринга, моряк спросил ее вполголоса:
– Ищейка, что ли?
Она отвечала ему так же тихо, на воровском наречии цыган:
– Заткни глотку, это господин из замка.
Мрачное лицо незнакомца прояснилось.
– Мое вам почтение, сэр. Я вижу, что вы гость моего друга мистера Бертрама; извините меня, я вас принял за другого.
– А вы, очевидно, капитан того корабля, который стоит в заливе?
– Ну да, сэр; я Дирк Хаттерайк, капитан люгера «Юнгфрау Хагенслапен», судна, которое здесь всем известно, и я не стыжусь ни имени своего, ни корабля, и уж если на то пошло, то и груза тоже.
– Для этого, наверно, и нет причины.
– Нет. Tausend Donner![8 - Тысяча громов! (нем.)] Я ведь здорово торгую, только что нагрузился там в Дугласе, на острове Мэн. Чистый коньяк, настоящий хи-чун и су-чонг[67 - Хи-чун и су-чонг – сорта китайского чая, зеленого и черного.], мехельнские кружева. Стоит вам только захотеть… Коньяк что надо. Целые сто бочек сегодня ночью выгрузили.
– Право же, я здесь только проездом, и мне ничего этого сейчас не нужно.
– Ну, в таком случае до свидания, потому что дело не ждет; или, может быть, поднимемся ко мне на корабль и хватим там глоток спиртного, да и чаю вы себе там полный мешок наберете. Дирк Хаттерайк умеет гостей принимать.
В человеке этом сочетались бесстыдство, грубость и подозрительность, и все это, вместе взятое, было отвратительно. Он вел себя как подлец, сознающий, что к нему относятся с недоверием, но старающийся заглушить в себе это сознание напускной развязностью. Мэннеринг сразу же отказался от его предложений, и тогда, буркнув: «Ну ладно, прощайте», Хаттерайк скрылся вместе с цыганкой среди развалин замка. Очень узенькая лестница вела оттуда прямо к морю и была устроена там, очевидно, для прохода войск во время осады. По ней-то и спустилась к морю эта достойная пара; приятная наружность сочеталась в каждом из них с не менее почтенным ремеслом. Человек, называвший себя капитаном, сел в небольшую лодку вместе с двумя какими-то людьми, которые, должно быть, его дожидались, а цыганка осталась на берегу и, отчаянно жестикулируя, что-то приговаривала или пела.