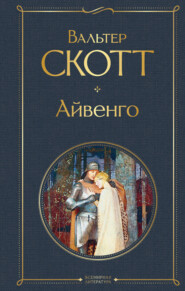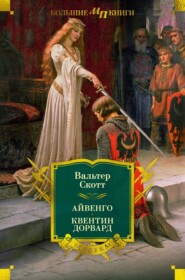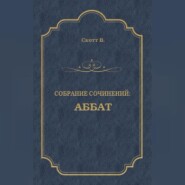По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Черный Карлик. Легенда о Монтрозе (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Не пугайтесь, когда я его назову, – молвил Ратклифф, подходя к ней ближе и понижая голос. – Это тот, кого зовут Элшендер, пустынник на Меклстон-муре.
– Вы с ума сошли, мистер Ратклифф, или вздумали еще насмехаться надо мной в столь тяжкую минуту? Мне не до шуток!
– Я настолько же в своем уме, как и вы, сударыня, – отвечал благожелательный советчик. – Я и сам шутить не люблю, а насмехаться и того меньше, особенно над вашим горем. Я могу лишь поклясться вам, что этот человек, представляющийся далеко не тем, каков он на самом деле, действительно обладает средством избавить вас от этого ненавистного брака.
– И все-таки спасти моего отца?
– Да, он даже и это может, – сказал Ратклифф, – если вы сами его об этом попросите. Весь вопрос в том, как добиться свидания с ним?
– Об этом не беспокойтесь, – сказала мисс Вэр, внезапно вспомнив о подаренной ей розе. – Я припоминаю, что он сам велел мне прибегнуть к нему в минуту крайности и дал мне вот этот цветок в залог того, что окажет мне помощь. Он сказал, что цветок не успеет высохнуть, как я буду нуждаться в его содействии. Может ли быть, чтобы эти слова имели настоящий, разумный смысл? Я приняла их за бред помешанного.
– Не сомневайтесь в их разумности и не бойтесь его. Но пуще всего не теряйте времени понапрасну. Свободны ли вы? Никто за вами не следит?
– Никто, я думаю, – сказала Изабелла, – но что же вы хотите, чтобы я делала?
– Уйдите из замка сию же минуту, – сказал Ратклифф, – и падите к ногам того необыкновенного человека, который, при всей видимой бедности и убогости своей обстановки, тем не менее может оказать самое решительное влияние на вашу судьбу. В эту минуту и гости и слуги бражничают, главные руководители восстания заседают особо и совещаются о мерах выполнения своих изменнических замыслов. Моя лошадь стоит оседланная в конюшне. Сейчас я оседлаю другую, для вас, и буду ждать вас у малой садовой калитки. О, не сомневайтесь в моем благоразумии и преданности вам, верьте, что это единственный для вас способ избавиться от ужасающей судьбы, которая неминуемо ждет жену сэра Фредерика Лэнгли!
– Мистер Ратклифф, – сказала мисс Вэр, – вы всегда имели репутацию честного и благородного человека, а утопающий хватается и за соломинку… Я доверяюсь вам, я последую вашему совету и… и выйду в сад, к маленькой калитке.
Как только мистер Ратклифф вышел из комнаты, она заперла дверь на задвижку, а сама вышла через другой ход, ведший из ее спальни прямо на лестницу, и спустилась в сад.
По пути она почувствовала сильное искушение воротиться назад и не соглашаться на такой отчаянный и необыкновенный поступок. Но, проходя мимо двери, ведшей с заднего крыльца в капеллу, она услышала голоса служанок, занятых там чисткой и убранством.
– Замуж выдают, как же! Да за кого выдают-то! Ну уж, нечего сказать! Хуже-то не нашли?
– За кого угодно, только бы не за этого!
«Они правы, вполне правы, – подумала мисс Вэр, – только бы не за этого».
И она бегом побежала через сад. Мистер Ратклифф, верный своему обещанию, ожидал ее у калитки с двумя оседланными лошадьми, и через несколько минут они скакали по направлению к хижине пустынника.
Пока дорога была ровная, они ехали с такой быстротой, что разговаривать было неудобно, но когда пришлось подниматься на крутую гору и лошади пошли тише, в уме Изабеллы возникли новые опасения.
– Мистер Ратклифф, – сказала она, придерживая лошадь, – я думаю, лучше мне не продолжать путь; эту поездку предприняла я только потому, что сильно была расстроена и не могла обсудить своих поступков. Между тем мне известно, что народ приписывает этому человеку сверхъестественное могущество, основанное будто бы на том, что он находится в сношениях с невидимым миром; я должна предупредить вас, что не верю этим глупостям, а если бы и поверила, то мои религиозные правила воспрещают мне обращаться за помощью к существу этого сорта.
– Я полагал, мисс Вэр, что мой образ мыслей и личный характер вам достаточно известны, и что поэтому вы могли бы знать, что я не способен верить в подобные нелепости.
– Но чем же объяснить, – продолжала Изабелла, – что существо, до такой степени жалкое и неимущее, обладает возможностью спасти меня?
– Мисс Вэр, – сказал Ратклифф после минутного раздумья, – я не могу объяснить вам этого, потому что дал торжественную клятву молчать. Не требуйте объяснений, но верьте мне, верьте, что у него есть такая власть, он может вас спасти, если только захочет. А это, я твердо уверен, вполне зависит от вас самих.
– Но вы и сами можете ошибаться, мистер Ратклифф, – сказала мисс Вэр, – а от меня требуете безусловного, слепого доверия.
– Вспомните, мисс Вэр, – возразил он, – что, когда вы, по своему милосердию, просили меня вступиться перед вашим отцом за Хэсуэла и его разоренную семью, вы меня побуждали заставить его сделать нечто такое, что более всего на свете претит вашему родителю, а именно – простить обиду и освободить от штрафа. В то время я поставил условием успеха, чтобы вы не спрашивали, какими путями я его добьюсь. И вы не имели причин раскаиваться в том, что согласились тогда на это условие! Доверьтесь же мне и теперь.
– Но почему же этот человек ведет такой странный образ жизни? – сказала мисс Вэр. – Его одиночество, его внешность, та глубокая мизантропия, которая проглядывает в его речах… Мистер Ратклифф, что же я должна думать о нем, если он действительно обладает тем могуществом, которое вы ему приписываете?
– Сударыня, он воспитан в католической религии, а в этой секте, как вам известно, бывали тысячи примеров, что люди отказывались от богатства и власти и добровольно вели жизнь еще более суровую и тяжкую, чем он.
– Но он, кажется, не проявляет никаких религиозных побуждений! – возразила мисс Вэр.
– Нет, – отвечал Ратклифф, – отвращение к миру заставило его удалиться в эту пустыню, не прикрываясь личиной суеверия. Я могу сказать вам, по крайней мере, что он родился от очень богатых родителей, которые вздумали еще увеличить его состояние, женив его на богатейшей девушке, их родственнице, которую они с этой целью приняли к себе в дом и сами воспитали. Вы его видели, стало быть, можете судить, что могла думать эта молодая девушка об ожидавшей ее судьбе. Впрочем, она настолько привыкла к его наружности, что не выказывала отвращения, и его друзья не сомневались, что его страстная к ней привязанность, изящно образованный ум и многие другие любезные качества его души и характера помогут нареченной невесте превозмочь тот естественный ужас, который могло внушать ей его несомненное физическое безобразие.
– И что же, оправдались их ожидания? – спросила Изабелла.
– Сейчас узнаете. Сам он в полной мере сознавал свое уродство, и это сознание мучило его постоянно. «Что ни говорите, – отвечал он, бывало, одному доверенному лицу, – а я жалкое отребье человечества, и лучше было меня задушить в колыбели, чем выпустить на свет Божий пугать добрых людей». Его собеседник тщетно старался внушить ему равнодушное отношение к внешней оболочке вещей, преподавал ему заветы чистой философии или же напоминал о том, что развитие ума и души несравненно выше личной привлекательности и наружных прелестей. «Да, я слышу, что вы говорите, – отвечал он, – но таков голос хладнокровного философа или же пристрастного друга. Возьмите любую из прочитанных нами книг, исключая, конечно, те умозрительно-философские сочинения, которые не находят отголоска в наших естественных чувствах. Разве внешняя красота или, по крайней мере, сносная наружность, не пробуждающая ужаса, не представлена везде существенным условием симпатии, и не только в любви, но даже и в дружбе? Разве такой безобразный урод, как я, самой природой не устранен от участия в ее лучших радостях? Что, как не мое богатство, препятствует всем, в том числе, быть может, даже и Легации, и вам самим, отшатнуться от меня, как от существа, чуждого вашей природе, и тем более омерзительного, что имеет все-таки что-то общее с человеком, подобно тем породам зверей, которые особенно противны людям, потому что представляются как бы карикатурами их самих».
– Все это мысли, свойственные сумасшедшему, – сказала мисс Вэр.
– Нет, – отвечал ее спутник, – это было лишь следствием болезненной чувствительности и обостренного сознания своего положения, а не безумием. Впрочем, я должен допустить, что постоянное размышление об этих предметах и тягостные опасения с течением времени расстроили его рассудок. Он вообразил, что для него обязательно сорить деньгами, оказывать услуги и благодеяния направо и налево, не разбирая ни поводов, ни степени нужды тех, кто к нему обращался, лишь бы своей щедростью примирить с собой человечество, от которого он считал себя отчужденным самой природой. Будучи по натуре чрезвычайно добрым человеком, он творил добро с преувеличенной щедростью, подстрекаемый к тому тем соображением, что от него люди вправе ожидать большего, чем от других, точно будто ему хотелось подкупить людей, чтобы они и в нем признали человека. Нечего и говорить, что многие злоупотребляли щедротами, изливавшимися из такого беспорядочного источника, и его часто обманывали. Каждый из нас, в большей или меньшей степени, испытывал в жизни подобные разочарования, а особенно часто они случаются с теми, кто расточает благодеяния без разбора; но его больное воображение приписало такие случаи людской ненависти и тому презрению, какое возбуждала во всех его ужасающая наружность. Но я наскучил вам, мисс Вэр?
– Нет-нет, нисколько, только я… я немного задумалась о другом. Пожалуйста, продолжайте!
– Наконец, – продолжал Ратклифф, – он сделался самым изобретательным мучителем собственной особы, какого можно себе вообразить. Насмешки простолюдинов, а тем паче издевательства грубых натур из высшего сословия, были для него худшими из пыток. Когда, проходя по улице, он замечал, что на него глазеют и смеются, или, еще того хуже, – сдержанно хихикают, но особенно если молодые девушки, которым его представляли в обществе, смотрели на него с ужасом, – он считал, что это и есть настоящее отношение к нему света, что на него взирают, как на чудище, недостойное вращаться среди людей, и что, следовательно, он поступит вполне разумно, если окончательно запрется в четырех стенах. Казалось, что он вполне доверял искренности и привязанности только двух лиц, а именно: своей нареченной невесты и одного друга, человека, одаренного многими привлекательными качествами и, как казалось, действительно ему преданного. Впрочем, иначе и быть не могло, так как этот друг был буквально осыпан благодеяниями со стороны человека, к которому вы теперь едете. Между тем родители его умерли один за другим, в самое короткое время. Их кончина заставила отложить свадьбу, а день уже был назначен. Невеста, по-видимому, не очень горевала по поводу этой отсрочки, да и трудно было ожидать, чтобы она горевала от этого. Однако она не заявила никакой перемены в своих намерениях, когда по прошествии срока траура опять назначили день свадьбы. Друг, упомянутый мной, в то время постоянно гостил у них в замке.
В недобрый час, по настоятельной просьбе этого друга, они вместе отправились в один дом, где собрались гости различных политических направлений, и там пили очень много. Произошла крупная ссора; друг теперешнего отшельника обнажил шпагу, как и другие, но был сбит с ног и обезоружен более сильным противником. Во время борьбы оба они упали у ног отшельника, который, хоть и калека, но обладает замечательной физической силой и одарен весьма сильными страстями. Он выхватил чью-то шпагу и пронзил сердце того, кто победил его друга. Его судили, едва не приговорили к смертной казни и лишь с большим трудом выхлопотали ему более мягкое наказание, а именно – одиночное заключение на год в тюрьме за убийство. Этот случай произвел на него глубочайшее впечатление, тем более что убитый им был превосходный человек и только потому обнажил оружие, что получил грубое и незаслуженное оскорбление. С той минуты я заметил… Извините, я не то хотел сказать. С тех пор припадки болезненной подозрительности, так сильно мучившие несчастного карлика, стали повторяться все чаще и усложнялись еще угрызениями совести, которые были для него совершенно новым и неожиданным терзанием, так что под влиянием их он был часто вне себя от лютого отчаяния. Этих припадков нельзя было скрыть от особы, с которой он был помолвлен, и надо сознаться, что они были поистине страшны. Он утешал себя только тем, что, отбыв срок тюремного заключения, женится и в обществе своей жены и верного друга будет жить в тесном домашнем кругу, совершенно отказавшись от остального мира. Но он и в этом ошибся: прежде чем он вышел из тюрьмы, его невеста вышла замуж за его друга.
Невозможно описать, как этот тяжкий удар подействовал на человека с горячим темпераментом, с характером, омраченным горьким раскаянием, с воображением и без того уже пораженным недоверием к человечеству. Он был похож на корабль, потерявший последние снасти и предоставленный на произвол бушующим стихиям. Его поместили в приют для умалишенных. Это могло быть довольно разумной мерой, если бы его оставили там лишь на время лечения. Но жестокосердый друг, вследствие женитьбы на его кузине ставший его ближайшим родственником, нарочно продлил его заточение, чтобы пользоваться доходами с его огромных поместий. Но был еще один человек, всем обязанный этому страдальцу, – человек незнатного происхождения, но признательный и преданный. Он до тех пор хлопотал и осаждал своими просьбами представителей правосудия, что ему удалось наконец добиться освобождения своего бывшего патрона и возвращения ему прав управлять своими имениями; вскоре после того состояние карлика еще увеличилось по случаю кончины бывшей его невесты, которая умерла, не оставив мужского потомства, а потому все ее имущество перешло по наследству ему же. Но ни свобода, ни богатство не могли воротить ему уравновешенного рассудка: горе сделало его равнодушным к свободе, а богатство послужило лишь к тому, что он получил способ к удовлетворению своих странных и неожиданных фантазий. Он отрекся от католической религии, но некоторые доктрины этого вероучения продолжали оказывать влияние на его ум, всецело охваченный теперь угрызениями совести и ненавистью к человеческому роду. С тех пор он вел жизнь то паломника, то отшельника, подвергая себя самым суровым лишениям, но вовсе не из религиозного аскетизма, а единственно по отвращению к людскому обществу. Но никогда речи и поступки человека не были в большем противоречии между собой, ни один негодный лицемер не проявлял большего искусства в прикрывании своих злодеяний благими намерениями, чем этот несчастный, употреблявший все усилия на согласование своих крайних мизантропических теорий с таким образом действий, который проистекал прямо от его природной доброты и наклонности к благодеяниям.
– Все-таки, мистер Ратклифф, все, что вы рассказываете, есть, по-моему, доказательство того, что он помешанный.
– Нисколько, – возразил Ратклифф, – воображение у него расстроенное, это не подлежит сомнению; и я уже говорил вам, что по временам на него находят припадки буйной вспыльчивости. Но я разумею то, каков он в своем обычном состоянии: он рассуждает неправильно, но вполне способен рассуждать, а это так же отличается от настоящего сумасшествия, как полдень от полуночи. Тот карьерист, который тратит все свое состояние для достижения громкого, но ни к чему не ведущего титула, тот честолюбец, который добивается власти и могущества, не умея ими пользоваться, тот скупец, накопляющий несметные и бесполезные богатства, и тот расточитель, который сорит ими и проживает их бесследно, – все они, и каждый в своем роде, до некоторой степени помешанные. То же понятие приложимо и к преступникам, совершающим чудовищные деяния под влиянием таких пустячных стимулов, которые в глазах здравомыслящих людей несоразмерны ни с ужасами самого действия, ни с вероятием изобличения и кары; так что каждую сильную страсть и всякий приступ буйного гнева можно рассматривать как период краткого безумия.
– Все это хорошо с точки зрения отвлеченной философии, мистер Ратклифф, – отвечала мисс Вэр, – но простите, если я вам замечу, что это звучит вовсе не ободряюще для меня лично, и что я боюсь, особенно в такой поздний час, отправляться к человеку, у которого вы сами признаете расстроенное воображение, хоть и стараетесь объяснить его как можно мягче.
– Поверьте же мне на слово, – сказал Ратклифф, – клянусь вам, что он для вас нисколько не опасен. Но вот чего я до сих пор не говорил вам, из опасения встревожить вас заранее, а теперь должен сказать, потому что мы в виду его жилища. Вон я могу уж различить его в полутьме… Дело в том, что я с вами дальше не поеду, вы должны продолжать путь одни.
– Одна? Но я не смею…
– Это необходимо, – продолжал Ратклифф, – я останусь здесь и буду ждать вас.
– Так, по крайней мере, не трогайтесь с этого места, – сказала мисс Вэр, – однако ведь это очень далеко… вы, пожалуй, не услышите, если я буду кричать о помощи?
– Не бойтесь ничего, – сказал ее проводник, – употребите все старания, чтобы, по крайней мере, не обнаруживать вашей робости. Не забывайте, что его преобладающее и самое мучительное опасение именно в том и состоит, что он считает себя пугалом и сознает, что производит отталкивающее впечатление. Ваш путь пролегает прямо мимо той обвалившейся ветлы: тропинка идет по левую руку от нее, а вправо – болото. До свиданья, поезжайте! Вспомните об угрожающей вам судьбе, это должно пересилить и страх ваш, и колебания.
– Мистер Ратклифф, – сказала Изабелла, – до свиданья. Если вы обманули такую несчастную, как я, то вы навеки утратили право на репутацию честного человека, благородству которого я вверяю себя.
– Ручаюсь вам жизнью, душой своей, – продолжал Ратклифф, усиливая голос, по мере того как она отъезжала все дальше, – вы ничем не рискуете, решительно ничем!
Глава XVI
…Время и печали
Свою печать на эту душу клали;
Но если время нужною рукой
Ему воздаст за прежние страданья,
Смягчится в нем и боль воспоминанья
И возвратит душе его покой.
Старинная баллада
– Вы с ума сошли, мистер Ратклифф, или вздумали еще насмехаться надо мной в столь тяжкую минуту? Мне не до шуток!
– Я настолько же в своем уме, как и вы, сударыня, – отвечал благожелательный советчик. – Я и сам шутить не люблю, а насмехаться и того меньше, особенно над вашим горем. Я могу лишь поклясться вам, что этот человек, представляющийся далеко не тем, каков он на самом деле, действительно обладает средством избавить вас от этого ненавистного брака.
– И все-таки спасти моего отца?
– Да, он даже и это может, – сказал Ратклифф, – если вы сами его об этом попросите. Весь вопрос в том, как добиться свидания с ним?
– Об этом не беспокойтесь, – сказала мисс Вэр, внезапно вспомнив о подаренной ей розе. – Я припоминаю, что он сам велел мне прибегнуть к нему в минуту крайности и дал мне вот этот цветок в залог того, что окажет мне помощь. Он сказал, что цветок не успеет высохнуть, как я буду нуждаться в его содействии. Может ли быть, чтобы эти слова имели настоящий, разумный смысл? Я приняла их за бред помешанного.
– Не сомневайтесь в их разумности и не бойтесь его. Но пуще всего не теряйте времени понапрасну. Свободны ли вы? Никто за вами не следит?
– Никто, я думаю, – сказала Изабелла, – но что же вы хотите, чтобы я делала?
– Уйдите из замка сию же минуту, – сказал Ратклифф, – и падите к ногам того необыкновенного человека, который, при всей видимой бедности и убогости своей обстановки, тем не менее может оказать самое решительное влияние на вашу судьбу. В эту минуту и гости и слуги бражничают, главные руководители восстания заседают особо и совещаются о мерах выполнения своих изменнических замыслов. Моя лошадь стоит оседланная в конюшне. Сейчас я оседлаю другую, для вас, и буду ждать вас у малой садовой калитки. О, не сомневайтесь в моем благоразумии и преданности вам, верьте, что это единственный для вас способ избавиться от ужасающей судьбы, которая неминуемо ждет жену сэра Фредерика Лэнгли!
– Мистер Ратклифф, – сказала мисс Вэр, – вы всегда имели репутацию честного и благородного человека, а утопающий хватается и за соломинку… Я доверяюсь вам, я последую вашему совету и… и выйду в сад, к маленькой калитке.
Как только мистер Ратклифф вышел из комнаты, она заперла дверь на задвижку, а сама вышла через другой ход, ведший из ее спальни прямо на лестницу, и спустилась в сад.
По пути она почувствовала сильное искушение воротиться назад и не соглашаться на такой отчаянный и необыкновенный поступок. Но, проходя мимо двери, ведшей с заднего крыльца в капеллу, она услышала голоса служанок, занятых там чисткой и убранством.
– Замуж выдают, как же! Да за кого выдают-то! Ну уж, нечего сказать! Хуже-то не нашли?
– За кого угодно, только бы не за этого!
«Они правы, вполне правы, – подумала мисс Вэр, – только бы не за этого».
И она бегом побежала через сад. Мистер Ратклифф, верный своему обещанию, ожидал ее у калитки с двумя оседланными лошадьми, и через несколько минут они скакали по направлению к хижине пустынника.
Пока дорога была ровная, они ехали с такой быстротой, что разговаривать было неудобно, но когда пришлось подниматься на крутую гору и лошади пошли тише, в уме Изабеллы возникли новые опасения.
– Мистер Ратклифф, – сказала она, придерживая лошадь, – я думаю, лучше мне не продолжать путь; эту поездку предприняла я только потому, что сильно была расстроена и не могла обсудить своих поступков. Между тем мне известно, что народ приписывает этому человеку сверхъестественное могущество, основанное будто бы на том, что он находится в сношениях с невидимым миром; я должна предупредить вас, что не верю этим глупостям, а если бы и поверила, то мои религиозные правила воспрещают мне обращаться за помощью к существу этого сорта.
– Я полагал, мисс Вэр, что мой образ мыслей и личный характер вам достаточно известны, и что поэтому вы могли бы знать, что я не способен верить в подобные нелепости.
– Но чем же объяснить, – продолжала Изабелла, – что существо, до такой степени жалкое и неимущее, обладает возможностью спасти меня?
– Мисс Вэр, – сказал Ратклифф после минутного раздумья, – я не могу объяснить вам этого, потому что дал торжественную клятву молчать. Не требуйте объяснений, но верьте мне, верьте, что у него есть такая власть, он может вас спасти, если только захочет. А это, я твердо уверен, вполне зависит от вас самих.
– Но вы и сами можете ошибаться, мистер Ратклифф, – сказала мисс Вэр, – а от меня требуете безусловного, слепого доверия.
– Вспомните, мисс Вэр, – возразил он, – что, когда вы, по своему милосердию, просили меня вступиться перед вашим отцом за Хэсуэла и его разоренную семью, вы меня побуждали заставить его сделать нечто такое, что более всего на свете претит вашему родителю, а именно – простить обиду и освободить от штрафа. В то время я поставил условием успеха, чтобы вы не спрашивали, какими путями я его добьюсь. И вы не имели причин раскаиваться в том, что согласились тогда на это условие! Доверьтесь же мне и теперь.
– Но почему же этот человек ведет такой странный образ жизни? – сказала мисс Вэр. – Его одиночество, его внешность, та глубокая мизантропия, которая проглядывает в его речах… Мистер Ратклифф, что же я должна думать о нем, если он действительно обладает тем могуществом, которое вы ему приписываете?
– Сударыня, он воспитан в католической религии, а в этой секте, как вам известно, бывали тысячи примеров, что люди отказывались от богатства и власти и добровольно вели жизнь еще более суровую и тяжкую, чем он.
– Но он, кажется, не проявляет никаких религиозных побуждений! – возразила мисс Вэр.
– Нет, – отвечал Ратклифф, – отвращение к миру заставило его удалиться в эту пустыню, не прикрываясь личиной суеверия. Я могу сказать вам, по крайней мере, что он родился от очень богатых родителей, которые вздумали еще увеличить его состояние, женив его на богатейшей девушке, их родственнице, которую они с этой целью приняли к себе в дом и сами воспитали. Вы его видели, стало быть, можете судить, что могла думать эта молодая девушка об ожидавшей ее судьбе. Впрочем, она настолько привыкла к его наружности, что не выказывала отвращения, и его друзья не сомневались, что его страстная к ней привязанность, изящно образованный ум и многие другие любезные качества его души и характера помогут нареченной невесте превозмочь тот естественный ужас, который могло внушать ей его несомненное физическое безобразие.
– И что же, оправдались их ожидания? – спросила Изабелла.
– Сейчас узнаете. Сам он в полной мере сознавал свое уродство, и это сознание мучило его постоянно. «Что ни говорите, – отвечал он, бывало, одному доверенному лицу, – а я жалкое отребье человечества, и лучше было меня задушить в колыбели, чем выпустить на свет Божий пугать добрых людей». Его собеседник тщетно старался внушить ему равнодушное отношение к внешней оболочке вещей, преподавал ему заветы чистой философии или же напоминал о том, что развитие ума и души несравненно выше личной привлекательности и наружных прелестей. «Да, я слышу, что вы говорите, – отвечал он, – но таков голос хладнокровного философа или же пристрастного друга. Возьмите любую из прочитанных нами книг, исключая, конечно, те умозрительно-философские сочинения, которые не находят отголоска в наших естественных чувствах. Разве внешняя красота или, по крайней мере, сносная наружность, не пробуждающая ужаса, не представлена везде существенным условием симпатии, и не только в любви, но даже и в дружбе? Разве такой безобразный урод, как я, самой природой не устранен от участия в ее лучших радостях? Что, как не мое богатство, препятствует всем, в том числе, быть может, даже и Легации, и вам самим, отшатнуться от меня, как от существа, чуждого вашей природе, и тем более омерзительного, что имеет все-таки что-то общее с человеком, подобно тем породам зверей, которые особенно противны людям, потому что представляются как бы карикатурами их самих».
– Все это мысли, свойственные сумасшедшему, – сказала мисс Вэр.
– Нет, – отвечал ее спутник, – это было лишь следствием болезненной чувствительности и обостренного сознания своего положения, а не безумием. Впрочем, я должен допустить, что постоянное размышление об этих предметах и тягостные опасения с течением времени расстроили его рассудок. Он вообразил, что для него обязательно сорить деньгами, оказывать услуги и благодеяния направо и налево, не разбирая ни поводов, ни степени нужды тех, кто к нему обращался, лишь бы своей щедростью примирить с собой человечество, от которого он считал себя отчужденным самой природой. Будучи по натуре чрезвычайно добрым человеком, он творил добро с преувеличенной щедростью, подстрекаемый к тому тем соображением, что от него люди вправе ожидать большего, чем от других, точно будто ему хотелось подкупить людей, чтобы они и в нем признали человека. Нечего и говорить, что многие злоупотребляли щедротами, изливавшимися из такого беспорядочного источника, и его часто обманывали. Каждый из нас, в большей или меньшей степени, испытывал в жизни подобные разочарования, а особенно часто они случаются с теми, кто расточает благодеяния без разбора; но его больное воображение приписало такие случаи людской ненависти и тому презрению, какое возбуждала во всех его ужасающая наружность. Но я наскучил вам, мисс Вэр?
– Нет-нет, нисколько, только я… я немного задумалась о другом. Пожалуйста, продолжайте!
– Наконец, – продолжал Ратклифф, – он сделался самым изобретательным мучителем собственной особы, какого можно себе вообразить. Насмешки простолюдинов, а тем паче издевательства грубых натур из высшего сословия, были для него худшими из пыток. Когда, проходя по улице, он замечал, что на него глазеют и смеются, или, еще того хуже, – сдержанно хихикают, но особенно если молодые девушки, которым его представляли в обществе, смотрели на него с ужасом, – он считал, что это и есть настоящее отношение к нему света, что на него взирают, как на чудище, недостойное вращаться среди людей, и что, следовательно, он поступит вполне разумно, если окончательно запрется в четырех стенах. Казалось, что он вполне доверял искренности и привязанности только двух лиц, а именно: своей нареченной невесты и одного друга, человека, одаренного многими привлекательными качествами и, как казалось, действительно ему преданного. Впрочем, иначе и быть не могло, так как этот друг был буквально осыпан благодеяниями со стороны человека, к которому вы теперь едете. Между тем родители его умерли один за другим, в самое короткое время. Их кончина заставила отложить свадьбу, а день уже был назначен. Невеста, по-видимому, не очень горевала по поводу этой отсрочки, да и трудно было ожидать, чтобы она горевала от этого. Однако она не заявила никакой перемены в своих намерениях, когда по прошествии срока траура опять назначили день свадьбы. Друг, упомянутый мной, в то время постоянно гостил у них в замке.
В недобрый час, по настоятельной просьбе этого друга, они вместе отправились в один дом, где собрались гости различных политических направлений, и там пили очень много. Произошла крупная ссора; друг теперешнего отшельника обнажил шпагу, как и другие, но был сбит с ног и обезоружен более сильным противником. Во время борьбы оба они упали у ног отшельника, который, хоть и калека, но обладает замечательной физической силой и одарен весьма сильными страстями. Он выхватил чью-то шпагу и пронзил сердце того, кто победил его друга. Его судили, едва не приговорили к смертной казни и лишь с большим трудом выхлопотали ему более мягкое наказание, а именно – одиночное заключение на год в тюрьме за убийство. Этот случай произвел на него глубочайшее впечатление, тем более что убитый им был превосходный человек и только потому обнажил оружие, что получил грубое и незаслуженное оскорбление. С той минуты я заметил… Извините, я не то хотел сказать. С тех пор припадки болезненной подозрительности, так сильно мучившие несчастного карлика, стали повторяться все чаще и усложнялись еще угрызениями совести, которые были для него совершенно новым и неожиданным терзанием, так что под влиянием их он был часто вне себя от лютого отчаяния. Этих припадков нельзя было скрыть от особы, с которой он был помолвлен, и надо сознаться, что они были поистине страшны. Он утешал себя только тем, что, отбыв срок тюремного заключения, женится и в обществе своей жены и верного друга будет жить в тесном домашнем кругу, совершенно отказавшись от остального мира. Но он и в этом ошибся: прежде чем он вышел из тюрьмы, его невеста вышла замуж за его друга.
Невозможно описать, как этот тяжкий удар подействовал на человека с горячим темпераментом, с характером, омраченным горьким раскаянием, с воображением и без того уже пораженным недоверием к человечеству. Он был похож на корабль, потерявший последние снасти и предоставленный на произвол бушующим стихиям. Его поместили в приют для умалишенных. Это могло быть довольно разумной мерой, если бы его оставили там лишь на время лечения. Но жестокосердый друг, вследствие женитьбы на его кузине ставший его ближайшим родственником, нарочно продлил его заточение, чтобы пользоваться доходами с его огромных поместий. Но был еще один человек, всем обязанный этому страдальцу, – человек незнатного происхождения, но признательный и преданный. Он до тех пор хлопотал и осаждал своими просьбами представителей правосудия, что ему удалось наконец добиться освобождения своего бывшего патрона и возвращения ему прав управлять своими имениями; вскоре после того состояние карлика еще увеличилось по случаю кончины бывшей его невесты, которая умерла, не оставив мужского потомства, а потому все ее имущество перешло по наследству ему же. Но ни свобода, ни богатство не могли воротить ему уравновешенного рассудка: горе сделало его равнодушным к свободе, а богатство послужило лишь к тому, что он получил способ к удовлетворению своих странных и неожиданных фантазий. Он отрекся от католической религии, но некоторые доктрины этого вероучения продолжали оказывать влияние на его ум, всецело охваченный теперь угрызениями совести и ненавистью к человеческому роду. С тех пор он вел жизнь то паломника, то отшельника, подвергая себя самым суровым лишениям, но вовсе не из религиозного аскетизма, а единственно по отвращению к людскому обществу. Но никогда речи и поступки человека не были в большем противоречии между собой, ни один негодный лицемер не проявлял большего искусства в прикрывании своих злодеяний благими намерениями, чем этот несчастный, употреблявший все усилия на согласование своих крайних мизантропических теорий с таким образом действий, который проистекал прямо от его природной доброты и наклонности к благодеяниям.
– Все-таки, мистер Ратклифф, все, что вы рассказываете, есть, по-моему, доказательство того, что он помешанный.
– Нисколько, – возразил Ратклифф, – воображение у него расстроенное, это не подлежит сомнению; и я уже говорил вам, что по временам на него находят припадки буйной вспыльчивости. Но я разумею то, каков он в своем обычном состоянии: он рассуждает неправильно, но вполне способен рассуждать, а это так же отличается от настоящего сумасшествия, как полдень от полуночи. Тот карьерист, который тратит все свое состояние для достижения громкого, но ни к чему не ведущего титула, тот честолюбец, который добивается власти и могущества, не умея ими пользоваться, тот скупец, накопляющий несметные и бесполезные богатства, и тот расточитель, который сорит ими и проживает их бесследно, – все они, и каждый в своем роде, до некоторой степени помешанные. То же понятие приложимо и к преступникам, совершающим чудовищные деяния под влиянием таких пустячных стимулов, которые в глазах здравомыслящих людей несоразмерны ни с ужасами самого действия, ни с вероятием изобличения и кары; так что каждую сильную страсть и всякий приступ буйного гнева можно рассматривать как период краткого безумия.
– Все это хорошо с точки зрения отвлеченной философии, мистер Ратклифф, – отвечала мисс Вэр, – но простите, если я вам замечу, что это звучит вовсе не ободряюще для меня лично, и что я боюсь, особенно в такой поздний час, отправляться к человеку, у которого вы сами признаете расстроенное воображение, хоть и стараетесь объяснить его как можно мягче.
– Поверьте же мне на слово, – сказал Ратклифф, – клянусь вам, что он для вас нисколько не опасен. Но вот чего я до сих пор не говорил вам, из опасения встревожить вас заранее, а теперь должен сказать, потому что мы в виду его жилища. Вон я могу уж различить его в полутьме… Дело в том, что я с вами дальше не поеду, вы должны продолжать путь одни.
– Одна? Но я не смею…
– Это необходимо, – продолжал Ратклифф, – я останусь здесь и буду ждать вас.
– Так, по крайней мере, не трогайтесь с этого места, – сказала мисс Вэр, – однако ведь это очень далеко… вы, пожалуй, не услышите, если я буду кричать о помощи?
– Не бойтесь ничего, – сказал ее проводник, – употребите все старания, чтобы, по крайней мере, не обнаруживать вашей робости. Не забывайте, что его преобладающее и самое мучительное опасение именно в том и состоит, что он считает себя пугалом и сознает, что производит отталкивающее впечатление. Ваш путь пролегает прямо мимо той обвалившейся ветлы: тропинка идет по левую руку от нее, а вправо – болото. До свиданья, поезжайте! Вспомните об угрожающей вам судьбе, это должно пересилить и страх ваш, и колебания.
– Мистер Ратклифф, – сказала Изабелла, – до свиданья. Если вы обманули такую несчастную, как я, то вы навеки утратили право на репутацию честного человека, благородству которого я вверяю себя.
– Ручаюсь вам жизнью, душой своей, – продолжал Ратклифф, усиливая голос, по мере того как она отъезжала все дальше, – вы ничем не рискуете, решительно ничем!
Глава XVI
…Время и печали
Свою печать на эту душу клали;
Но если время нужною рукой
Ему воздаст за прежние страданья,
Смягчится в нем и боль воспоминанья
И возвратит душе его покой.
Старинная баллада