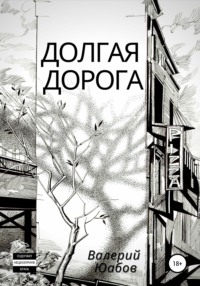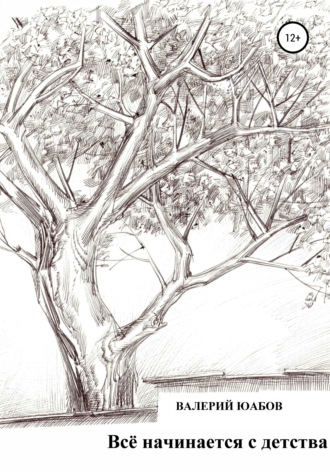
Всё Начинается с Детства
Как известно, основа этого языка – таджикский. Но бухарские евреи, неколько изменив его, считают его своим. Считать-то считают. Но однажды знакомый мальчик-таджик, услышав, как моя мама сказала мне что-то на бухарско-еврейском, спросил у меня: «Скажи-ка, а у вас свой язык есть?» – «Есть. Вот этот», – ответил я, удивившись. Он покачал головой и возразил с ноткой упрека: «Это таджикский, понимаешь? А вы ведь – евреи».
Вроде бы мелочь. Но мне снова стало обидно, хотя сам я на этом языке почти никогда не говорил: все мы, мальчишки, между собой разговаривали по-русски, дома тоже звучала русская речь.
Словом, с какого-то времени «еврейский вопрос» начал меня занимать больше, чем прежде. А тут еще пошли-покатились разговоры о том, что люди уезжают в Израиль. Добро бы только чужие, незнакомые, нет, уехал родственник – Юркин дед с материнской стороны. И вот, наконец, приготовления к Юркиной бар-мицве.
В тот день я уходил от него со странным чувством обиды, зависти, даже злости. Уж не знаю, чего там было больше. Подумать только, он всерьез считает, что мужчиной станет в тринадцать лет. А мне-то уже пятнадцать! Смотри-ка, и читать уже успел научиться на иврите. А разве дед не предлагал мне сотни раз за последние несколько лет: «Давай буду тебя учить! Русские книги все читаешь, читаешь, а родной язык, святой язык, не знаешь!»
Вот так я и раскололся. В тот же вечер сказал деду: «Что ж, давайте начнем…»
* * *«Святой язык» давался мне мучительно-трудно. Я знал два алфавита – русский и латинский, потому что в школе учился английскому. Оба как-то легко и просто, сами собой, укладывались в голове. А тут – не буквы, а какие-то пляшущие, извилистые значки. И читать их, чтобы слово прочесть, надо не слева направо, а справа налево, задом наперед да еще и на точки смотреть: точки, оказывается, заменяют гласные звуки… Уф-ф! А еще кое-кто утверждает, что русский язык – один из самых трудных!
Потом-то я понял, что понятия «трудный» и «легкий» очень относительны. Китайский ребенок, например, легко усваивает иероглифы, а они потруднее еврейского алфавита. Но эти утешительные мысли тогда не приходили мне в голову.
Начались уроки. Закончив утреннюю молитву, дед усаживался рядом со мной на диване, накручивая на коробочку свой тфилин. Левая кисть дедовой руки покрыта глубокими бороздами от ремешка – дед наматывал его очень туго. Борозды разгладятся не скоро, старые руки отекают. Придерживая этой измятой рукой раскрытый молитвенник, дед водит своим корявым пальцем справа-налево по строчке и громко произносит буквы, эти самые «алеф, бэт, вэт» и так далее. Закончив, говорит мне: «Повторяй». Я повторяю, скашивая глаза на молитвенник, – в нем возле алфавита есть транскрипция, написанная русскими буквами.
Кстати, транскрипция эта понятна только мне: дед по-русски читать не умеет. Уж не знаю, как он сам-то учился читать, очевидно, с голоса запоминал, как произносятся буквы, слога и слова. И ведь как помнит – молитву за молитвой шпарит наизусть! Ну, а я подглядываю. Дед сердится: «Зачем глядишь? Слушай, запоминай!» Сдвинув ноги, он кладет книгу на колени и прикрывает рукой русскую транскрипцию. Теперь мы повторяем буквы вместе – вернее, пытаемся делать это вместе, потому что я то и дело забываю, как их надо произносить. Дед, конечно, снова сердится. Я начинаю жульничать, говорю очень тихо, дед не слышит, переспрашивает, оттопыривая рукой ухо, и в этот момент появляется возможность подсмотреть транскрипцию. Если же память меня не подводит, я ору во все горло, и дед одобрительно говорит «хощ», что на узбекском (тоже на одном из наших родных языков) означает «так, хорошо».
Когда мы от алфавита перешли к слогам, оказалось, что на этих страницах уже нет транскрипции. Запоминать приходилось с голоса деда, тут уже и подсматривать не удавалось.
Господи, с раннего детства видел я у деда в руках молитвенник, но почему-то мне и в голову не приходило, что его так трудно читать! А дед не только все помнит, он с огромным чувством эти молитвы произносит, распевает, раскачивается. Он произносит эти непонятные слова так, будто что-то очень важное говорит Богу. Поверить невозможно, что при этом не понимает он прямого смысла того, что читает. «Надо чувствовать»… А как он чувствует? Что он чувствует?
Уроки на диване скоро закончились: дед по утрам всегда торопился на работу и решил для экономии времени заниматься со мной во время завтрака. Тут дела пошли еще хуже. Он чавкал и говорил невнятно, мне хотелось есть – все это не способствовало моему трудолюбию и способности запоминать слова на иврите.
Но дело было, как я теперь понимаю, не в этом и не в сложности иврита. Беда была в том, что заниматься мне не хотелось. Может быть, кое в чем был виноват и дед, который, скажем прямо, не был образцовым учителем, но так или иначе, не разгорелся во мне интерес к древнему языку.
Отказаться от занятий я не мог, сам сказал деду: «Давайте начнем». На уроках, пока мы вместе повторяли буквы, слога, а потом и слова, все же кое-что застревало в мозгах, запоминалось. Но как только дед уходил, строго наказав мне, чтобы я к завтрему выучил то-то и то-то, меня охватывала невероятная лень. И день, который мне вспоминается, от других не отличался ничем.
Прежде всего, я, конечно, позавтракал. Не заниматься же на голодный желудок! Но на сытый учить иврит хотелось еще меньше. С молитвенником в руках я уселся на стул у любимого бабушкиного окна и минуту-другую, вглядываясь в пляшущие знаки, шепотом повторял их названия. На каком-то слоге я, конечно же, запнулся – и тут уж лень моя возросла до такой степени, что… А! День велик, еще успею, думал я. Пойти, что ли, к Юрке? Ну его, мог бы и сам прибежать! Небось учится. Выйти во двор? Но день такой пасмурный, серый, холодный. Дождик стучит по окну. А во дворе так пусто, так тихо…
Я привык к тому, что дедов двор всегда полон звуков. В любое время года. То бабушка Лиза кого-то окликает, то Юрка дразнит Джека, а Джек на него лает, то Робик на что-то сетует или с Юркой ругается… Скрипят двери, шипит и булькает вода, вылетая из шланга, потрескивают от зноя железные крыши, орет петух, чирикают воробьи, воркуют горлицы, жужжат бесчисленные насекомые, сочно шмякают, падая с веток на землю, абрикосы и яблоки… Кажется, во дворе не было ничего, что так или иначе не звучало бы. И все эти звуки сплетались для меня в мелодию, которую не нужно было слушать специально – она сама в тебя вливалась, давая детской душе то, что ей больше всего нужно: чувство того, что все в порядке, что жизнь прекрасна. А запахи почек, травы, цветов, фруктов, только что политых грядок, той же нагретой крыши… Палой листвы – осенью, снега – зимой. Все они так уютно смешивались с запахами человеческого жилья, с ароматами бабкиной стряпни. А краски? Их и перечислить невозможно, у них и названий-то нет, у всех тех красок, оттенков, тонов, которыми от весны до поздней осени переливались деревья, цветы, плоды, небеса.
Где же все это, куда подевалось, думаю я, глядя сквозь запотевшее, в каплях дождя окно на свой любимый двор. Он стал будто неживым. Почему? Оттого, что эти осенние дни так холодны и дождливы? Нет… Разве не было нам с Юркой хорошо здесь и весело в такие же непогожие деньки? Как мы любили с ним сгребать опавшие листья, – вот они и сейчас лежат пестрым ковром по всему двору, мокнут, никто их не убирает… А раньше мы сгребали их в кучки и поджигали. Как они горели в сухую погоду, какой жар от них шел! Если накрапывал дождь, они дымились целыми днями. Мы сидели у самой большой кучи и вдыхали этот запах тлеющей листвы, ни на какой другой не похожий. Может, он кому и казался едким, а нам – ничуть. Даже индейскую трубку себе сделали и, набив ее сушеными листьями, покуривали. Кашель, дым чуть ли не из ушей, – а все равно хорошо!
Да, листья лежат, а двор – неживой. Наверно, это потому, что Юрка уехал, грустно думаю я. Робик тоже сменил жилье, старики теперь остались одни, не с кем бабушке Лизе ссориться, некого поучать, воспитывать, опекать. Скучно ей, она притихла. И двор притих… Да, конечно же, конечно, в этом дело, думаю я. И все же какая-то мысль, еще неясная, не дает мне покоя. Почему-то она меня тревожит, и я гоню ее, отмахиваюсь, как от мухи.
Я встаю, иду в спальню, к большому старому буфету, чтобы поставить на место молитвенник деда, по которому он учит меня читать.
С раннего детства любил я этот старинный красивый буфет. Открываешь его дверцы, а они не то что скрипят, они мелодию какую-то наигрывают – свою собственную, гораздо более приятную и выразительную, чем, скажем, скрип стульев. А еще был у буфета свой запах, тоже очень приятный. Я думал, так пахнет старое-старое дерево.
В буфете бабка держала пасхальную посуду. Но там, где его верхняя часть опиралась на нижнюю, под ней, под ее ножками, была глубокая ниша и в ней стояли в ряд дедовы молитвенники, сидуры. Штук десять.
В тот день, когда мы принялись за иврит, дед сказал, чтобы я сам поискал на буфете молитвенник, в котором есть алфавит и русская транскрипция. Кажется, до этого дня я никогда ничего не доставал из ниши. И только сейчас, заглянув в нее, я почувствовал, что именно отсюда, от книг, исходит запах, который долгие годы так приятно щекотал мои ноздри. Да, это пахли книги! Молитвенники у деда были древние, пожелтевшие от времени, распухшие от того, что их часто листали. Некоторые страницы даже потрескались – в старые времена книги печатали на толстой бумаге. Тот молитвенник в вишневой обложке, который я достал, был издан в 1905 году. Я поднес его к самому носу и с наслаждением вдыхал сладковато-горьковатый, чуть терпкий запах старой книги. Какая она старая, думал я, ее чуть ли не в прошлом веке напечатали!
В те времена 1905 год казался мне почти древностью.
Может быть, это странно, но именно в те дни родилась у меня любовь к старым книгам. Странно вот почему: иврит я вскоре забросил, молитвенники читать так и не научился. Но мне нравилось держать их в руках, перелистывать желтоватые страницы, вдыхать их запах и думать о том, сколько рук их листало, сколько глаз читало. Уже нет этих людей, а книга – вот она…
Именно тогда появилась у меня привычка и сохранилась на всю жизнь: как только попадает мне в руки книга, первым делом гляжу, когда она издана. А эта привычка породила еще многие, многие другие. Нет, уже даже не привычки, а ощущения, которыми я очень дорожу.
Когда я беру в руки старую книгу, которая Бог знает как давно стоит на полке, или живет на полке, так, по-моему, вернее, мне кажется, что это время не проходило для нее попусту. Оно каким-то образом накладывало свой отпечаток на каждую страницу, на каждую строчку. Не менялись типографские знаки, слова, фразы, а сама книга – менялась. У нее появлялась История…
Рассказать о ней книга не может, это надо уметь почувствовать. Мы ведь читаем эту книгу по-другому, чем читали люди в те далекие времена, когда она была написана, не только потому, что мы другие, а еще и потому, что по-особому выглядит эта книга, по-особому пахнет, по-особому шелестят ее страницы, когда их перелистываешь… Потому что у нее есть История, собственная, своя…
Не знаю, как другие, но я беру в руки очень старую, давно изданную книгу, как живое и мудрое существо, читаю ее с наслаждением и вникаю в нее глубже, чем вникал бы в ту же самую книгу того же автора, будь она переиздана сегодня…
* * *Я проторчал возле буфета довольно долго. Вдыхал запах книг, о чем-то мечтал. Во двор, в промозглую сырость идти не хотелось, но бабушка Лиза погнала по каким-то хозяйственным делам к тете Тамаре – и хорошо сделала: улетела тоска осеннего дня. Мы с Яшкой-Ахуном долго слушали итальянского певца Рафаэля, даже подпевали ему.
«Видэ лафэвидэ бездэмо-о-о!» – орали мы во всю глотку, заглушая самого Рафаэля. Эти слова, эта мелодия превращали нас в безумцев, в одержимых! Мы сто раз могли крутить пластинки Рафаэля.
Вечером, когда я возвращался домой, заскрипели ворота, залаял, радуясь мне, Джек. Бабушка кормила кур и сердито кричала на петуха. Были, были звуки, почти такие же, как прежде, и палой листвой пахло, и едой из кухни. Только я был глух, безразличен, равнодушен. «Нет, это не двор стал иным, это я… Это со мной случилось что-то», – подумал я и чего-то вдруг испугался.
С детством расстаешься постепенно, не замечая этого. Но если вдруг заметишь, становится и грустно, и чуть-чуть страшно, и… Весело? Волнующе-тревожно?
Не знаю, как это назвать.

Глава 62. Прощай моё Детство!
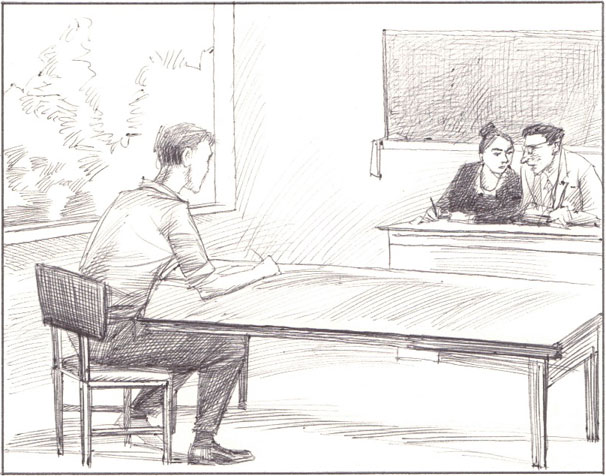
За все десять лет учения в школе не было, пожалуй, дня, чтобы не заглянул я в этот зал.
Во-первых, здесь была столовая, и на большой перемене мы мчались сюда либо обедать, либо что-нибудь перехватить, если учились во вторую смену… Кстати, у нас в столовой продавали замечательно вкусные коржики. Во-вторых, именно в этом зале происходили школьные собрания. В-третьих, вечера устраивались здесь же, и елки, и концерты – даже сцена имелась.
И все же сегодня я сидел в зале со странным ощущением, будто я его вижу впервые. Зал стал совсем другим. Огромным, высоким и каким-то… Торжественным, что ли. Наверно, потому, что никогда здесь не было так тихо. Ни на собраниях и уж, конечно, не во время обедов. А ведь сейчас здесь собрались три десятых класса, «А», «Б» и «В».
Шел последний выпускной экзамен – сочинение.
По всему залу, по три в ряд, расставлены длинные столы, аккуратно застеленные калькой. За каждым столом всего два человека: у одного угла и у другого угла. Даже и не пошепчешься. Я, кстати, сижу в крайнем ряду, возле огромного окна, и это очень приятно: окно распахнуто, легкий ветерок, как ласковая рука, треплет меня по щеке и говорит: «Спокойно, спокойно…»
Я вздыхаю, оглядываюсь. Головы, головы, склоненные к столу, аккуратные стрижки и прически, белые рубахи, нарядные блузки. Нарядные-то, нарядные, но лица, я вижу, у всех очень серьезные – и у девчат, и у парней. На самых озабоченных лицах явно прочитывается мысль: как бы изловчиться и заглянуть в надежно запрятанную шпаргалку. Есть они у всех. Это уж надо быть не знаю каким отличником и воображалой, чтобы не обзавестись шпаргалкой!
Изготовление шпаргалок – искусство, как известно, достаточно древнее. Самая простая и самая удобная – бумажная «гармошка». Но довольно ненадежная: при малейшей неосторожности так и лезет в глаза. Очкарики нередко кладут шпаргалки в свои футляры для очков. Знавал я мальчишек, которые ухитрялись закладывать их в авторучки. Многие используют собственные ладони, а некоторым каллиграфам удается написать то, что нужно на ногтях. Правда, это годится не для сочинения, а, скажем, для математики. Хорошо девчонкам, у них полно возможностей: подол платья, изнанка школьного фартука, собственные ноги, наконец. Тут хоть целое сочинение пиши! В нашем классе непревзойденный специалист по этой части – Ира Умерова. Вон какая сидит спокойная и довольная. Можно не сомневаться: у нее все ляжки исписаны.
Конечно, любители чтения (и я в их числе) по сравнению с остальными чувствуют себя на сочинении довольно уверенно. Но экзамен есть экзамен, тем более выпускной. Сколько бы ни занимался, ни читал – все равно, в животе у тебя какое-то неприятное дрожание. К тому же, существует хорошо известный всем школьникам и студентам «закон подлости»: на экзамене тебя спрашивают тот материал, который знаешь хуже всего.
Со мной, например, так и случилось как-то на годовом экзамене по биологии. Я знал ее неплохо, был почти что отличником да и к экзамену готовился. Так нет же! Из тридцати билетов я выбрал именно тот самый… Этот билет № 5 я на всю жизнь запомнил. Там были и основы теории эволюции, и строение молекулы ДНК, и много еще дополнительных вопросов. В том числе – об опытах Менделя. Вот это я и позабыл.
«Зараза! Почему ты мне достался?» – думал я с отчаянием. И получил всего лишь четверку.
На сочинении, к счастью, никаких билетов не было, а тему я выбрал свободную. Какую – сейчас уже не помню. Как бы я ни любил читать, литература, как школьный предмет с его обязательными «железобетонными» формулировками особого интереса у меня не вызывала. А чаще – скуку. Ответишь, напишешь и тут же забудешь.
Беспокоило меня больше всего правописание, особенно пунктуация. Поэтому в левой ладони лежала у меня отличная шпаргалка-«гармошечка», куда я выписал все, что уместилось. Перелистывал я ее ручкой.
Делать это приходилось очень осторожно: впереди, у самой сцены, рядочком сидели учителя и зорко за нами наблюдали. Отчасти, правда, с благими намерениями: если что-то тебе неясно, можешь поднять руку и учитель придет на помощь. Но помощь-то будет пустяковая, по поводу какой-нибудь одной несчастной запятой, шпаргалку это не заменит. А загляни-ка в нее под перекрестными взглядами! К тому же, либо Валентина Павловна, либо другая преподавательница литературы медленно прохаживалась между рядами, поглядывая то вправо, то влево.
* * *Я писал и писал, стараясь быть очень аккуратным (потому что уже переписывал с черновика начисто), помня о ладони, в которой лежала «гармошка», внимательно проверяя, правильно ли выразился, все ли расставлены запятые. Что еще, казалось бы, могло заполнять мою голову? Так нет же, стоило хоть на секунду отвлечься, как лезли совершенно другие мысли! Смешно – тему своего сочинения я давно позабыл, а о чем думал в это время – помню.
О том, например, что сижу в этом зале в последний раз. Ну, приду, конечно, на выпускной вечер, но вот ученика Юабова больше тут не будет. И в моем классе – тоже. Интересно, догадаются ли те, кто будет сидеть за моей партой, что за инициалы я на ней выцарапал? Р. К. – это Робинзон Крузо. А рядом – мои собственные, В. Ю., но очень затейливо сплетенные, сразу и не поймешь. То, взглянув на учителей (они уже немного устали и отвлекались, даже перешептывались), я думал: эти-то хоть свои. А в институте – там совсем будут чужие, незнакомые. И мне становилось страшно.
Институт… Эту дорожку я наметил еще два года назад, потому и оказался в девятом классе. Ведь если не хочешь учиться в высшей школе, к чему заканчивать десятилетку?
Так, по крайней мере, считали некоторые мои друзья, которые после восьмого выбрали профессиональное обучение, а то и сразу начали работать. Рустик Зинединов, например, пошел на стройку, где работал его отец. Несколько ребят поступили в технические школы учиться на слесарей, токарей.
Чем займутся мои кузены Ильюша и Яша Шааковы, понятно было уже давно. Их отец, дядя Миша, шофер, дело свое знал и любил, вообще был помешан на всякой технике. Сыновья пошли в него. У дяди Миши была собственная машина – старая «Победа», серая, с покатым задом. Ухаживали за ней, как вряд ли ухаживают за президентским лимузином. Когда, бывало, ни придешь к Шааковым, из-под машины торчат чьи-нибудь ноги: то дяди-Мишины, то дяди-Мишины и кого-то из мальчишек, то Яшкины или Ильюшины. Если нет их под машиной – значит, стоят, откинув капот и копаются в проводах и прочих внутренностях. И звенят ли они инструментами, лежа под машиной на спинах, или колдуют под капотом – непрерывно идет обсуждение очередной технической проблемы, так и сыплются один за другим термины и словечки, которые в ходу у водителей.
Закончив восьмой класс, мои кузены без дополнительной подготовки стали работать водителями. Кстати, когда братьев призвали в армию, любимое дело их тоже выручило: вместо того чтобы рыть траншеи и заниматься строевой подготовкой, знай возили себе офицеров-начальничков да ухаживали за машиной.
Совсем по-иному, но тоже задолго до окончания школы, наметилось будущее Бори, сына дяди Авнера. Музыкальная одаренность была его наследством, двойным – от деда и от отца. Борька на скрипке начал играть с семи лет, в музыкальной школе учился, выступал с концертами и участвовал в международных конкурсах, недавно занял первое место на республиканском. После восьмого класса он вообще перешел в музыкальное училище, уже два года там проучился, а еще через два года ждала его консерватория.
Вот как бывает с людьми, когда у них есть талант, думал я иногда. Не без зависти. А я? Мы же с Борькой родственники, двоюродные. Что бы и мне так же любить музыку! Учился ведь и я в музыкальной школе. Так нет, бросил, как мама ни просила.
Получить высшее образование – вот и все, чего мне определенно хотелось. Но чему учиться? Какую профессию выбрать? Тут в моей голове царила такая неразбериха… Желания переплетались, кипели, сменяли друг друга, и ни на одном из них я никак не мог остановиться.
Кем только я не видел себя в годы детства! Первая сладостная мечта – я машинист строительного крана. Сижу высоко-высоко… Впрочем, я об этом уже даже писал. Скелет динозавра, привезенный в Чирчик, – это я знаменитый палеонтолог… Или археолог… Увлечение историей, интерес к ней, был уже не таким детским, его поддерживало чтение, его не смог убить даже злобный Гэ Вэ со своими занудными уроками.
Однако беда была не столько в том, что мои интересы и планы сменялись, что я колебался, сомневался, завидовал товарищам, уже что-то выбравшим, и слабодушно спрашивал себя: а не податься ли и мне в танковое? Самые большие трудности подбрасывала жизнь. Она, как говаривал герой знаменитой книги Остап Бендер, диктовала нам свои суровые законы.
Во-первых, я был еврейским мальчиком, принадлежал к еврейской общине, значит, в какой-то мере рос под влиянием ее традиций.
Уже ставши взрослым, я читал о том, что в одесских еврейских семьях было в свое время что-то вроде помешательства: их дети непременно должны были стать музыкантами! Как это ни странно, самые блистательные евреи-музыканты действительно были родом из Одессы. Благодаря ли этой мании или, наоборот, мания возникла из-за появления нескольких вундеркиндов – не в этом дело. Я думаю о другом: сколько сломали судеб, насильно делая профессиональными музыкантами детей, ненавидящих музыку?
У бухарских евреев такого фанатизма, к счастью, не было. Музыке учили детей многие, но музыкантами, как Борька, становились те, кто к этому стремился. Однако и в нашем мирке хватало своих пристрастий и, наоборот, предубеждений. Я не осуждаю – многие из них были горькими плодами многовековой борьбы за выживание. Но…
Когда я, к примеру, сказал маме, что вот Колька и Сашка поступают в танковое, так, может, и мне попробовать – она только руками всплеснула. Я не удивился, я знал, что мама будет против. Во всех знакомых мне еврейских семьях думали так же: профессия военного – не для евреев, она опасна. Уедет ребенок куда-нибудь далеко от дома и вообще… Не та среда. В армии был ужасный антисемитизм. Люди рассказывали друг другу о еврейских парнях, убитых кем-то в своей же части. Начальство покрывало этих убийц-антисемитов. Родным сообщали: произошел несчастный случай, ваш сын чистил ружье – и вот… В Самарканде у кого-то из наших родных жили друзья, чей сын вот так и погиб. Служил он в стройбате где-то в России, попал на лесозаготовки – и парень, рядом с ним рубивший дерево, убил его обухом топора. Родителям сообщили: несчастный случай… Никто у нас не верил в такие случайности.
В еврейских семьях считали: если хочешь учиться, выбирай себе профессию солидную, престижную и непременно денежную. Становись инженером, врачом, юристом. Об интересах сына или дочки мало кто всерьез думал, важна должность. А что за должность, к примеру, преподаватель литературы? Сколько этот преподаватель заработает? Гораздо лучше пойти в торговлю! Пристроишься в магазине, на складе – и всегда, как у нас говаривали, будет у тебя «свежая копейка».
Мама к этой «свежей копейке» относилась, вероятно, так же, как все в ее кругу. Уж больно сама намаялась от постоянного, унизительного безденежья. Но она прекрасно понимала, что я-то ни для магазина, ни для склада, ни для каких подобных дел не гожусь. Не тот у меня характер. Подталкивать меня к такому выбору она, уж конечно, не стала бы. Как раз наоборот, ей очень хотелось, чтобы я учился, чтобы смог зарабатывать на жизнь, так сказать, не руками, а головой. «Я не смогла, – говорила она, – возможности не было. Но вы с Эммкой… Поверьте, пахать по двенадцать часов за швейным станком, это…»
Поверьте… А то мы не видели, как мама тяжко работает!
Ну, хорошо, учиться, конечно, надо и, к тому же, хочется. Пока не совсем ясно, чему, но это полбеды. А беда вот какая: поди-ка поступи!
* * *Распевали у нас в те времена запретную, ядовитую и очень популярную песенку: «Зато мы делаем ракеты, перекрываем Енисей и даже в области балета мы впереди планеты всей!» Считалось, что в области образования мы тоже «впереди планеты всей»: ведь в Советском Союзе и начальное, и среднее, и высшее образование, то есть и в школах, и в институтах было бесплатным. В школе так и было, без обмана. А дальше начинался обман.
Институтов не хватало, поступающих было вдвое, втрое, а то и в десять раз больше, чем мест. Поток рвущихся учиться натыкался на гранитную стену с узкой щелью. Из тех, кто рассчитывал только на свои знания и способности, пробивались сквозь неё лишь процентов десять-пятнадцать. Но и среди этих счастливчиков большая часть мест доставалась либо медалистам, либо спортсменам – каждому институту хотелось прославиться своими футболистами или там баскетболистами. Остальные места оставляли для тех, у кого были знакомства, протекция. Или возможность заплатить.