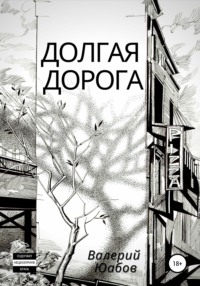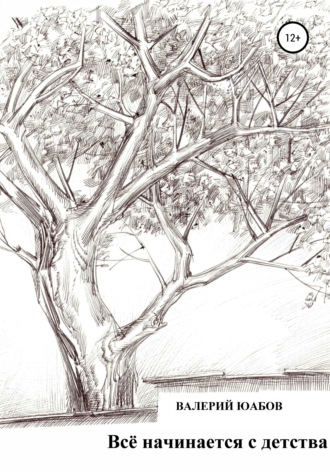
Всё Начинается с Детства
Наконец, весь рис высыпан в лаганчу – глубокую металлическую миску. И залит водой. А мама на тахтаче нарезает мясо маленькими кусочками, такими тоненькими, что кажется, будто нож не перемещается, а режет один и тот же кусочек опять и опять. Но и большой кусок делается все меньше, меньше. И вот уже горка ломтиков мяса подсолена и переложена с тахтачи в миску с рисом, с которого мама как-то незаметно успела слить воду. Мне кажется, что мама – фокусник. Как это в ее руке оказалась банка с кашничем? С сухим, конечно. Кашнич, то есть, кинзу, мама покупает летом на рынке, так же, как и укроп и другие травы. Много покупает, чтобы хватило на всю зиму. Зелень высушивается на веранде, наполняя ее своими ароматами. Но и сейчас, когда мама открывает банку и высыпает все в ту же лаганчу сухой, почти перетертый кашнич, я чувствую тонкий, приятный, волнующий, как воспоминание о лете, запах…
Приятен мне этот запах еще и потому, что именно сейчас наступает долгожданная минута: мне предстоит принять участие в приготовлении бахша. Именно я перемешиваю все содержимое лаганчи, это моя привилегия, обязанность – называйте, как хотите, но я этим очень горжусь! Вот Эммка – девчонка, но мама не доверяет ей такой ответственной работы, мала еще. И Эммка, хоть и завидует, хоть и вертится вокруг, смиряется с этим.
«Кр-жик, п-шик… Пфык… Чок. Чок…»… – фыркает, чавкает и чмокает под моими руками мокрый рис с кусочками мяса, становясь все более упругим и однородным, совсем как пластилин. Он пристает к рукам, к краям лаганчи, а я все разминаю и разминаю, протыкаю пальцами смесь, чтобы повсюду попал сок и снова разминаю. Даже руки уже заболели, так я стараюсь.
– Ну, хватит, хватит… Готово! Выкладывай…
Мама двумя руками подставляет к краю лаганчи плотный матерчатый мешочек и я перекладываю в него зеленоватую влажную массу – сырой бахш. Очень тщательно, до последней рисинки и последнего кусочка мяса. Тут уж мамин хозяйский глаз не допутит небрежности! Когда я заканчиваю, и лаганча и руки мои так чисты, будто не имели с бахшем никакого дела. Вдвоем с мамой мы завершаем упаковку бахша – я плотно утрамбовываю его в мешочке, мама – туго перевязывает мешочек у горловины толстой ниткой. И вот уже бахш опущен в котелок с весело бурлящей водой. Запах кашнича да и еще чего-то очень вкусного с каждой минутой становится острее.
– Мам, а скоро будет готово?
Ох, Эммка, Эммка! Прекрасно знает, что бахш варится очень долго, но слюнки-то уже текут!
– Часа через три-четыре, – терпеливо объясняет мама. Она тоже все понимает и поэтому тут же предлагает: – А не съесть ли вам по яблоку?
Когда мама дома, наши с Эммкой рты постоянно чем-то набиты. Мамина система детского питания проста: без нее дети питаются кое-как, недоедают (я по ее мнению из за этого вообще «похож на скелет») – значит, по выходным детей надо кормить, кормить, кормить…
* * *Яблоки хранились на веранде, в деревянном ящике у холодильника. Отборные, наливные. Каждое из них было обернуто бумагой. Яблоки были зимних сортов и обычно сохранялись до весны. Но в этом году что-то им нездоровилось, почти каждое яблоко зачервивело.
Я выбрал для еды несколько самых хороших, но захватил и парочку таких, где прожорливые оккупанты потрудились как следует.
– Мама, вот эти – совсем гнилые, надо выкинуть!
Мама поглядела на меня укоризненно. «Ну уж, гнилые! Много ты понимаешь» – говорил ее взгляд. Мама взяла в руки нож, яблоко… Оно завертелось под лезвием ножа, будто было живым и закрутилось от боли. А мама – сердобольный хирург, сжав губы от сострадания, старалась поскорее завершить операцию… Справа срезан кусочек… Слева… Внизу… Проделана глубокая дырочка… Ага, вот кто тут был!
Бедное яблоко порядком изрезано. Но зато оно сверкает теперь сахарной белизной мякоти. А мама, лукаво взглянув на меня, говорит:
– Ну, что? Нужно было выкидывать такое прекрасное яблоко?
Точно так же было «прооперировано» и второе червивое яблоко. Мы с большим удовольствием съели их. Вернее, мама сама нас кормила.
Она отрезала кусочек яблока так, что он оставался на месте, будто свеча, подсеченная саблей искуссного дуэлянта-мушкетера. Затем, наколов на острие ножа, она подносила этот кусочек ко рту одного из нас, Эммкиному или моему. Так в наших краях принято собственной рукой угощать дорогих гостей.
– Еще? – И мама взяла в руки яблоко без червоточины… Да, это было даже поинтереснее «хирургии»! Надрез на макушке яблока – и оно закрутилось под ножом с такой быстротой, будто в маминой левой ладони спрятан маленький моторчик. Ленточка кожуры, пружинясь, спиралью спускается вниз. Цельная, почти прозрачная, она становится все длиннее, длиннее. Вот она уже коснулась стола – мама работает стоя. Последний виток – и, прихватив кожуру ножом, мама протягивает ее мне. Кожура срезана так, что сейчас можно снова одеть ею яблоко и ничего не будет заметно! Попробуйте-ка так сделать! Я пробовал много раз – то на яблоках, то на картошке – и все зря. Чертов нож не слушался меня, он соскальзывал, разрывая кожуру, врезался в мякоть. Вообще вел себя, как хотел. Кожура превращалась не в ленточку, а в какие-то толстые, неуклюжие обрезки. Непонятно было, в чем больше мякоти – в ней или в том бесформенном, исхудавшем, оголенном предмете, который прежде был картофелиной или красивым яблоком.
* * *Мама улыбается – ей, наверное, приятно мое восхищение У мамы были талантливые руки. И это было, как я понимаю сейчас, неразрывно связано с определенными душевными качествами. Она не просто умела – у нее была внутренняя потребность делать все хорошо, красиво, не давая себе поблажек. Потребность не распускаться ни в чем, даже в мелочах. Обо всем помнить, идеально организовывать свой небольшой мирок. Мне кажется, этим отчасти можно объяснить и другую мамину черту: ее бережливость, выходящую за пределы обычной хозяйственности. Нет, – я ни в коем случае не назвал бы это скупостью! Повторяю: тут было что-то совсем другое…
Карманы маминого халата постоянно были набиты всякой всячиной. Разными вещами, которые кто-то из нас по небрежности и неряшливости не поставил на место или просто счел ненужными. Это могли быть оторвавшиеся пуговицы, заколки, карандаши, катушки ниток, брошенные игрушки. В одну сторону маминого воротника постоянно были вколоты подобранные где-то на полу булавки, в другую – иголки да еще на всякий случай со вдетыми в них нитками, белой и черной… Порой мама становилась для нас подобием ходячего продавца, не требующего платы за покупки. Стоишь, скажем, у телефона, ищешь взглядом ручку – записать номер. «Мам…» – начинаешь было. А она уже подходит, на ходу шаря по карманам. Гляди-ка, это ручка, которую я потерял!
* * *– Обедать, обедать! – Услышав, как звенят тарелки, Эммка первая помчалась на кухню. Пока мы ели яблоки, болтали, помогали маме прибирать на кухне и в спальне, во что-то там между делом играя, – пока мы всем этим занимались, бахш сварился. Гремя стульями, мы уселись. Сейчас наша помощь не была нужна. Мама вытащила кафкиром мешок из котла, положила в глубокую миску и осторожно, взявшись за нижние углы, вытряхнула бахш. Зеленоватая его гора была похожа на вулкан: от нее исходил жар, она вся покрылась паром. А запахи! Запахи!
Но разве можно их описать?
Вообще свежий бахш да еще с помидорами и огурцами, пусть даже солеными, вещь неописуемая. Поэтому ограничимся лирическим вздохом: это был Очень Вкусный День, не забытый мною до сих пор.
Не только, конечно из за «булк-булк» и бахша. Это был день, не омраченный ничем. Ни горестями, ни напряжением семейных склок, ни боязнью услышать злобный голос. В этот зимний день мы с Эммкой были вместе с мамой. Как два медвежонка с медведицей в уютной берлоге. От нее, от мамы, исходило тепло и другое, еще никем не названное, не уловленное никакими приборами душевное излучение, без которого так несчастны дети и так одинок любой человек.

Глава 48. Головастики

Напротив парикмахерской – той самой, где нас когда-то превращали в «чубчиков» – была поляна. Отличнейшая поляна, играй во что хочешь. Но были у нее и особые достоинства. В пору весенних дождей поляна покрывалась лужами, десятками луж, больших и маленьких. И в каждой из них в определенный момент внезапно появлялись головастики. Да, да, хотите – верьте, хотите – нет, но именно на этой поляне, вдали от арыков, где во множестве проживали лягушки, был лягушачий роддом, питомник крошечных лягушат, точнее – головастиков, в лягушат им только предстояло превратиться. Правда, удавалось им это далеко не всегда…
* * *Ночью прошел дождь, хороший, теплый дождь. И сейчас, утром, все лужи так и кишели головастиками. Сотни и сотни этих смешных существ – выпуклый черный, чуть побольше ногтя, овальчик, на который спереди насажены большие глазки, а позади вихляется длинный хвостик – с бешенной скоростью передвигались во все стороны. Как осколки черного стекла поблескивали, искрились в лучах солнца глянцевитые тельца.
Мы не знали, почему лягушкам вздумалось метать икру именно на этой поляне, в этих лужах. Зато мы знали другое: немногим из детенышей суждено вырасти, превратиться в нормальных лягушат. И беспечность мамаш-лягушек нас просто возмущала! Ведь весенние дожди льют недолго, скоро они прекратятся. Беспощадное солнце высушит лужи. Что останется от бедных головастиков, а? Да и вообще чудо, что вода на поляне сразу не впитывается в землю, что некоторые лужи-озера сохраняются от дождя до дождя.
Сидя на корточках возле одной из самых больших луж, я ковырялся в ней сучком. Лужа и впрямь была похожа на озеро. Темное дно было вязким, травка, которая росла на нем, напоминала водоросли. От моего сучка расползалась во все стороны коричневая муть.
– Глина! – сказал Витька Смирнов. Он сидел рядом и тоже ковырялся в луже. – В песок бы сразу все ушло. А глина лучше держит воду…
Но глина не глина, а все равно через месяц-другой вместо луж здесь будут потрескавшиеся от зноя проплешины, твердые, покрытые извилистыми рубцами.
– Ну что, пацаны, эту выбираем? – спросил Женька. – Тогда пошли!
И мы направились к ближайшему арыку…
Уже не первую весну, высмотрев одну из самых больших и заселенных головастиками луж, мы занимались спасением этих несчастных сирот. Труд благородный и к тому же не слишком тяжелый. Всего-то было делов, что не дать «роддому» высохнуть: следить, сколько в луже осталось воды, а если ее мало – принести из ближайшего арыка несколько ведер. Не скажу, чтобы мы были такими уж хорошими опекунами, но все же некоторому количеству покинутых мамами головастиков удавалось благодаря нашей помощи выжить. В таких случаях мы испытывали почти родительскую гордость, видя, как крохотные лягушатки – иногда по одному, а иногда целыми стайками – прыгают по травке к арыку. Удивительно – как они догадывались, куда прыгать?
– Мамашу, небось, пошли разыскивать! – хихикали мы.
Наблюдать за головастиками, за тем, как они резвятся и подрастают, никогда не надоедало (может, потому мы и начали опекать их) и мы частенько сидели возле луж, болтая о том о сём. Спорили, например, сколько лягушат может народить лягушка. Я разъяснял невежественному Женьке Андрееву (у меня-то по биологии была пятерка), что это вопрос глупый – лягушка мечет икру, как рыба, значит, и народить может сколько угодно. Женка с обидой отвечал, что про икру он сам знает, но лягушка ведь не килограммы икры мечет! А сколько икринок погибает?
Но чаще разговоры носили не столь научный характер. Тот же Женька как-то мечтательно сказал:
– Притащить бы сюда Рыжую… Всех бы полопала!
– Тьфу! – с отвращением сплюнул Витька Смирнов. – Да Рыжая на эту пакость и смотреть не будет!
Рыжая – так звали Витькину кошку. Она была хороших мастей, как говорили в семье Смирновых и обращались они с ней как с интеллигенткой. Еду подавали на фарфоровом блюдечке, которое стояло в уголке зала, застеленном газетой. И ела она не что-нибудь, не остатки какие-нибудь, а отборное мясо, запивая его молоком. Действительно, предположить, что такая кошка захочет есть головастиков… Витька долго не мог успокоиться и всячески ругал головастиков, даже глистами обзывал. Как будто не он вместе с нами о них же и заботился!
А у меня, когда Витька вспоминал свою Рыжую, возникало довольно неприятное чувство. Ведь знай мальчишки мое детское ташкентское прозвище, они тут же забыли бы мое настоящее имя. Еще и объявили бы, что я родственник этой самой кошки… Братец, а то и папаша! К счастью, о том, что я тоже прозывался когда-то Рыжиком ребята не подозревали.
* * *Не меньше, чем головастики развлекали нас их родители. Лягушек в окрестностях водилось видимо-невидимо. Вероятно, благодаря арыкам. Впрочем, путешествовали они повсюду и особенно любили пускаться в странствия к концу дня. Идешь из школы домой, а они неторопливо прыгают через дорогу по каким-то своим делам. Или скачут в траве огорода. К ночи лягушки непременно устраивали концерты. Оглушительная лягушачья музыка заполняла все воздушное пространство над поселком, звучала то с одной стороны, то с другой, то отовсюду одновременно…
Больше всего мы любили слушать эти концерты на Дориной скамейке возле нашего подъезда. После того, конечно, как Дора, устав ораторствовать и сплетничать, уходила, наконец, домой. Часто Дора задерживалась допоздна, мы злились и шопотом ругали эту неугомонную толстуху. Не знали мы, как пусто станет возле нашего подъезда года через три, когда Дора уедет на родину, в Грецию. Что-то безвозвратно исчезнет вместе с ней, с жужжанием и скрипом ее кофемолки. Усаживаясь на скамейку, доски которой с помощью Доры чуть-чуть прогнулись, мы с ребятами будем посмеиваться: «Все еще тепленькая скамеечка-то… Пропекла ее Дорина толстая задница! Эх, а где-то теперь наша Дора?» Но гораздо больше скучали по Доре взрослые. Я часто видел, как соседи, проходя мимо нашего подъезда, со вздохом оглядываются на скамейку.
Но это будет потом. А тогда…
Дождавшись, когда разойдутся по домам Дора и ее аудитория, мы, как воробьи, облепляли скамейку. Начинало темнеть. Вместе с темнотой спускалась на город прохлада. И сначала негромко, а потом все звонче, сильнее, раскатистей, перекрывая и нашу болтовню, и однотонное стрекотание цикад, доносилось с разных сторон кваканье лягушек.
Мы считали, что перед концертами они ведут перекличку. Личную, так сказать. О чем-то переговариваются… Узнать бы – о чем?
Вот с нашего огорода доносится протяжное, неторопливое, сочно-мясистое такое «ку-а-а, куа-а-а-а!». И почти сразу же, как ответ, с другой совсем стороны… Очень похожее и все же чуть-чуть другое, еще более гортанное, булькающее…
– Из арыка! – безошибочно определяет Эдем. Кваканье, действительно, раздается из-под воды. Уж мы-то знаем, не раз видели! Лягушка сидит где-то там, на глинистом, неровном дне, и могучее ее кваканье сквозь толщу воды доносится аж до нашей скамейки! А если ты стоишь у арыка и еще достаточно светло, то увидишь, как со дна, оттуда, где сидит певец, поднимаются воздушные пузырьки.
Очевидно, способность к звукоподражанию, иногда очень полезная, заложена в мальчишках всех времен и народов – вспомните хотя бы ночное кошачье мяуканье Гека Финна! У меня была непреодолимая тяга к этому искусству. И уж если мне удавалось обмануть петуха, квохча по-куриному, то как я мог не попробовать обмануть лягушек? Я пробовал терпеливо и упорно, я обучился особым приемам (в школе нашлись знатоки). Нужно было приложить ко рту свернутую в трубочку кисть левой руки и через сжатые губы начать издавать звуки, имитирующие кваканье, а правой ладонью прикрывать отверстие в «трубочке» и поигрывать этой заслонкой. Звук начинал меняться, вибрировать… Может, именно такими и были самые древние музыкальные инструменты?
Так или иначе, но мой «инструмент» постепенно заиграл неплохо. Настолько, что, как уверяли мальчишки, лягушки порой отвечают именно мне. Научиться пожелали и Колька, и Эдем с Рустиком. Сначала у них получалось что-то вроде громкого пуканья, потом дело пошло. Моего мастерства, как я считал, мальчишки не достигли, но все же мы теперь могли выступать, как «лягушачий хор под управлением Валерия Квакушкина». Название придумал Колька…
Мы так порой увлекались, что с какого-нибудь из балконов раздавался сердитый сонный голос: «расквакались, проклятые! Под самыми окнами… И чего сюда скачут?»
Тут мы, трясясь от хохота, разбегались по квартирам.
* * *Иногда переклички с лягушками устраивались прямо у арыка. Вообще у арыков летом мы болтались постоянно. Объяснить, какое место они занимали в нашей жизни, какое очарование придают арыки восточному городу я, право же, не берусь. Это надо самому увидеть и почувствовать. А я просто расскажу немного о чирчикских арыках…
Сеть их покрывала весь город. Сеть очень запутанная. Чирчик не был распланирован и застроен прямолинейно, к тому же он стоял на холмах, к тому же в Чирчике, как и в любом городе Средней Азии, буквально возле каждого дома есть огород и воду к нему надо подводить как можно ближе, а то все засохнет… Словом, по десяткам различных причин арыки в Чирчике можно было увидеть повсюду. И услышать. Плеск и негромкое журчание воды сопровождало тебя на любой улице, в любом переулке, садике. Такие привычные звуки, их даже со временем вроде и не слышишь, не замечаешь. Но стоит попасть в город, где нет арыков – сразу в душе поселяется какое-то беспокойство: чего же здесь недостает? Странный какой-то город…
Неширокие, менее чем в метр шириной, канавки… Воды их то мирно текут вдоль улицы, то завиваются косами, огибая дом или игровую площадку. Приближаясь к широкой дороге, арыки обычно с гулом всасываются в большую металлическую трубу, и с таким же гулом выплевываются из нее по другую сторону магистрали. Белая пена бешено, словно кипя, кольцом крутится вокруг трубы, брызги летят во все стороны, поднимаются высоко к небу. Кажется, вся вода здесь превращается в пену и уже не потечет по арыку. Но нет – как у ловкого иллюзиониста возникают в руках исчезнувшие предметы, так и в арыке пена каким-то образом вновь становится водой…
«Воды арыка текут, как живые, переливаясь, журча и звеня…». Когда я был мальчишкой, эта песенка была уже старой, я ее случайно где-то услышал. И очень обрадовался: мне эти воды тоже казались живыми. Более того, арыки представлялись мне бесконечно длинной змеей, какой-то извилистой таинственной Анакондой, возникающей неизвестно где и ползущей неизвестно куда.
Вообще-то, конечно, арыки брали свое начало в нашем городском канале, а точнее – в горной речке Чирчик, которая питалась водами ледников и источников. Поначалу хрустально-чистые, они уже в канале мутнели. А в арыках, хотя борта и ложа в них были цементные, еще больше загрязнялись. Вода в арыках не считалась питьевой, ее с древних времен использовали для полива. К тому же и ведра мусорные споласкивали, и мыли возле них всякую хозяйственную утварь, машины, мотоциклы. Но никто бы не стал превращать арык в свалку, бросать в него мусор. Арыки это… Арыки.
Можно сказать обобщенно: без арыков в Средней Азии жизнь невозможна. Можно, разделив это утверждение на части, сказать: без арыков в Средней Азии детство это не детство, оно теряет свой особый аромат, теряет что-то очень важное.
Что мы только не делали возле них! В жару окунали ноги или, набрав воду, обливали друг друга из брызгалок. Черпали из арыков воду, когда месили глину, изготовляя хлопушки. Сооружали небольшие плотинки, возле них – шлюзы, а по шлюзам… Но тут уж надо рассказать об одной из любимейших водных забав. Она называлась «гонять кораблики».
Сперва шла подготовка, не менее важная и интересная, чем сама водная забава. На долгое время, а бывало, что и на все лето мы превращались в кораблестроителей. На наших бурных «реках» флот таял катастрофически и его приходилось постоянно пополнять.
Лучше сосновой коры для постройки корабликов ничего не сыскать. Она и легка, и мягка, и не слишком ломкая, и достаточно толста… А мы, к тому же, особенно ценили кору потому, что сосен в Чирчике было немного и росли они только в парках. Надерет кто-нибудь из нас, побывав в парке, побольше коры – и вся наша компания, предварительно поорав и поругавшись при дележке, принимается за дело.
Впрочем, посторонний человек вряд ли понял бы, чем мы заняты. Сидим у подъезда кто на корточках, кто на коленках и сосредоточенно трем об асфальт кусочки коры. То есть, будущий кораблик… Асфальт – отличная терка, ничуть не хуже напильника или наждачной бумаги. Даже получше: в разных местах у него разная поверхность, где погрубее, где поглаже. Выбирай, что именно тебе сейчас нужно.
Сначала обтесываешь на грубом участке асфальта верхние, бугристые, покрытые серым наростом слои коры. До тех пор, пока не появится нежное, плотное, но пористое, в тоненьких прожилках коричневое ее тело. Чем дольше трешь, тем сильнее источает оно аромат сосновой смолы. Тут ты сменяешь «инструмент», то есть, выискиваешь самый гладкий участок асфальта. Кораблику уже приданы основные очертания – это либо эсминец либо миноносец – да чего только не было в нашем флоте! Теперь началась отделка. И в ней все зависит от точности твоих движений, от памяти, от умения вообразить.
– Ти…ти-ихо! Осторожно, не дави… Не отрывай, не отрывай… Ну-ка, еще разок… Говорят тебе – спокойнее!
Это Колька обучает корабельному делу Сашку, своего братана. Кусок коры им достался отличный, длинный и достаточно толстый. Общими усилиями братья сооружают эсминец.
Мне тоже попался неплохой кусочек. Даже широковатый для кораблика, жалко столько стачивать коры. «Построю-ка самолет. Остроносый, типа истребителя», – внезапно решаю я. То, что мой воздушный корабль будет участвовать в водных состязаниях, нисколько меня не смущает: ведь поплывет-то он не хуже других. За то какая оригинальная идея! Только бы крылья не сломать, когда буду обтачивать.
И я увлеченно принимаюсь за работу. Кусочек коры, как только у него по бокам начинает появляться что-то напоминающее крылья, превращается в настоящий самолет… В прекрасный самолет… Ну, просто чудо, что за самолет!
Я испытываю настоящий творческий восторг, который, вероятно, умеют испытывать только дети – и великие мастера-художники.
Много лет спустя я сделал печальное открытие: наши кораблики были далеко не верхом совершенства. Просто мы тогда не видели, что умеют делать настоящие мастера, такие же мальчишки, как и мы. А я, наконец, увидел – и понял, что, с помощью ножа или скальпеля и даже бритвенного лезвия можно вырезать изумительной красоты кораблики из сосновой коры, отделывать их, как произведения искусства… О деревянных моделях я уж и не говорю.
Мне стало немножечко грустно: почему же среди нас не нашлось таких умельцев? А впрочем, подумал я, мы ведь не знали, что работаем примитивно! Когда я тер об асфальт свой будущий самолетик, радость моя была неподдельна. А это – главное…
* * *«Гонять кораблики» в Чирчике можно было во многих местах, по любому арыку, хоть бы и совсем рядом с домом. Нередко мы так и делали. Но больше всего любили арык у кинотеатра «Октябрь». Сбегая с довольно крутой горки, он набирал большую скорость…
Возле этого арыка я нередко вспоминал тот, что протекал в Ташкенте возле дома бабушки Абигай и дедушки Ханана. В Ташкенте, большом городе, арыки были и шире, и глубже, чем в Чирчике. А уж тот, в Старом Городе, вообще напоминал бурную речушку. И не мудрено: улица Сабира Рахимова, где жили мамины родители, круто шла под уклон. Вот уж где было раздолье гонять кораблики! Течение подбрасывало их, подкидывало, швыряло к бетонным краям, закручивало, а иногда их заглатывали вечно голодные воронки. Те, что доплывали, выглядели так, будто потерпели кораблекрушение. Но все это компенсировалось незабываемо-острыми ощущениями.
Арык возле кинотеатра «Октябрь» тоже давал их не мало.
– …Три-четыре… Пускай!
Витькин голос еще и не отзвучал, а кораблики уже мчатся вниз по арыку. Но это уже не арык, конечно, это бурная, широкая река. Кораблики прыгают на волнах, наскакивают друг на друга, переворачиваются. И вместе с ними то срываются в бездну, то замирают наши сердца. Сколько страхов и волнений! Крик стоит такой, что в ушах звенит. Каждый ведет себя так, будто находится на борту, будто он – капитан и судьба корабля зависит от его искусства, от во-время поданной команды.
– Ку-уда? На середину! Давай на середину!
– Право руля! Обходи! Во… Во… Эх-х!
– По-олный вперед! На абордаж!
Красные, вспотевшие, толкая друг друга, несемся мы вдоль арыка. У Эдемки аж вены вздулись на лбу и глаза вот-вот выскочат из орбит. Да и кто выглядит лучше?
Самое смешное, что иногда кораблики вроде бы подчиняются нашим командам, совершают нужные маневры. К сожалению, не всегда.
Мой самолетик был, пожалуй, одним из самых усовершенствованных участников гонки. Острый нос, крылья прижаты к корпусу, как у истребителя. Имелся даже небольшой киль, а на плоской, как палуба, спине поставлена мачта. Но увы – все эти находки не помогли мне добиться победы. Сначала самолетик почему-то мотало из стороны в сторону, что-то в конструкции сделало его слишком вертким. На одном из поворотов, шмякнувшись о стенку арыка, он потерял мачту… Я совсем было расстроился, но потом самолетик как-то выровнялся и стал догонять соперников. Первым он не пришел, но поражение хотя бы не оказалось позорным.