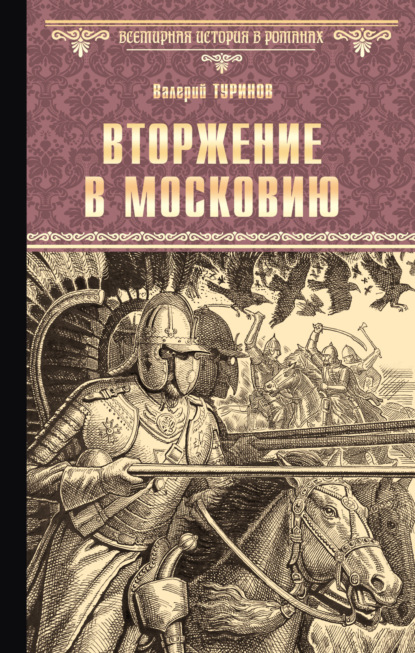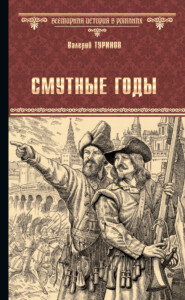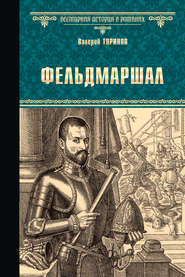По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Вторжение в Московию
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Она будет хранить тебя, – сказала она, вручая ему образок…
Он вспомнил Марину, коснулся губами краешка деревянной рамки, не смея касаться самого образка… На душе стало немного легче. Всё же есть одна, которая искренне ждёт его…
Выглянув ещё раз в окно, что выходило в сторону ярмарки, он заметил там большую толпу. И похоже, она волновалась… Заинтересованный этим, он спустился вниз и вскоре был в воеводской избе.
Там уже были Меховецкий, Тышкевич, Мосальский, Борис Лыков и даже Гаврило Пушкин.
– Что происходит на торгах? – спросил он их.
– Да так – мелочи! Волнуется народ! – отмахнулся от этого Меховецкий. – Давайте перейдём к делу, которое обсуждали вчера!
* * *
В то время когда Отрепьев с восторгом проникал в тайны церкви во имя Спаса в Путивле, в ответ на отход Мстиславского от Рыльска из Москвы к нему, к князю Фёдору в войско, прибыли окольничий Пётр Шереметев и думный дьяк Афанасий Власьев. Вопрос царя был грозным: «Почему отошли?» Наказ Годунова, жёсткий, гласил: войско не распускать, города, поддавшиеся Вору, отбить, виновных воевод и служилых наказать…
И Фёдор Иванович, после того как гонцы уехали назад в Москву, стал выполнять государев указ.
Когда весть о том, что придётся стоять до конца зимы в поле, прокатилась по полкам, там началось брожение. В таком состоянии огромное войско Мстиславского подошло под Кромы на другой день после Масленицы.
На носу была весна. Уже начало припекать солнышко. И всё шло к тому, что вот-вот всё поплывёт и крепость окажется неприступной. Городок Кромы стоял на вершине холма. С одной стороны его защищала крутым яром река, когда-то бывшая кромною, пограничной Северского княжества, отчего городок и получил своё название. Со всех других сторон его окружали болота. И в тёплое время года на вершину холма можно было попасть только со стороны реки: по узкой дороге, вырубленной в глинистом береговом обрыве.
И это подстегнуло воевод начать штурм, пока стоят морозы, ещё до подвоза пушек. Ночью под стены городка подобрался отряд передового полка со вторым воеводой Михаилом Салтыковым. Они, запалив порох, подожгли острожную стену. Когда она занялась, донцы Корелы, не в силах помешать этому, отошли под защиту крепости. Туда же отошли оставшиеся в городке посадские и служилые.
Стена прогорела и рухнула. В образовавшуюся брешь сунулись было наступающие, но донцы ударили по ним из самопалов, и те откатились назад.
Подули тёплые ветры. Пришла по-настоящему весна. На несколько недель крепость полностью отрезало от войска Мстиславского.
И донские казаки радостно зашевелились. Однако радость их оказалась недолгой. К войску Мстиславского подтащили пушки, и из-за реки полетели ядра. За неделю обстрела ядра начисто снесли стены. И казаки зарылись в землю. К тому времени спала вешняя вода. Даточные навели на реке наплавной мост из лодок, и снова возобновились атаки с обстрелом из орудий. И всё это посыпалось на них, на казаков.
Казаки, чтобы защититься от этого, покрыли городок сетью траншей, поделали окопы и норы, где и отсиживались. Но как только затихала канонада, они вылезали из-под земли, занимали оборону и встречали наступающих огнём.
А куренники Заруцкого отрыли себе и атаману большую землянку, одну на всех, и зажили в ней, промышляя в лагере у Мстиславского. Там скопились большие припасы съестного в стане мужиков, торговавших на базаре в войске Мстиславского, на той стороне реки.
Как-то ночью Бурба ушёл с казаками за реку на плотике. Вернулись они уже под самое утро и бросили под ноги Кузе два огромных телячьих окорока: «Будет тебе – всё завару да завару!»
Заруцкий обнял Бурбу: «Ай да есаул!»
Бурба был среднего роста и какой-то весь из себя неприметный и серый, как поношенные сапоги. Не то что он, Заруцкий. Он всегда ходил в ярком кафтане, с персидской саблей на боку и золотой серьгой в левом ухе. В этом же наряде он ползал в грязи по окопам и траншеям. Изодрав его, он добывал себе другой, удивляя станичников обновкой. А Бурба притягивал тех чем-то иным. Заруцкий чувствовал это и ревновал к нему казаков.
В тот раз дело за Кузей не стало. И впервые за последние два месяца казаки наелись мяса от пуза. Одобрительно похлопав по спине кашевара, они отвалились от котла и расползлись по лежакам пьяные от сытости.
У станичников Кузя кашеварил бессменно. Ничего иного делать он не мог: у него не было кистей обеих рук. Но он ловко орудовал культяпками с черпаком у котла. Руки он потерял «в турках». Там, сбежав с галеры и голодая, он стал воровать. Его словили – отрубили кисть на одной руке. Он отлежался, ожил. Голод подтолкнул его на то же. Его опять поймали – отхватили вторую кисть…
– Кузя, вот сробим денежку у царевича и отправим тебя в монастырь, – завели казаки свою излюбленную байку с подначкой кашевара. – Сложимся на заклад. И будешь ты жить у Предтечи и Николы!
– Удавлюсь я там, брательники! – стал размазывать Кузя по щекам слёзы, умиляясь заботой казаков о себе.
Он плакал часто, охотно: для отвода души. А станичники помогали ему в этом – от скуки.
– Ослобоним Москву царю природному и пойдём Доном отымать Царьград у басурман! – зашёлся криком Кузя, переполненный любовью к своим товарищам, казакам. – Куда им супротив казаков-то!.. Эх-х-ма-а!.. Ой, корчма, корчма-княгиня! Богато в тебе казацкого добра сгинуло! – пустился он вприсядку, махая культяпками…
Казаки весело загоготали. А Кузя, угомонившись, подсел к Бурбе. И тот, наклонив к нему голову, стал внимательно слушать его болтовню.
– Бурба, ты не бросай меня, – умоляющим голосом зашептал Кузя. – Ежели Заруда погонит – возьми к себе!.. Нет у меня никого, кроме вас, брательники, – захлюпал он носом. – Один я на белом свете, как перст. А кому нужен вот с этим-то?! – громко выкрикнул он и потряс, со слезами на глазах, культяпками. – Ни робить, ни бабу обнять!
Казаки поскучнели, отводя в сторону глаза.
А Кузя снова прилип к Бурбе и горячо зашептал:
– А я тебе поведаю, как повоевать Царьград! Гроб Господень ослобонить от басурман! Я ж, когда там был, всё выглядел!.. Ты только Заруде – ни-ни! А то он и на Москву не пойдёт, сразу на Царьград!
Бурба обнял Кузю, прижал к себе, погладил по его курчавой смышлёной головке.
А тот, выплакавшись, утёрся рукавом сермяги, просветлел лицом и затянул песню: «Как пойдём на Волгу, Волгу матушку реку!..»
Казаки в землянке поддержали его.
* * *
В Путивле Борис Лыков и Гаврила Пушкин целовали крест на верность царевичу. За это Лыков получил у него окольничество и поступил к нему в свиту вместе с Пушкиным.
В течение месяца Путивль перевидал ещё немало воевод из порубежных степных крепостей. Их, повязанными, присылали мелкие служилые ему, царевичу. Они восстали против власти Годунова и ударили челом самозванцу. Оказался среди них и воевода Татев из Царева-Борисова со своим вторым воеводой Дмитрием Турениным. Лыков встретился и переговорил с Борисом Татевым. И тот принял тоже сторону царевича: стал ходить у него чином в боярах.
Гарнизон Путивля увеличивался изо дня в день. И царевич снарядил несколько сот казаков на помощь Кореле. Вместе с ними под Кромы, в войско Мстиславского, ушли тайные гонцы, отправленные туда Татевым и Лыковым к Василию Голицыну и Прокопию Ляпунову. Замысел их, предложенный царевичу, был прост: перетянуть на свою сторону бояр под Кромами и вместе с ними войско Мстиславского.
– Капелланов, капелланов сюда! – восторженно вскричал царевич от этого предложения, опять вспомнив своих капелланов, забытых было.
Капелланов ввели в съезжую избу. Они переступили порог горницы и увидели государевых думных, советчиков: князя Мосальского, Татева, Лыкова и Гаврилу Пушкина. Те сидели на лавках с постными лицами – все утомились от речей царевича, не нужных никому из них.
– А-а, вот и мои дорогие отцы! – восклицанием встретил их тот, подскочил к ним и, азартно потирая руки, заходил вокруг них. – Ах как хорошо! Хорошо, что вы, к счастью, здесь!.. Господа! – с жаром обратил он к ним лицо и просиял улыбкой, лукавой и непосредственной. Он хотел обрадовать их чем-то и торопился. – Господа! – повторил он. – Достойные государи должны обладать знаниями в военном искусстве. А ты учил меня, что и в науках тоже! – дотронулся он рукой до плеча отца Николая, который был намного выше его ростом, и хотел было покровительственно погладить его, но передумал, отвёл руку. – Дабы просвещать невежественный народ! Да, да – вот великое дело!.. Не так ли?!
Отец Николай пробурчал что-то, сожалея, что наговорил ему когда-то лишнее, и сразу же почувствовал, как неуютно тут, у царевича.
– Поэтому будете давать мне уроки! – глотая слова, мгновенно подвёл итог своим мыслям царевич.
– Но, ваша светлость! – сражённый этим, всполошился отец Николай. – Ваша светлость! – повторил он и, протестуя, вскинул руки: мелькнули фалды длинной рясы, и он стал выкручиваться, странно, всем телом. – Это не делается просто так!..
Затем он немного успокоился и начал собирать, вылавливать в опустошённой голове какие-то мысли, обрывки фраз, стал склеивать их, чтобы разумно отбиваться от вот такого…
– Это даётся годами труда! Найдётся ли у вашей светлости на это время? Да и сами мы не так учёны для просвещения вашей светлости! И не осмелимся на это!
– Никаких но! – отрезал царевич. – Начнём сегодня же, не откладывая!
– Ваша светлость, в просвещении народа сдержанность нужна немалая, – юлил и юлил отец Николай. – Мудрый Авиценна говорил: опасно разрушать у простого народа естественное единство восприятия мира. Знания, науки – не для всех благо! Они насадят пороки в умах, кои увидят во всём меру, число и вес… В этом пагуба для народа выйдет великая!..
Но царевич жестом остановил его, как будто хотел закрыть ему рот. Увидев же в руках у отца Ланиция книгу, он показал пальцем на неё: «Патер Андрей, открывай, читай вслух и объясняй!»
– Сие произведение мыслителя древних греков Платона. Оно трудно для усвоения неподготовленного ума! – ещё раз извернулся отец Николай.
Он вспомнил Марину, коснулся губами краешка деревянной рамки, не смея касаться самого образка… На душе стало немного легче. Всё же есть одна, которая искренне ждёт его…
Выглянув ещё раз в окно, что выходило в сторону ярмарки, он заметил там большую толпу. И похоже, она волновалась… Заинтересованный этим, он спустился вниз и вскоре был в воеводской избе.
Там уже были Меховецкий, Тышкевич, Мосальский, Борис Лыков и даже Гаврило Пушкин.
– Что происходит на торгах? – спросил он их.
– Да так – мелочи! Волнуется народ! – отмахнулся от этого Меховецкий. – Давайте перейдём к делу, которое обсуждали вчера!
* * *
В то время когда Отрепьев с восторгом проникал в тайны церкви во имя Спаса в Путивле, в ответ на отход Мстиславского от Рыльска из Москвы к нему, к князю Фёдору в войско, прибыли окольничий Пётр Шереметев и думный дьяк Афанасий Власьев. Вопрос царя был грозным: «Почему отошли?» Наказ Годунова, жёсткий, гласил: войско не распускать, города, поддавшиеся Вору, отбить, виновных воевод и служилых наказать…
И Фёдор Иванович, после того как гонцы уехали назад в Москву, стал выполнять государев указ.
Когда весть о том, что придётся стоять до конца зимы в поле, прокатилась по полкам, там началось брожение. В таком состоянии огромное войско Мстиславского подошло под Кромы на другой день после Масленицы.
На носу была весна. Уже начало припекать солнышко. И всё шло к тому, что вот-вот всё поплывёт и крепость окажется неприступной. Городок Кромы стоял на вершине холма. С одной стороны его защищала крутым яром река, когда-то бывшая кромною, пограничной Северского княжества, отчего городок и получил своё название. Со всех других сторон его окружали болота. И в тёплое время года на вершину холма можно было попасть только со стороны реки: по узкой дороге, вырубленной в глинистом береговом обрыве.
И это подстегнуло воевод начать штурм, пока стоят морозы, ещё до подвоза пушек. Ночью под стены городка подобрался отряд передового полка со вторым воеводой Михаилом Салтыковым. Они, запалив порох, подожгли острожную стену. Когда она занялась, донцы Корелы, не в силах помешать этому, отошли под защиту крепости. Туда же отошли оставшиеся в городке посадские и служилые.
Стена прогорела и рухнула. В образовавшуюся брешь сунулись было наступающие, но донцы ударили по ним из самопалов, и те откатились назад.
Подули тёплые ветры. Пришла по-настоящему весна. На несколько недель крепость полностью отрезало от войска Мстиславского.
И донские казаки радостно зашевелились. Однако радость их оказалась недолгой. К войску Мстиславского подтащили пушки, и из-за реки полетели ядра. За неделю обстрела ядра начисто снесли стены. И казаки зарылись в землю. К тому времени спала вешняя вода. Даточные навели на реке наплавной мост из лодок, и снова возобновились атаки с обстрелом из орудий. И всё это посыпалось на них, на казаков.
Казаки, чтобы защититься от этого, покрыли городок сетью траншей, поделали окопы и норы, где и отсиживались. Но как только затихала канонада, они вылезали из-под земли, занимали оборону и встречали наступающих огнём.
А куренники Заруцкого отрыли себе и атаману большую землянку, одну на всех, и зажили в ней, промышляя в лагере у Мстиславского. Там скопились большие припасы съестного в стане мужиков, торговавших на базаре в войске Мстиславского, на той стороне реки.
Как-то ночью Бурба ушёл с казаками за реку на плотике. Вернулись они уже под самое утро и бросили под ноги Кузе два огромных телячьих окорока: «Будет тебе – всё завару да завару!»
Заруцкий обнял Бурбу: «Ай да есаул!»
Бурба был среднего роста и какой-то весь из себя неприметный и серый, как поношенные сапоги. Не то что он, Заруцкий. Он всегда ходил в ярком кафтане, с персидской саблей на боку и золотой серьгой в левом ухе. В этом же наряде он ползал в грязи по окопам и траншеям. Изодрав его, он добывал себе другой, удивляя станичников обновкой. А Бурба притягивал тех чем-то иным. Заруцкий чувствовал это и ревновал к нему казаков.
В тот раз дело за Кузей не стало. И впервые за последние два месяца казаки наелись мяса от пуза. Одобрительно похлопав по спине кашевара, они отвалились от котла и расползлись по лежакам пьяные от сытости.
У станичников Кузя кашеварил бессменно. Ничего иного делать он не мог: у него не было кистей обеих рук. Но он ловко орудовал культяпками с черпаком у котла. Руки он потерял «в турках». Там, сбежав с галеры и голодая, он стал воровать. Его словили – отрубили кисть на одной руке. Он отлежался, ожил. Голод подтолкнул его на то же. Его опять поймали – отхватили вторую кисть…
– Кузя, вот сробим денежку у царевича и отправим тебя в монастырь, – завели казаки свою излюбленную байку с подначкой кашевара. – Сложимся на заклад. И будешь ты жить у Предтечи и Николы!
– Удавлюсь я там, брательники! – стал размазывать Кузя по щекам слёзы, умиляясь заботой казаков о себе.
Он плакал часто, охотно: для отвода души. А станичники помогали ему в этом – от скуки.
– Ослобоним Москву царю природному и пойдём Доном отымать Царьград у басурман! – зашёлся криком Кузя, переполненный любовью к своим товарищам, казакам. – Куда им супротив казаков-то!.. Эх-х-ма-а!.. Ой, корчма, корчма-княгиня! Богато в тебе казацкого добра сгинуло! – пустился он вприсядку, махая культяпками…
Казаки весело загоготали. А Кузя, угомонившись, подсел к Бурбе. И тот, наклонив к нему голову, стал внимательно слушать его болтовню.
– Бурба, ты не бросай меня, – умоляющим голосом зашептал Кузя. – Ежели Заруда погонит – возьми к себе!.. Нет у меня никого, кроме вас, брательники, – захлюпал он носом. – Один я на белом свете, как перст. А кому нужен вот с этим-то?! – громко выкрикнул он и потряс, со слезами на глазах, культяпками. – Ни робить, ни бабу обнять!
Казаки поскучнели, отводя в сторону глаза.
А Кузя снова прилип к Бурбе и горячо зашептал:
– А я тебе поведаю, как повоевать Царьград! Гроб Господень ослобонить от басурман! Я ж, когда там был, всё выглядел!.. Ты только Заруде – ни-ни! А то он и на Москву не пойдёт, сразу на Царьград!
Бурба обнял Кузю, прижал к себе, погладил по его курчавой смышлёной головке.
А тот, выплакавшись, утёрся рукавом сермяги, просветлел лицом и затянул песню: «Как пойдём на Волгу, Волгу матушку реку!..»
Казаки в землянке поддержали его.
* * *
В Путивле Борис Лыков и Гаврила Пушкин целовали крест на верность царевичу. За это Лыков получил у него окольничество и поступил к нему в свиту вместе с Пушкиным.
В течение месяца Путивль перевидал ещё немало воевод из порубежных степных крепостей. Их, повязанными, присылали мелкие служилые ему, царевичу. Они восстали против власти Годунова и ударили челом самозванцу. Оказался среди них и воевода Татев из Царева-Борисова со своим вторым воеводой Дмитрием Турениным. Лыков встретился и переговорил с Борисом Татевым. И тот принял тоже сторону царевича: стал ходить у него чином в боярах.
Гарнизон Путивля увеличивался изо дня в день. И царевич снарядил несколько сот казаков на помощь Кореле. Вместе с ними под Кромы, в войско Мстиславского, ушли тайные гонцы, отправленные туда Татевым и Лыковым к Василию Голицыну и Прокопию Ляпунову. Замысел их, предложенный царевичу, был прост: перетянуть на свою сторону бояр под Кромами и вместе с ними войско Мстиславского.
– Капелланов, капелланов сюда! – восторженно вскричал царевич от этого предложения, опять вспомнив своих капелланов, забытых было.
Капелланов ввели в съезжую избу. Они переступили порог горницы и увидели государевых думных, советчиков: князя Мосальского, Татева, Лыкова и Гаврилу Пушкина. Те сидели на лавках с постными лицами – все утомились от речей царевича, не нужных никому из них.
– А-а, вот и мои дорогие отцы! – восклицанием встретил их тот, подскочил к ним и, азартно потирая руки, заходил вокруг них. – Ах как хорошо! Хорошо, что вы, к счастью, здесь!.. Господа! – с жаром обратил он к ним лицо и просиял улыбкой, лукавой и непосредственной. Он хотел обрадовать их чем-то и торопился. – Господа! – повторил он. – Достойные государи должны обладать знаниями в военном искусстве. А ты учил меня, что и в науках тоже! – дотронулся он рукой до плеча отца Николая, который был намного выше его ростом, и хотел было покровительственно погладить его, но передумал, отвёл руку. – Дабы просвещать невежественный народ! Да, да – вот великое дело!.. Не так ли?!
Отец Николай пробурчал что-то, сожалея, что наговорил ему когда-то лишнее, и сразу же почувствовал, как неуютно тут, у царевича.
– Поэтому будете давать мне уроки! – глотая слова, мгновенно подвёл итог своим мыслям царевич.
– Но, ваша светлость! – сражённый этим, всполошился отец Николай. – Ваша светлость! – повторил он и, протестуя, вскинул руки: мелькнули фалды длинной рясы, и он стал выкручиваться, странно, всем телом. – Это не делается просто так!..
Затем он немного успокоился и начал собирать, вылавливать в опустошённой голове какие-то мысли, обрывки фраз, стал склеивать их, чтобы разумно отбиваться от вот такого…
– Это даётся годами труда! Найдётся ли у вашей светлости на это время? Да и сами мы не так учёны для просвещения вашей светлости! И не осмелимся на это!
– Никаких но! – отрезал царевич. – Начнём сегодня же, не откладывая!
– Ваша светлость, в просвещении народа сдержанность нужна немалая, – юлил и юлил отец Николай. – Мудрый Авиценна говорил: опасно разрушать у простого народа естественное единство восприятия мира. Знания, науки – не для всех благо! Они насадят пороки в умах, кои увидят во всём меру, число и вес… В этом пагуба для народа выйдет великая!..
Но царевич жестом остановил его, как будто хотел закрыть ему рот. Увидев же в руках у отца Ланиция книгу, он показал пальцем на неё: «Патер Андрей, открывай, читай вслух и объясняй!»
– Сие произведение мыслителя древних греков Платона. Оно трудно для усвоения неподготовленного ума! – ещё раз извернулся отец Николай.