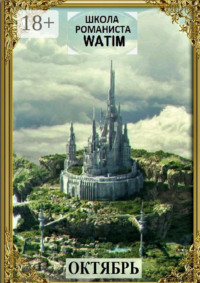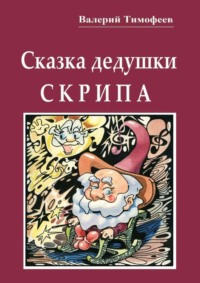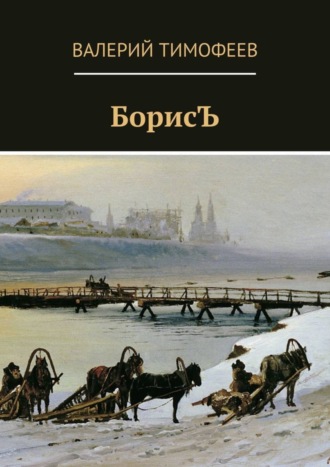
После кромешной темноты и от этого скудного освещения стало громадно светло; даже самые дальние углы открылись.
И никого там нет.
И криков с ударами больше нет.
Умер человек?
Или паровой молот устал?
Железно громыхнули засовы, ударили шаги подкованных сапог по бетонке пола.
5
После недолгой паузы проснулся пустой голос.
– Ургеничус?!
– Чиво?
– Ты его не забил там случаем? – спросили насмешливо.
– Не-а! – ответили протяжно и презрительно. – Живучий, гад.
Жж-бам, – закрылась дверь. – Ш-ш-чёк, – встал на взвод засов.
– В ём жиру как в двухгодовалом борове, – делились открытием. – Пока до нужного места достучишься, весь потом изойдешь.
– Сказал что-нибудь?
– А мне зачем? – в словах неприкрытое удивление. – Я и не спрашивал.
– Дык, а это? – оторопело поперхнулся вопросом Пахом. – Чё ты тогда?..
– Завтре у его свиданка со следователем. Вот я и готовлю мясо к разговору.
Голоса сблизились и перестали надрываться.
– Думаешь, оклемается до утра? – высказал кусочек сочувствия Пахом.
– Утров на его жизни еще много будет, до какого-нить обязательно оклемается, – изобразил подобие смешка Ургеничус. – А и не оклемается, не велика нашему делу потеря.
– Так у тебя все, что ли, с этим?
– А чё, кто-то еще на очереди? – по-еврейски вопросом на вопрос отреагировал.
– Ну, есть.
– Энтот? – удар сапогом в мою дверь.
– Не-а, – лениво возразил, – напротив этого в журнале пока ничего не записано.
– А нам все равно, записано или нет, – он, гад, усмехается, а у меня по телу мурашки бегают. А ну и впрямь завалится, и что я ему скажу?
– Ну, дык, понятное дело.
– Я ополоснусь схожу.
– Ага, иди.
– Ты давай, пожрать сгоноши чего-нить. Праздник все ж таки.
– А чего гоношить? Чайник у меня завсегда горячий, тока хлебца подрезать.
– И «это» не забудь. «Это» у тебя есть?
– Как же в нашем деле без «этого», – хохотнул булькающе.
Двое у его двери разделились. Один пошел дальше, в закуток, шаги другого вернулись к входной двери в каморку дежурного.
Хлопнула деревянно дверь, коридор заполнился торопливыми шагами, застучали по столу кружки и миски. Еще несколько раз прошли туда-сюда, видимо, таская продукты и расставляя их на столе.
– Наливай!
Буль-буль-буль…
– Ну, будем!
Стукнулись кружки, послышалось громкое «ух».
– Хорошо прошла.
– Угу.
– Давай еще вдогонку.
– Давай.
Буль-буль-буль…
– Ух…
– Уххх…
Чавкающие звуки, шкрябанье ложки по алюминиевой миске, хлюпанье носов. Через плотно набитые рты разговоры.
– Не мучают они тебя?
– Эти-то?
– Ну.
– Не-а.
– Привык?
– А шут его знает. Наливай.
– Ух…
– Уххх…
– Знаешь, вот попросит баба курю бошку скрутить, – говорилось между жевками, – или крола забить. Жалко. Я ж их кормил-поил, на этих вот руках нянчил.
– Ну, знамо дело.
– Животина понимает, что кранты, глазки слезами полнятся.
– Плачет, значится, по-ихнему, – переводит под себя Пахом.
– Куренок, тот брыкается, крылышками сучит. Крол пиш-шит так тоненько, протяжно: – вьи-и, вьи-и! и тож вырваться норовит, когтем царапнуть. Жить им охота.
– Кому ж неохота?
– Вот животину всякую через это и жалко.
– А этих?
– А этих не жалко. Наливай!
– Ух…
– Уххх…
– Совсем ни на вот столько?
– Совсем. А за что их жалеть?
– Ну-к, люди ж.
– Не-а! Нелюди… Никчемные человечушки. За ими когда приходют, думаешь, хоть один из них, хотя бы как тот же куренок, брыкается? Или как крол, царапается? Рвется на свободу? Не-ет! Оне сразу бошки свои повесят и добровольно на заклание идут.
– Так уж и добровольно.
– А то! Голосок тихонький, жалобно-просящий. «Можно то-это взять… можно с женой попрощаться… деток обнять»… Тьфу!
– Вам же легче с таким народцем.
– Легче, говоришь? – выбрал паузу. – Ну, не знаю, не знаю, – чиркнула спичка, задули огонек. – Через их, таких, и я себя им подобным ощущаю. Ежли бы они, да хоть бы через один, отпор какой давали, там за нож, за табурет бы хватались, или палить начинали – ведь, почитай, у всех ноне энта штука есть?
– Есть, – согласительно кивнул Пахом.
– Их бы сюда пачками не перли.
– Скажешь, тоже.
– И скажу! – погромчел голос. – Как я чую, я так и скажу! Их бы стороной обходили. Ты вот попробуй-ка к кобыле с заду зайди?
Раздалось ржание.
– Копытами промеж глаз как заедет, и на чин не посмотрит!
– Во! И с ними бы считались! А так, тьфу, не люди это, скот – да не лошади, а сплошь бараны да коровы, и обходятся с ими по их чину, то есть что ни на есть по-скотски.
– Ну да, ну да.
– Вот, к примеру. Я его лупсую, он на голову выше меня, оглоблю через колено не поморщась сломает. У его руки свободные, у его ноги не связаны. Сидит сиднем! Я перед ним так, шпендик. Ткнет кулаком в полсилы, и нет меня, соскребай со стены. А и этот молчит, и даже рожу свою защитить от моего кулака боится – как бы, значит, меня таким неуважением не обидеть. Только зенки сощурит и скулит.
– Запуган народ.
– Многие даже кричать громко стесняются.
– Ну, я б ни сказал.
– Ты про этого? Так он давно уже и совесть, и все остатнее человеческое растерял. Мешок с дерьмом. А кричит? Это он боль из тела наружу отпускает. Куда ее столь в себе копить?
– Ну-к, тебе виднее.
– Вот ты тут ужо который год робишь?
– Дык, пятый пошел.
– Сколь среди их на твоёй памяти в петлю лезут? – задал подленький вопрос.
– Да уж со счету сбились. Один вон своими собственными зубьями себе вену на руке перегрыз.
– Для ча, я тебя спрашиваю?
– Страшно, небось.
– Во! Не вынес пыток. Энтот вену себе разорвал, того боль в петлю толкнула. А чего ж, коль помирать собрался, за мучения свои, за унижения с меня не спросил, а? Тебя ж, звереныша, совсем в угол загнали, всякого разумного смысла жизнь твою лишили. Так воздай богу богово! Укуси не себя, – меня! зубьями в мою глотку сперва вцепись, а потом уж и руку свою грызи.
– Смотри, накарчешь!
– Нет! Он безропотно себя своей жизни лишит. Да еще и записку нацарапает, мол, извиняйте его, люди добрые, не виноватый ни в чем, и так далее.
– Дела-а…
– Наливай.
Буль-буль-буль…
– Смотри-ка, время-то!
– О-го!
– Давай, с Рожеством ужо, что ли.
– Како тако Рожество? – взвился Пахом. – Ишшо две недели до его!
– Это по твоему календарю две недели, – буркнул Ургеничус. – А у нас теперь вот, господи Иисусе.
– И тебя туда же.
– Ух.
– Уххх.
– Пресвятая Богородица…
6
Я отодвинул толстый рукав пальто.
– Надо же! И впрямь заполночь перевалило.
Праздник у людей!
Мы в такой день обычно зажигали свечку на столе и при ее колыханиях и помаргиваниях закусывали – настроение себе создавали. А потом долго-долго говорили, говорили, пока от слипания глаз по одному от стола не отваливались.
– Там, эта, в седьмой камере купчиха у тебя, – уже другим, помутневшим голосом, пролилось в коридор от Ургеничуса.
– Ну?
– Чё ну? Это… Ты ее сокамерницу, ну… эту.
– Старуху-гадалку?
– Ну ить, переведи куда на часок-другой.
– Чего, в гости сходить решил? – прыснул Пахом. – За сладеньким?
– Это нюхал?
– Шучу я! Шучу!
– А я – нет, – голос сильно посмурел. – Я второй раз не говорю, ты знаешь.
– Ты чего? На полном сурьезе, што ли, к ёй в гости собрался?
– Я похож на шутильника?
– Нет, но…
– Чего?
– Ты ж ёй третьего дни, – напомнил Пахом, – она кровью до сих пор харкает.
– То ж было по работе! – оправдывался Ургеничус. – Понимать надо!
– А теперь на чё?
– А теперь схожу, полечу раны. Я это, хлеба и сала возьму, да?
– Бери, – позволил Пахом и напомнил услужливо. – Тут в бутылке еще, – не досказал, спросил не к месту. – А ну как шум подымет?
– Не подымет! Я ж ей бока отшиб, не память. Помня о первом нашем свидании, покладистей будет.
Я чувствовал себя так, словно, подслушав, стал владельцем великой тайны или обладателем большого информационного повода, если говорить нашим, журналистским языком.
Служивые, потоптавшись, разошлись по своим углам, – кто чего удумал, тот за тем и отправился. А я, достав блокнот и выбрав место посветлее, принялся торопко записывать все, что тут услышал.
– Какой материал, – ликовало все во мне, – какой слог, какие характеры! Да это же бомба! Это почти что научное открытие! У них образования – дай бог, если по три класса на каждого, а любому профессору психологии фору на сто очков вперед дадут! Как точно они человеков изнутрев расковыряли, как ёмко разглядели и вслух высказали!
Дикий азарт захватил меня. Карандаш мой торопился описать каждую мелочь, каждую закавыку в их разговоре. Для удобства своего повествования дежурного по этому подвалу, Пахома, я в своих записях так и обозвал – Дежурный, а второго, с окровавленным животом и густо заросшими волосьями руками Ургеничуса – Молотобойцем. Я не подбирал специально ему клички, как-то само собой получилось. И ведь как точно! И описывать дальше его не надо, хватит тех черт, какие я уже тут ему приписал.
Я рисовал себе картину застолья и расписывал по ролям, кто что да как сказал, какое у него выражение лица было, какой жест и по какому поводу выкинут. Этого я, конечно же, не мог видеть глазами, но по сказанным словам предугадывал, а где и чувствовал интонацию или порыв воздуха.
Проверяя – складно ли получилось, вносил правки, дополнял, делал строку сильнее и объемней. Уже мысленно представлял, как читать в редакции буду – с выражением, с интонациями этих двух простолюдинов. А они будут сидеть круг меня с раскрытыми ртами, а их папироски подымят-подымят оставлено, да и затухнут за ненадобностью. Меня насквозь пронзили такие речи, а я свою пишущую братию напрочь убью, прямым попаданием в их интеллигентские кастрированные сермяжной правдой мозги.
«…добровольно на заклание идут»…
«заранее за все, даже за то, что делом не делали и об чем мыслью не думали – за все отвечать головой готовы»…
И еще.
«…прощения просить готовы только за то, что нам их допрашивать, бить, убивать в трудах работных приходится»…
«…нет, чтобы зараз все взяли и разом же сгинули, а потом бы встали, сами себя в землю закопали и исчезли, как их и не было вовсе»…
История пленила меня, карандашом я не успевал за потоком мыслей. Я даже пошел дальше этого разговора и попытался понять, что же имел в виду Молотобоец, когда сетовал на то, что никчемный народец ничему не противится.
– Почему его, кровно заинтересованного в непротивлении, это непротивление как раз и пугает?
– Ну чего надо-ть? Лови, карай, казни самонапридуманным судом – с тебя какой спрос, к тебе какая претензия? Ты – маленькая пешка, двунадесятый винтик в большом колесе бронированного паровоза, несущегося по просторам Руссии и давящего всё без разбору, лишь бы кому-то что-то местами даже лучше было.
Ан, нет! И у этого винтика в голове еще что-то шевелится, и в ём непонятка живет – для ча?
Он, любой, будучи живым оставленный, если его к какому делу приставить, мог бы чего-то и для мировой революции пользительного сделать, и паровозу бы, скажем, помог, деток бы новых еще настругал. Нужны ведь нам детки? Мы ж всерьез и надолго?!
Эк, куда его, Молотобойца моего, занесло-то.
По моим думам получалось, что он уже наперед себя видит на месте тех, кого ноне тут держит и собственным своим отчаянием кроваво пытает.
Все просто. Жизнь тяжелая и голодная. Мало в ней места для радостей осталось, больше для злости, черноты и обиды. Наобещано за два десятка лет вона сколько, и, вроде, все красиво да с пользой задумано. А не получается что-то по словам ихним. Вот и ищут оправдание своей неловкости.
Кто-то же виноват?
На кого-то же надо свалить вину за неудачи?
Вот он, есть! придуманный образ общего врага. Вон их сколько не нашего семени всходов на поверхности разбросано: с происхождением не тем, с ученостью излишней, с головой, полной неправильных дум. Бери – не хочу! Хватай каждого третьего или там пятого, и не ошибешься. А и ошибешься, не велика беда, никто с тебя за промах твой не спросит, пальчиком не погрозит.
До сих пор мысли эти правильные, под жизненный момент подстроенные.
А ну как кончатся они, такие – удобные?
Проснулись в один светлый день, глянь, а всех этих-таких уже извели?
За кого браться?
На ком никчемность свою утверждать?
В коридоре служивые пьяно шарагатились, о чем-то лениво переговариваясь, менялись согретыми местами. Молотобоец сидел-отдыхал в дежурке, воя себе под нос какую-то неясную песню, а Дежурный ходил в седьмую камеру, чужие раны своим голодным эгоизмом зализывать.
Все это проходило мимо меня.
Уже светать за окном стало, послышался раздвигающий снег надсадный машинный гул, пару раз громыхнул трамвай, а я все писал и писал.
– Вот спасибо редактору, – параллельно писаному скользила моя мысль. – Осенило его, что ли? – меня сюда послал! Да за такой материал я не токмо ночь тут провести готов, а и день прокантоваться! Проставлюсь! Как пить дать, проставлюсь! Всех напою, за мной не заржавеет.
Между делом, не помня когда, сжевал весь хлеб и допил ту бурду, что чаем звалась. А потом и из первой кружки остатнее глотнул, которое мелом противным отдавало.
Кажись, все записал.
Дальше пошли уже мои размышлизмы. И вот на них я начал запинаться. Связного рассказа никак не получалось. Здесь кропотливая работа нужна, особый настрой для глубокого ковыряния. А еще б лучшее, если б кто-то из коллег-бродяг-писак глянул, да слово-другое умное подсказал-подправил.
Я, имея опыт в этом деле, не спасовал, не сбросил в сердцах карандаш, начал рисовать в блокнот урывки мыслей, черточки коротких фраз, даже пятна одиночных емких слов. Знаю, потом, переписывая раз за разом, не только оживлю в памяти всю картинку, но и непременно увижу ее и под новым углом, и в ином свете. И тогда уже точно ничего не упущу, в каждый уголок сознания залезу, каждое случайное слово к строке пристрою.
Иссяк.
А и ну как! Сколь страниц извел!
Да и спал совсем ничего… хотя, нет, спал-то я, вроде и порядком.
Но что-то опять в сон клонит.
Какое-то звериное чутье во мне сработало. Как при пьянке, – хоть глоток на дне, но оставить на утрешную опохмелку.
Я вынул через скрепки из блокнота все исписанные листы, – мой трудяга-блокнот стался на две трети полным, – и засунул их ровным слоем под воротник. Там у меня дырка специальная в шве – заначку от Симы прятать. Под мехом, не знаючи моего секрета, так и не сыщешь, даже и не ущупаешь.
Повалился на шконку, положил голову на так греющие меня листочки моей будущей литературной славы и провалился в сон.
Глава 2 Жизнь Матфея
1
Пробуждение мое было очень тяжелым. Словно мозг потихоньку открывал глаза и чего-то там выглядывал, а все тело, отделенное от меня, продолжало спать глубоким сном.
Попробовал шевелить руками и ногами – импульсы-команды к телу шли неимоверно долго, через полосу препятствий, а руки и ноги, получив их, саботировали, не слушались, отворачивались к стенке и опять погружались в негу.
Но мозг жил.
– С чего так со мной? Я не меньше двух суток в рот не брал. Вчера похмелья уже не было, а сегодня откуда-то наехало? Да, постой-ка, это и не похмелье вовсе. Это что-то другое.
Болезнь? Какая?
– Надо позвать кого-нибудь! – догадался я. Но голоса во мне не было, а был какой-то сип. Я сам еле слышал его, где уж за дверью догадаться?
Попробовал встать со шконки, но только тряпишно перевалился мешком с картошкой на пол.
Полежав, собрал от каждой части тела данью немного сил, прополз пару шагов.
Опять полежал, опять, как капли во время дождя собираются в подставленные ладони, и я скопил еще немного жидкой силы, и неумело расплескал ее по полу.
Но стал еще на шаг ближе к столу.
Магнитом цепляла взгляд алюминиевая кружка с измятыми боками. Я полз к ней, я носом чуял запах воды, и ничего более не существовало для меня: ни странность моей болезни, ни случайность этой камеры – только глоток воды, пусть противно-теплой, пусть с мелом или из придорожной лужи. В этой кружке моя жизнь, мои мысли и моя сила.
Каждая новая остановка была длиннее предыдущей, а каждый следующий бросок вперед – короче.
– Как хорошо, что табурет заделан в пол.
Я дотянулся до его остробокой ножки, поймал холодное железо и потянул.
Табурет подполз ко мне на полступни.
Отдышался, еще потянул.
И опять он немного подполз ко мне.
– Стоп! Как я смотрю? Куда он пополз? Это я ползу, точнее – скольжу по бетонному полу! Упираюсь локтем и пробую подняться.
Моя рука тянется вверх до боли в сухожилии, до судорог в пальцах. Сейчас, только бы не расплескать, только бы там что-то было!
Накаркал…
Вытолкнув из себя руку, ногтем зацепил за верхний ободок кружки и она, качнувшись, медленно завалилась на бок и покатилась, пока не ударилась ручкой о столешницу.
Скользкая вода, журча тоненькой струйкой, полилась на меня.
Я вертелся ленивой змеей, уходил с ее дороги, – пусть лучше льется на пол, чем на мое пальто. С пола я ее слижу! Вот так, упав мордой вниз, всасываю расплющенными по бетону пересохшими губами замешанную на грязи воду, заползаю в неровности бетона языком.
– Давай, давай, еще хоть столько же, хоть полстолька, да хоть на глоточек, язык намочить!
Я – охотник. Мой рот раскрыт, язык в состоянии полной готовности. Да вот только поживиться нам больше нечем. Редкая капля со свистом пролетит вниз и, разбившись на тысячи пылевых брызг, потеряется в шероховатости бетона. А я провожу ее взглядом и замру в ожидании пролета следующей.
Мне хотелось плакать от обиды, мне хотелось выть волком. И я плакал, и я выл, только никто, даже я сам – не слышали этого воя.
В следующий раз я проснулся и нашел себя лежащим на бетонном полу.
Легко встал.
За окном густая темнота. В коридоре, напротив моей двери, горит лампочка. На столе кружка, полная темной жидкости, два куска белого хлеба и глубокая миска с густой кашей.
Включилось соображение, и сразу же наметились поступки.
Первое – надо вызвать кого-то из стражей и выяснить, долго еще мне ждать?
Второе. Посмотреть, который час и уточнить, какой день.
Что за каша в миске?
Как-то само по себе получилось, что я начал с каши. Я даже не понял, из чего она была? Просвистело вместе с хлебом и чаем.
Каши было много, и мой живот натянулся приятной полнотой, тормозя мысли и движения.
Часы показывали без четверти десять.
Вечер.
Должно быть двадцать седьмое.
Я здесь больше суток, и начальник, сам пригласив меня, ну, не конкретно меня, а кого-то из редакции, не может найти время встретиться со мной!
Надо идти домой.
Пусть завтра сам договаривается с редактором и повторно назначает встречу на конкретное время.
– Так он и назначал конкретное время, – вспоминаю я вчерашние события и тут же нахожу себе оправдание. – Я полтора суток его тут ждал. Будем считать, что мы квиты. Вина за опоздание полностью искуплена.
Встал, запахнул полы пальто и шагнул к двери. Занес кулак, чтобы ударить по железу, и не успел. Щелкнул засов, двери приветливо распахнулась на всю свою возможную ширину.
Я стоял нос в нос с Молотобойцем.
Он был в опрятной гимнастерке и в новенькой фуражке – синий верх, малиновый околышек. Лицо его пыталось улыбаться.
– Повечеряли? – спросил он радушно, кивая на пустую миску.
– Да, спасибо, – я был обезоружен таким культурным обращением.
– Курить не желаете? – на его огромной ладони лежала нераспечатанная пачка папирос. Моих, какие я всегда курю. Сверху краснел серным боком новенький коробок спичек.
– Благодарю, – вытекло из меня. – А…
– Начальство два раза до вас приходило, – читая мои мысли, улыбчиво поведал он. – Вы так сладко почивали, что оне будить не велели. И нам от их еще попало, – по секрету, на ушко, как своему близкому приятелю, шепнул он.
– За что? – невольно вырвалось у меня.
– Шумели тут малость, – виновато и вместе с тем озорно почесал он пятерней загривок.
Я отказывался понимать, что такое вокруг меня происходит.
– Дежурный побежал наверх, докладывать, что вы проснулись, – еще больше озадачил меня Молотобоец. – Помыться пока не желаете?
– Чего?
– Тут у нас маленький душ имеется, в ведерке горячей воды для вас вскипятили. Там и полотенце есть, и мыло. Не угодно ли?
Я дернул себя за мочку уха, больно и резко. Но видение не исчезло, а, отступив на шаг, плавным движением руки пригласило пройти в закуток.
Допрежь я видел из этого закутка только угол стола и край скамьи. Сейчас же мог зреть все полностью. Просторное помещение, длинный стол, за которым враз могли спокойно уместиться человек десять, в стене две нешироких окрашенных двери, промеж ними эмалированная в щербинах сколов раковина и медный кран для воды. Одна дверь чуть приоткрыта. Там уборная. К другой подвел меня Молотобоец.
– Лишнюю одёжу можете здесь снять, – показал на лавку и, заметив мой растерянный взгляд, успокоил. – У нас тут чужих нет, воровать некому, – и распахнул широко дверь в помывочную.
Мое замешательство он расценил по своему, бессвязно покрутил руками, потом махнул правой и ушел, оставив меня в закутке помещения и в неразберихе моих дум.
Я заглянул в помывочную.
Табурет, некрашеная скамья, кусок мыла в мыльнице, мочальная вихотка на гвозде и рожок душа. Из его перевернутого гриба падали, посвистывая, скучные крупные капли.
На табурете большое цинковое ведро с дымящейся водой. На скамье потемневший от времени тоже цинковый таз с одной оставшейся в живых дугообразной ручкой и полулитровая кружка вместо ковша.
Даже сквозь одежду я чувствовал, насколько грязно мое немытое тело.
Я боялся, что наваждение пройдет, и я не успею воспользоваться случайным подарком. Быстро освободил свое туловище от одежды и на цыпочках вошел в сырую клетушку. Намыливался, шоркал себя вихоткой до одури, дважды смывал мыло и использовал всю горячую воду, которую, может быть, не на меня одного грели. А потом еще стоял под обжигающей струей ледяной воды, пока лоб и темя не заломило от холода и не раскололо на части.
Когда вышел, глазами уперся в лежавшие на столе две книги, свежую газету, полную кружку дымящегося ароматного чая, пряник на тарелке и посыпанные маком бублики.
Все это богатство не могло прийти само по себе. Но человека, принесшего это, рядом не было.
Настроение мое приходило в соответствие с обстановкой. Я правильно понял, что это все для меня, и даже замурлыкал под нос.
Видимо, теперь служивым объяснили, кто я есть и зачем здесь, и они отдавали мне должное. Хотя, честно говоря, мне совсем не за что было предъявлять им какие ни то претензии. Наоборот, вспоминая о листах, спрятанных в моем воротнике, я даже был им благодарен. Но говорить об этом вслух не стоит. Так, на всякий случай, помолчим.
2
После такой помывки одеть бы чистое.
Морщась, я натянул трусы, майку, сунул ноги в пахнущие ядреным потом носки. Остальное оделось легко. И сел к столу.
Первым делом профессионально, по диагонали, просмотрел газету. Наша, «Пролетарская мысль».
На механическом заводе… на металлургическом… в кинотеатре… поступило в продажу… развелись… будет встреча… рождественские гуляния на площади… детские утренники в дни каникул… продам козу с козленком…
Я три дня точно не был в редакции с этой по… гулянкой, и, по такой причине, упустил часть информации. Вообще-то шеф нас гоняет, заставляет не только выдавать строки, но и смотреть с критической точки зрения материалы коллег. Может запросто спросить, поймав где-нибудь в коридоре, – а что ты скажешь о статье того-то или того-то?! И попробуй, скажи, что не читал! У него фонд есть, каждый месяц то одному, то другому понемногу к оплате подкидывает; мужик щедрый, никогда не жмется, себе не тянет. Не то, что в Свердловске было! А поймает один раз на «неуважении» – так он это называет, – и считай, в свой месяц ты пролетел, соси лапу. И даже за авансом внеплановым не подходи и хорошую, скусную тему другому может отдать.
Ну, его понять можно. С него наверху за каждый номер газеты жилы тянут. А он с нас только в половину от ихнего стружки спускает, как буфер, себе все шишки.
Чай действительно был хорош. Я осилил и пряник, и половину бубликов. Рука потянулась к книгам.
Первая оказалась учебником «Маркшейдерское дело». Вторая поближе. «Жизнь Матвея Кожемякина». Наверное, это все, что нашлось у них тут, и они от души, щедро вывалили на мой стол.