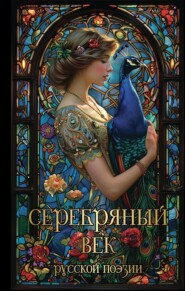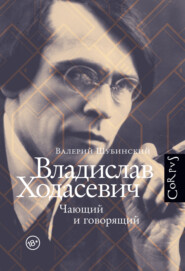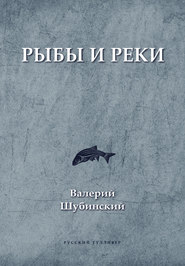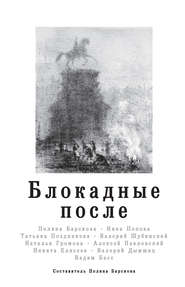По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Игроки и игралища (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
5
В данном случае – да, но потом…
В 1946–1947 годах Заболоцкий, чей голос, как оказалось, был способен после многих лет молчания брать (иногда) ноты прежней силы и высоты, пишет такие блестящие антологические стихи, как «Гроза» или «Бетховен», чей отрешенный аристократизм нес в себе освобождение от обстоятельств времени и места. Обстоятельства эти, однако, вторгались в жизнь и психику, требуя сбавить напряжение до социально приемлемого уровня, разъяснить невнятное, «очеловечить» высокое – это видно уже в грузинском цикле 1947 года, с которого, собственно, и начинается поздний Заболоцкий. Хороший поздний Заболоцкий. Иногда прежняя сила против воли прорывалась: гениальное «Прощание с друзьями» написано в 1952 году, «Сон» – в 1953-м. Это стихи вполне в духе постобэриутской неоклассики середины и второй половины 1930-х; «Прощание с друзьями», возможно, понравилось бы тем, кому оно посвящено (прежде всего Хармсу, о котором Заболоцкий никогда не переставал думать). Правда, здесь нет уже одического напора, а есть жуткая отчетливость нечеловеческого мира, где – «корни, муравьи, травинки, вздохи, столбики из пыли». И «Можжевеловый куст», конечно, хотя он попроще… Но чтобы писать такие стихи регулярно, необходима была такая степень отчужденности от окружающего мира, которая в случае Заболоцкого (с учетом его личности) была бы просто несовместима с нормальной жизнью, зарабатыванием денег и бытовым общением на уровне переделкинских дач.
Был и другой путь, как раз намеченный в «В этой роще березовой»: преодоление внешнего мира не через отчуждение, но через переосмысляющий диалог с ним. В последний раз это получилось в «Лебеде в зоопарке» (1948): превращение кроваво-сусальной сталинской Москвы в загадочную «мировую столицу», населенную дивными зверями во главе с божественным «животным, полным грез» – такой вот советский таможенник Руссо.
Но после этого шедевра начались неизбежные катастрофы, ибо лубок больше не позволил себя переосмыслять. Голос автора оказался слабее голоса материала – потому что если первый путь вел к болезненному отчуждению от окружающего, то этот, второй, был чреват новым открытым конфликтом. А уж этого битый жизнью Заболоцкий не хотел точно. Реакция Твардовского на того же «Лебедя» была показательна («Не молоденький, а все шутите»). Заболоцкий, видимо, внутренне испугавшись, стал в дальнейшем сводить «сдвиг» к косметике, и в результате вместо «вывернутого наизнанку Щипачева/Смелякова/Лебедева-Кумача» раз за разом получался всего лишь доведенный до некоторого формального блеска Щипачев-Смеляков. И именно это полюбил широкий читатель. И если бы только он! Все, вплоть до Вениамина Каверина, Павла Антокольского, Константина Паустовского, «самого» Корнея Чуковского и прочих немного мутировавших старых интеллигентов (почти немедленно после смерти Сталина ставших антисталинистами), совершенно искренне, без всякой игры и задней мысли, восхищались именно «Некрасивой девочкой» и «Журавлями» – хотя все остальное им тоже нравилось.
Так что если изначально в замысле той же «Девочки» (представляющей собой вольный или невольный ремейк стихотворения Надсона, которое цитирует мачеха-Раневская в (шварцевской) «Золушке»: «Красота – это страшная сила») и был (как убедительно доказывает И. Лощилов) элемент пародийности, поэт предпочел в конечном итоге скрыть его даже от себя самого. И уж конечно, при таких обстоятельствах ему не удалось, не могло удасться доведение этой пародийности до новой, иной серьезности[19 - С «Журавлями» тоже есть сложность. Банальность текста как такового в данном случае может быть и косметической. Есть не лишенная логики гипотеза, что это стихотворение – отклик на убийство Михоэлса. Это не только очень хорошо говорило бы о Заболоцком как о человеке, но и придавало бы банальному образу и банальным риторическим конструкциям некий объем.]. Поэтому наряду с «хорошим» поздним Заболоцким существует «плохой» – тот, что и был в основном представлен в антологии «Русские поэты». Но, как ни парадоксально, именно этот, на наш (то есть прежде всего на мой личный) взгляд «плохой» и насквозь советский поэт, и при том любимец тысяч читателей – он появился в известной мере в результате последней попытки «переиграть» внешний мир, попытки робкой, неудачной, но, по истокам своим, как ни парадоксально, обэриутской. Не будь этой попытки и порожденных ей «плохих»[20 - Кроме уже упомянутых, к такого рода «плохим» стихотворениям относятся, к примеру, «Жена», «Старая актриса» (но тут даже сам Заболоцкий понимал свою неудачу), «Это было давно», «Стирка белья», «Смерть врача».] стихов и, с другой стороны, не будь нескольких случайных шедевров, можно было бы сказать, что великий Заболоцкий, устав, просто редуцировал себя до скромного, но благородного уровня Давида Самойлова или Марии Петровых.
Но ту березовую рощу и птицу иволгу он взял с собой в рай, в котором он, по моей вере, находится.
Фехтование невидимой шпагой[21 - Впервые опубликовано: Русская проза. 2011. Выпуск А.]
1
«Открытие» писателя Андрея Николева началось с его поэзии – и это совершенно закономерно. При всей количественной малости наследия (около полусотни коротких стихотворений и поэма «Беспредметная юность») и его подчеркнутой «камерности», социокультурной непритязательности, переоценить его трудно. Николев почти в одиночку воплотил уникальный способ существования «бывшего человека» в среднесоветскую эпоху.
Иные – как Всеволод Рождественский или Павел Антокольский – полностью отказывались от сущностной части своего поэтического «я», что давало возможность успешно продавать единственному покупателю технические навыки и эмпирические знания. Иные, самые талантливые и смелые, вступали с новой языковой и культурной реальностью в сложный и конфликтный диалог – это был прежде всего путь Мандельштама, но также путь Вагинова – самого близкого к Николеву поэта. Третьи, как Шенгели, ни в чем не менялись, и все же рассчитывали на достойный статус в новой словесности, наивно полагая, что достаточно политической и идеологической лояльности.
Николев отбросил все унаследованные темы и идеи – все, кроме сущности, кроме дыхания, интонации, голоса; голоса, несущего легчайшие следы былых смыслов, а ныне говорящего о пустяках, пока не оказывается, что речь идет о пустоте – то есть обо всем, о вечном, о всеобъемлющем.
Не в комнате, а в Нем одном
(свет запредельный за окном)
сижу и словно каюсь.
Такой-то час, такой-то день —
в число любое миг одень,
к которому я прикасаюсь.
И еще:
Я живу близ большущей речищи,
где встречается много воды,
много, да, и я мог бы быть чище,
если б я не был я, и не ты.
О играй мне про рай – на гитаре
иль на ангелах или на мне —
понимаешь? ну вот и так дале,
как тот отблеск в далеком окне.
Возникающие в этом прозрачном до последней степени мире реалии внешнего мира (нового мира, само собой) воспринимаются с отчужденным удивлением. Автор – всего лишь носитель этого удивления, он как будто скрыт за занавесом. Поэтому он кажется «загадочным», хотя, казалось бы, Андрей Николаевич Егунов, филолог-классик, переводчик Платона и позднеантичной прозы, автор монографии о переводах Гомера, живший, когда позволяли общественно-политические обстоятельства, то есть до 1933 и после 1956 года, в Ленинграде, многим знакомый, обладатель типичной для интеллектуалов его поколения драматической биографии, таинственной личностью не был.
Но как раз в биографии обнаруживается «двойное дно». История про бывшего ссыльного, попавшего в качестве остарбайтера в Германию, в американскую зону оккупации, патриотично перешедшего в советскую зону и без всяких оснований арестованного НКВД, стала рассыпаться уже в 1990-е годы при знакомстве со следственным делом: на самом деле Егунов перешел, наоборот, из советской зоны к американцам и был ими выдан. Совсем недавно выяснилось, что и в Германию он попал, судя по всему, не как остарбайтер, а добровольно: в Новгороде, где Егунов осел в 1938 году после томской ссылки, он в дни оккупации оказался замешан (видимо, под влиянием своего знакомого Бориса Филистинского, впоследствии крупного литературоведа и поэта Второй эмиграции Бориса Филиппова) в коллаборационистской деятельности. Насколько серьезно замешан – большой вопрос, так как историк Б. Ковалев, исследовавший жизнь Новгорода «под немцами», путает Андрея Егунова с его братом Александром, тоже писателем, тоже оказавшимся в это время в Новгороде, но в любом случае речь не идет о чем-то большем, чем пропагандистская работа на оккупантов. Однако по нормам военного времени, тем более советским, это была измена. Если эти сведения верны, осуждение только за попытку перехода к союзникам было удачей.
При чтении стихов Николева кажется, что их автор мог соприкасаться с жестокостью и грязью века разве что страдательно – настолько летуча, ангеловидна его природа. В действительности Андрей Егунов был человеком из плоти и крови, подверженным естественным соблазнам, включая, вероятно, соблазны власти, успеха и органической связи с социумом, и его путь был сложен, как у всех людей его поколения. Забывать об этом не стоит, особенно при чтении единственного его опубликованного и сохранившегося романа – «По ту сторону Тулы».
2
Массимо Маурицио, автор наиболее содержательной статьи о романе[22 - Доклад на конференции «Феномен заглавия» в РГГУ за 2005/06 год (http://science.rggu.ru/article.html?id=51150).], напоминает источник названия – древнегреческий эпос «Чудеса по ту сторону Фулы» Антония Диогена (I–II века н. э.), «который сам Егунов упоминает среди „низовых“ произведений древнегреческой литературы», своего рода античный приключенческий роман. Отсылка ироническая, ибо в книге Егунова не происходит никаких реальных «приключений», тем более фантастических, чудесных.
Дальше Маурицио касается иной, лежащей на поверхности не только для филолога-классика ассоциации. Фула, или Туле, ассоциировалась в 1920-е годы с оккультными теориями, широкому читателю (в том числе и в СССР) известными, в частности, по роману Г. Майринка «Ангел Западного окна». Роман этот в 1920-е годы читал Кузмин, отсылки к нему есть в «Форели»[23 - Элементы этих мистических теорий использовались в нацистской пропаганде; можно предположить, что Егунов в лекциях, которые ему пришлось читать в 1941–1943 годах в Новгороде, мог касаться этой темы, по-своему ее перетолковывая.].
Ultima Thule – крайняя северная точка мира (отождествляемая с Исландией или Гренландией), предмет устремлений, место волшебного преображения. Другим словом – революция. Мир, в котором живут герои, – мир по ту сторону этой точки. В то же время речь как будто идет всего лишь о мире «по ту сторону Тулы», то есть о (глазами петербуржца) «внутренней России», наполовину воображаемой, наполовину книжной, центральным пунктом которой является святилище мертвого Льва – Ясная Поляна.
И уже это определяет конфигурацию романа, его исходные точки: хрупкий внутренний мир петербуржца постпетербургской эпохи, мифы, которые он таскает с собой; новая жизнь с обязательными приметами, такими как индустриализация, и порожденные этой жизнью идеологемы; внутренняя российская жизнь, увиденная сквозь приемы и сюжетные ходы классической прозы, и эти ходы сами по себе, отдельно взятые, как объект игры.
Здесь опять стоит вспомнить Вагинова, его романы: ведь исходная структура их не так уж далека от только что описанной. В «Козлиной песни» автор еще явно на стороне «бывших» и готов отстаивать их мир во всей его самоочевидной декадентской вымороченности; дальше – особенно в «Бамбочаде» и в «Гарпагониане», ценой сохранения тонкости и трепетности бывших людей оказывается статус безобидных и бесплодных чудаков или мелких авантюристов. И здесь возникает призрак третьего писателя – Юрия Олеши, очень отдаленного от Вагинова и Егунова биографически и стилистически, но не по мироощущению.
Понятно, что пара Кавалеров – Бабичев есть лишь проекция более ранней пары Обломов – Штольц. Отношения николевских Сергея Сергеевича и Федора Федоровича – в этом же ряду, но своеобразны прежде всего тем, что Сергей Сергеевич, специалист по исландской литературе, работающий пишбарышней в управлении петергофских музеев, – сам писатель. А энтузиастически преданный идее соцстроительства Федор Федорович Стратилат, молодой горный инженер, руководящий устройством дудок (шахт без крепей, объясняет словарь Ушакова) в деревне под Тулой, – его персонаж и/или предполагаемый прототип его персонажа. Олеша передоверяет Кавалерову-рассказчику свое великолепное зрение, но не свою писательскую субъектность; герой реален в той же степени, что и мир, о котором он говорит, – не больше. Роман Николева – книга про писателя, его труд и его материал.
И здесь мы снова вспоминаем Вагинова – «Труды и дни Свистонова». С тем важным отличием, что границы между миром преждепребывающим и миром описанным, между природой природной и природой природствующей у Николева несравнимо более зыбки. Уже сами по себе изысканно-пародийные повествовательные приемы сигнализируют об условности происходящего. Дело не в том, что текст начинается с полуслова (описание прибытия Сергея в деревню следует ближе к концу романа), не в границах между главами, проходящими в середине фразы, не во псевдопропущенных главах, не в слияниях и расхождениях одноименных персонажей, даже не в загадочной попутчице Сергея, которая есть не кто иная, как Елена Троянская. Дело – в цитатности, причем двуслойной.
С одной стороны, хлебосольная и забывчивая бабушка Федора, его мать-актриса, эксцентричная провинциалка Леокадия, за которой как бы ухаживают герои, даже попадья, к концу книги загадочно превращающаяся в акушерку, – несомненные гости из русской прозы XIX века, от Тургенева до Чехова и от Толстого до Лескова. Но поверх этого слоя ложится другой, и это – явственные аллюзии к массовой советской беллетристике 1920-х годов и стоящим за ней идеологическим схемам.
Вот – посещение Сергеем и Федором неких «соседей», как становится ясно – неких воображаемых дворян столетней давности. Сначала – стереотипное описание усадьбы, потом…
Клумбы с цветущими розанами расположились по обе стороны. Но ярче розанов алело что-то другое, как раз то, чего и устыдился Федор.
Появились розги, и уже от первого их хлестанья проступили полосы, на мгновенье белые и сразу затем багровые. Лица парня, лежавшего ничком, не было видно. Криков тоже не раздавалось; порка протекала благолепно и не мешала Зюзи ходить в тени лип с французской книжкой в руках.
Сцена заканчивается совершенно гротескно: старик-отец умирает от удара, узнав, что его гости не только не «из гусар», но и не очень дворяне, а дальше:
Федор запел:
– …До основанья, а затем…
Все зашаталось. Мелькнул тонкий запах воздуха под сводами вековых лип, траченный молью судейский мундир, белая фуражка с дворянской кокардой…
И здесь оборвем цитату: и так уже ясно, как псевдоречь переходит в речь.
Дальше – больше. Появляется вкрадчивый кулак со специально кулацким именем Сысоич, с «Девятым валом» на стене и (подразумевается) припрятанным обрезом; рядом подозрительный Мотя, который «не пьет, не курит, не ругается, зато «жаждет новых ощущений», для чего исполняет роль мясника на деревне» (а телят режет, декламируя Есенина[24 - Не забудем: кампания по борьбе с «есенинщиной» в самом разгаре, причем связанная с начинающейся коллективизацией, хотя одним из инициаторов ее был (по иронии судьбы) правый уклонист Бухарин.]). Следующий шаг – описание подлого убийства Федора Стратилата (как оказывается, случившегося лишь в воображении Сергея).
Едва ли не самый яркий пример двуслойности – кооператор Сергей Сергеевич, тезка главного героя: одновременно чеховский комический провинциал и вороватый торговый работник, припрятывающий дефицит, из советской благонамеренной сатиры, вплоть до Жванецкого. Правда, в контексте 1929–1930 годов он оказывается не просто вором, а как бы не зловещим вредителем, который «скоро выйдет из подполья».
Под конец Сергей начинает «кроить» в своем воображении будущую повесть, в которой Федор превращается в оперного певца (или даже певицу), повесть, в которой беллетристические штампы сочетаются со штампами идеологическими:
Народный артист изменяет революции и остается за границей, ходит по гостям с банкой зернистой икры в кармане, которую поедает чайной ложкой, негодуя о конфискованных своих домах, но Федор Стратилат верно служит народному делу.
Случайно ему приходится выступать в Ясной Поляне. С Федором рядом стоит жгучая красавица, вывезенная им из Тулузы… Но местное кулачье, возглавляемое попом, не дремлет. Когда Федор спит, оно подкрадывается к нему и вырезает ему голосовые связки.
Это уж чистый Хармс (косвенно соприкасаться с которым Егунов должен был, хотя о прямом знакомстве свидетельств нет). Потом «кулачье» превращается в «фашистов», а местный поп… в папу римского.
Но, похоже, та реальность, в которой действует зловещий Сысоич, а Федор вместо пения роет «дудки», точно так же «скроена», хотя и не так откровенно пародийна. Закрадывается подозрение, что в данном случае Штольц со всем до него надлежащим в значительной мере, если не полностью, порожден воображением или творческим даром Обломова. В сущности, несомненным оказывается лишь внутренний мир писателя и специалиста по исландской литературе, пишбарышни мужеска пола из управления петергофских музеев, хрупкого и насмешливого петербуржца последнейшей выточки.
Именно поэтому в романе, в сущности, ничего не происходит.
Мать Федора, «Лямер», между прочим говорит:
В данном случае – да, но потом…
В 1946–1947 годах Заболоцкий, чей голос, как оказалось, был способен после многих лет молчания брать (иногда) ноты прежней силы и высоты, пишет такие блестящие антологические стихи, как «Гроза» или «Бетховен», чей отрешенный аристократизм нес в себе освобождение от обстоятельств времени и места. Обстоятельства эти, однако, вторгались в жизнь и психику, требуя сбавить напряжение до социально приемлемого уровня, разъяснить невнятное, «очеловечить» высокое – это видно уже в грузинском цикле 1947 года, с которого, собственно, и начинается поздний Заболоцкий. Хороший поздний Заболоцкий. Иногда прежняя сила против воли прорывалась: гениальное «Прощание с друзьями» написано в 1952 году, «Сон» – в 1953-м. Это стихи вполне в духе постобэриутской неоклассики середины и второй половины 1930-х; «Прощание с друзьями», возможно, понравилось бы тем, кому оно посвящено (прежде всего Хармсу, о котором Заболоцкий никогда не переставал думать). Правда, здесь нет уже одического напора, а есть жуткая отчетливость нечеловеческого мира, где – «корни, муравьи, травинки, вздохи, столбики из пыли». И «Можжевеловый куст», конечно, хотя он попроще… Но чтобы писать такие стихи регулярно, необходима была такая степень отчужденности от окружающего мира, которая в случае Заболоцкого (с учетом его личности) была бы просто несовместима с нормальной жизнью, зарабатыванием денег и бытовым общением на уровне переделкинских дач.
Был и другой путь, как раз намеченный в «В этой роще березовой»: преодоление внешнего мира не через отчуждение, но через переосмысляющий диалог с ним. В последний раз это получилось в «Лебеде в зоопарке» (1948): превращение кроваво-сусальной сталинской Москвы в загадочную «мировую столицу», населенную дивными зверями во главе с божественным «животным, полным грез» – такой вот советский таможенник Руссо.
Но после этого шедевра начались неизбежные катастрофы, ибо лубок больше не позволил себя переосмыслять. Голос автора оказался слабее голоса материала – потому что если первый путь вел к болезненному отчуждению от окружающего, то этот, второй, был чреват новым открытым конфликтом. А уж этого битый жизнью Заболоцкий не хотел точно. Реакция Твардовского на того же «Лебедя» была показательна («Не молоденький, а все шутите»). Заболоцкий, видимо, внутренне испугавшись, стал в дальнейшем сводить «сдвиг» к косметике, и в результате вместо «вывернутого наизнанку Щипачева/Смелякова/Лебедева-Кумача» раз за разом получался всего лишь доведенный до некоторого формального блеска Щипачев-Смеляков. И именно это полюбил широкий читатель. И если бы только он! Все, вплоть до Вениамина Каверина, Павла Антокольского, Константина Паустовского, «самого» Корнея Чуковского и прочих немного мутировавших старых интеллигентов (почти немедленно после смерти Сталина ставших антисталинистами), совершенно искренне, без всякой игры и задней мысли, восхищались именно «Некрасивой девочкой» и «Журавлями» – хотя все остальное им тоже нравилось.
Так что если изначально в замысле той же «Девочки» (представляющей собой вольный или невольный ремейк стихотворения Надсона, которое цитирует мачеха-Раневская в (шварцевской) «Золушке»: «Красота – это страшная сила») и был (как убедительно доказывает И. Лощилов) элемент пародийности, поэт предпочел в конечном итоге скрыть его даже от себя самого. И уж конечно, при таких обстоятельствах ему не удалось, не могло удасться доведение этой пародийности до новой, иной серьезности[19 - С «Журавлями» тоже есть сложность. Банальность текста как такового в данном случае может быть и косметической. Есть не лишенная логики гипотеза, что это стихотворение – отклик на убийство Михоэлса. Это не только очень хорошо говорило бы о Заболоцком как о человеке, но и придавало бы банальному образу и банальным риторическим конструкциям некий объем.]. Поэтому наряду с «хорошим» поздним Заболоцким существует «плохой» – тот, что и был в основном представлен в антологии «Русские поэты». Но, как ни парадоксально, именно этот, на наш (то есть прежде всего на мой личный) взгляд «плохой» и насквозь советский поэт, и при том любимец тысяч читателей – он появился в известной мере в результате последней попытки «переиграть» внешний мир, попытки робкой, неудачной, но, по истокам своим, как ни парадоксально, обэриутской. Не будь этой попытки и порожденных ей «плохих»[20 - Кроме уже упомянутых, к такого рода «плохим» стихотворениям относятся, к примеру, «Жена», «Старая актриса» (но тут даже сам Заболоцкий понимал свою неудачу), «Это было давно», «Стирка белья», «Смерть врача».] стихов и, с другой стороны, не будь нескольких случайных шедевров, можно было бы сказать, что великий Заболоцкий, устав, просто редуцировал себя до скромного, но благородного уровня Давида Самойлова или Марии Петровых.
Но ту березовую рощу и птицу иволгу он взял с собой в рай, в котором он, по моей вере, находится.
Фехтование невидимой шпагой[21 - Впервые опубликовано: Русская проза. 2011. Выпуск А.]
1
«Открытие» писателя Андрея Николева началось с его поэзии – и это совершенно закономерно. При всей количественной малости наследия (около полусотни коротких стихотворений и поэма «Беспредметная юность») и его подчеркнутой «камерности», социокультурной непритязательности, переоценить его трудно. Николев почти в одиночку воплотил уникальный способ существования «бывшего человека» в среднесоветскую эпоху.
Иные – как Всеволод Рождественский или Павел Антокольский – полностью отказывались от сущностной части своего поэтического «я», что давало возможность успешно продавать единственному покупателю технические навыки и эмпирические знания. Иные, самые талантливые и смелые, вступали с новой языковой и культурной реальностью в сложный и конфликтный диалог – это был прежде всего путь Мандельштама, но также путь Вагинова – самого близкого к Николеву поэта. Третьи, как Шенгели, ни в чем не менялись, и все же рассчитывали на достойный статус в новой словесности, наивно полагая, что достаточно политической и идеологической лояльности.
Николев отбросил все унаследованные темы и идеи – все, кроме сущности, кроме дыхания, интонации, голоса; голоса, несущего легчайшие следы былых смыслов, а ныне говорящего о пустяках, пока не оказывается, что речь идет о пустоте – то есть обо всем, о вечном, о всеобъемлющем.
Не в комнате, а в Нем одном
(свет запредельный за окном)
сижу и словно каюсь.
Такой-то час, такой-то день —
в число любое миг одень,
к которому я прикасаюсь.
И еще:
Я живу близ большущей речищи,
где встречается много воды,
много, да, и я мог бы быть чище,
если б я не был я, и не ты.
О играй мне про рай – на гитаре
иль на ангелах или на мне —
понимаешь? ну вот и так дале,
как тот отблеск в далеком окне.
Возникающие в этом прозрачном до последней степени мире реалии внешнего мира (нового мира, само собой) воспринимаются с отчужденным удивлением. Автор – всего лишь носитель этого удивления, он как будто скрыт за занавесом. Поэтому он кажется «загадочным», хотя, казалось бы, Андрей Николаевич Егунов, филолог-классик, переводчик Платона и позднеантичной прозы, автор монографии о переводах Гомера, живший, когда позволяли общественно-политические обстоятельства, то есть до 1933 и после 1956 года, в Ленинграде, многим знакомый, обладатель типичной для интеллектуалов его поколения драматической биографии, таинственной личностью не был.
Но как раз в биографии обнаруживается «двойное дно». История про бывшего ссыльного, попавшего в качестве остарбайтера в Германию, в американскую зону оккупации, патриотично перешедшего в советскую зону и без всяких оснований арестованного НКВД, стала рассыпаться уже в 1990-е годы при знакомстве со следственным делом: на самом деле Егунов перешел, наоборот, из советской зоны к американцам и был ими выдан. Совсем недавно выяснилось, что и в Германию он попал, судя по всему, не как остарбайтер, а добровольно: в Новгороде, где Егунов осел в 1938 году после томской ссылки, он в дни оккупации оказался замешан (видимо, под влиянием своего знакомого Бориса Филистинского, впоследствии крупного литературоведа и поэта Второй эмиграции Бориса Филиппова) в коллаборационистской деятельности. Насколько серьезно замешан – большой вопрос, так как историк Б. Ковалев, исследовавший жизнь Новгорода «под немцами», путает Андрея Егунова с его братом Александром, тоже писателем, тоже оказавшимся в это время в Новгороде, но в любом случае речь не идет о чем-то большем, чем пропагандистская работа на оккупантов. Однако по нормам военного времени, тем более советским, это была измена. Если эти сведения верны, осуждение только за попытку перехода к союзникам было удачей.
При чтении стихов Николева кажется, что их автор мог соприкасаться с жестокостью и грязью века разве что страдательно – настолько летуча, ангеловидна его природа. В действительности Андрей Егунов был человеком из плоти и крови, подверженным естественным соблазнам, включая, вероятно, соблазны власти, успеха и органической связи с социумом, и его путь был сложен, как у всех людей его поколения. Забывать об этом не стоит, особенно при чтении единственного его опубликованного и сохранившегося романа – «По ту сторону Тулы».
2
Массимо Маурицио, автор наиболее содержательной статьи о романе[22 - Доклад на конференции «Феномен заглавия» в РГГУ за 2005/06 год (http://science.rggu.ru/article.html?id=51150).], напоминает источник названия – древнегреческий эпос «Чудеса по ту сторону Фулы» Антония Диогена (I–II века н. э.), «который сам Егунов упоминает среди „низовых“ произведений древнегреческой литературы», своего рода античный приключенческий роман. Отсылка ироническая, ибо в книге Егунова не происходит никаких реальных «приключений», тем более фантастических, чудесных.
Дальше Маурицио касается иной, лежащей на поверхности не только для филолога-классика ассоциации. Фула, или Туле, ассоциировалась в 1920-е годы с оккультными теориями, широкому читателю (в том числе и в СССР) известными, в частности, по роману Г. Майринка «Ангел Западного окна». Роман этот в 1920-е годы читал Кузмин, отсылки к нему есть в «Форели»[23 - Элементы этих мистических теорий использовались в нацистской пропаганде; можно предположить, что Егунов в лекциях, которые ему пришлось читать в 1941–1943 годах в Новгороде, мог касаться этой темы, по-своему ее перетолковывая.].
Ultima Thule – крайняя северная точка мира (отождествляемая с Исландией или Гренландией), предмет устремлений, место волшебного преображения. Другим словом – революция. Мир, в котором живут герои, – мир по ту сторону этой точки. В то же время речь как будто идет всего лишь о мире «по ту сторону Тулы», то есть о (глазами петербуржца) «внутренней России», наполовину воображаемой, наполовину книжной, центральным пунктом которой является святилище мертвого Льва – Ясная Поляна.
И уже это определяет конфигурацию романа, его исходные точки: хрупкий внутренний мир петербуржца постпетербургской эпохи, мифы, которые он таскает с собой; новая жизнь с обязательными приметами, такими как индустриализация, и порожденные этой жизнью идеологемы; внутренняя российская жизнь, увиденная сквозь приемы и сюжетные ходы классической прозы, и эти ходы сами по себе, отдельно взятые, как объект игры.
Здесь опять стоит вспомнить Вагинова, его романы: ведь исходная структура их не так уж далека от только что описанной. В «Козлиной песни» автор еще явно на стороне «бывших» и готов отстаивать их мир во всей его самоочевидной декадентской вымороченности; дальше – особенно в «Бамбочаде» и в «Гарпагониане», ценой сохранения тонкости и трепетности бывших людей оказывается статус безобидных и бесплодных чудаков или мелких авантюристов. И здесь возникает призрак третьего писателя – Юрия Олеши, очень отдаленного от Вагинова и Егунова биографически и стилистически, но не по мироощущению.
Понятно, что пара Кавалеров – Бабичев есть лишь проекция более ранней пары Обломов – Штольц. Отношения николевских Сергея Сергеевича и Федора Федоровича – в этом же ряду, но своеобразны прежде всего тем, что Сергей Сергеевич, специалист по исландской литературе, работающий пишбарышней в управлении петергофских музеев, – сам писатель. А энтузиастически преданный идее соцстроительства Федор Федорович Стратилат, молодой горный инженер, руководящий устройством дудок (шахт без крепей, объясняет словарь Ушакова) в деревне под Тулой, – его персонаж и/или предполагаемый прототип его персонажа. Олеша передоверяет Кавалерову-рассказчику свое великолепное зрение, но не свою писательскую субъектность; герой реален в той же степени, что и мир, о котором он говорит, – не больше. Роман Николева – книга про писателя, его труд и его материал.
И здесь мы снова вспоминаем Вагинова – «Труды и дни Свистонова». С тем важным отличием, что границы между миром преждепребывающим и миром описанным, между природой природной и природой природствующей у Николева несравнимо более зыбки. Уже сами по себе изысканно-пародийные повествовательные приемы сигнализируют об условности происходящего. Дело не в том, что текст начинается с полуслова (описание прибытия Сергея в деревню следует ближе к концу романа), не в границах между главами, проходящими в середине фразы, не во псевдопропущенных главах, не в слияниях и расхождениях одноименных персонажей, даже не в загадочной попутчице Сергея, которая есть не кто иная, как Елена Троянская. Дело – в цитатности, причем двуслойной.
С одной стороны, хлебосольная и забывчивая бабушка Федора, его мать-актриса, эксцентричная провинциалка Леокадия, за которой как бы ухаживают герои, даже попадья, к концу книги загадочно превращающаяся в акушерку, – несомненные гости из русской прозы XIX века, от Тургенева до Чехова и от Толстого до Лескова. Но поверх этого слоя ложится другой, и это – явственные аллюзии к массовой советской беллетристике 1920-х годов и стоящим за ней идеологическим схемам.
Вот – посещение Сергеем и Федором неких «соседей», как становится ясно – неких воображаемых дворян столетней давности. Сначала – стереотипное описание усадьбы, потом…
Клумбы с цветущими розанами расположились по обе стороны. Но ярче розанов алело что-то другое, как раз то, чего и устыдился Федор.
Появились розги, и уже от первого их хлестанья проступили полосы, на мгновенье белые и сразу затем багровые. Лица парня, лежавшего ничком, не было видно. Криков тоже не раздавалось; порка протекала благолепно и не мешала Зюзи ходить в тени лип с французской книжкой в руках.
Сцена заканчивается совершенно гротескно: старик-отец умирает от удара, узнав, что его гости не только не «из гусар», но и не очень дворяне, а дальше:
Федор запел:
– …До основанья, а затем…
Все зашаталось. Мелькнул тонкий запах воздуха под сводами вековых лип, траченный молью судейский мундир, белая фуражка с дворянской кокардой…
И здесь оборвем цитату: и так уже ясно, как псевдоречь переходит в речь.
Дальше – больше. Появляется вкрадчивый кулак со специально кулацким именем Сысоич, с «Девятым валом» на стене и (подразумевается) припрятанным обрезом; рядом подозрительный Мотя, который «не пьет, не курит, не ругается, зато «жаждет новых ощущений», для чего исполняет роль мясника на деревне» (а телят режет, декламируя Есенина[24 - Не забудем: кампания по борьбе с «есенинщиной» в самом разгаре, причем связанная с начинающейся коллективизацией, хотя одним из инициаторов ее был (по иронии судьбы) правый уклонист Бухарин.]). Следующий шаг – описание подлого убийства Федора Стратилата (как оказывается, случившегося лишь в воображении Сергея).
Едва ли не самый яркий пример двуслойности – кооператор Сергей Сергеевич, тезка главного героя: одновременно чеховский комический провинциал и вороватый торговый работник, припрятывающий дефицит, из советской благонамеренной сатиры, вплоть до Жванецкого. Правда, в контексте 1929–1930 годов он оказывается не просто вором, а как бы не зловещим вредителем, который «скоро выйдет из подполья».
Под конец Сергей начинает «кроить» в своем воображении будущую повесть, в которой Федор превращается в оперного певца (или даже певицу), повесть, в которой беллетристические штампы сочетаются со штампами идеологическими:
Народный артист изменяет революции и остается за границей, ходит по гостям с банкой зернистой икры в кармане, которую поедает чайной ложкой, негодуя о конфискованных своих домах, но Федор Стратилат верно служит народному делу.
Случайно ему приходится выступать в Ясной Поляне. С Федором рядом стоит жгучая красавица, вывезенная им из Тулузы… Но местное кулачье, возглавляемое попом, не дремлет. Когда Федор спит, оно подкрадывается к нему и вырезает ему голосовые связки.
Это уж чистый Хармс (косвенно соприкасаться с которым Егунов должен был, хотя о прямом знакомстве свидетельств нет). Потом «кулачье» превращается в «фашистов», а местный поп… в папу римского.
Но, похоже, та реальность, в которой действует зловещий Сысоич, а Федор вместо пения роет «дудки», точно так же «скроена», хотя и не так откровенно пародийна. Закрадывается подозрение, что в данном случае Штольц со всем до него надлежащим в значительной мере, если не полностью, порожден воображением или творческим даром Обломова. В сущности, несомненным оказывается лишь внутренний мир писателя и специалиста по исландской литературе, пишбарышни мужеска пола из управления петергофских музеев, хрупкого и насмешливого петербуржца последнейшей выточки.
Именно поэтому в романе, в сущности, ничего не происходит.
Мать Федора, «Лямер», между прочим говорит: