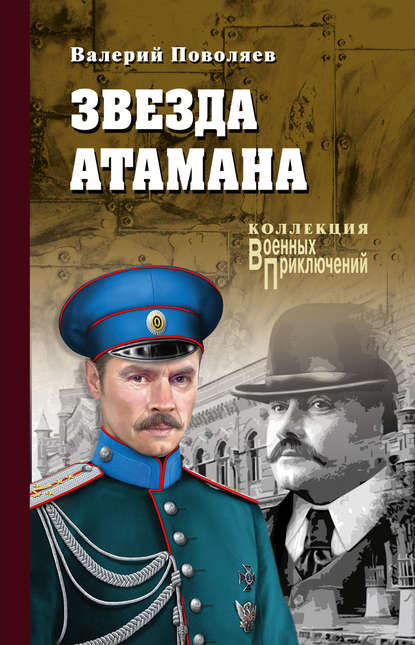По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Звезда атамана
Год написания книги
2018
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Не удержался Зильберг, довольно потер руки:
– Й-йесть! Осталось только захлопнуть клетку.
Силы на Куприяновскую улицу были стянуты изрядные – мышь не проскочит.
В общем, Котовскому не уйти. Жандармские головы разве что из труб соседних домов не выглядывали, а так они были везде, торчали, словно тыквы на плетнях в урожайный год, куда ни кинь взгляд – всюду тыквы, тыквы, тыквы… Хорошо, время зимнее на дворе стоит, – ничего не видно, темень, – Котовский не обнаружил некоторых очень заметных вещей.
Но и заходить в дом к Котовскому облава боялась – изуродует ведь всех. Если не пулями, то кулаками.
А ловкостью и силой Котовский обладал редкостными, в борьбе мог уложить на земле рядком до полуроты солдат, – такая слава шла об этом человеке, и шустрый помощник пристава это знал.
– Что делать будем? – обратился к Зильбергу пехотный поручик. – Бандит в доме, чего ждать-то, а? Может, начнем штурм?
– Не будет никакого штурма, – покачал головой Зильберг, – не надо. Возьмем тихо, комариного писка никто не услышит.
– Это как? – поинтересовался поручик.
– Когда Котовский выйдет из дома, навалимся на него с перевесом, хорошим числом, руки скрутим, вот и все.
Поручик задумчиво приподнял одно плечо, потом другое, пошмыгал носом и отошел в сторону: никакой многомудрый козел не поймет этих полицейских. Действовали бы сами, не привлекая солдат – наверняка для всех лучше было бы. А быть у них в пристяжных – штука противная.
В конце концов так и поступили, как велел этот полицейский пшют: брали Котовского, когда тот, ни о чем не подозревая, вышел из дома, – даже оглядеться не успел, как на него с воем, толкаясь, мешая друг другу, словно полчище саранчи, налетели полицейские, жандармы, солдаты. Натянули на руки пеньковую веревку.
Котовский не сопротивлялся – понял, что бесполезно, только набычился угрюмо, уперся ногами в крыльцо, чтобы не завалили, да головой иногда крутил.
Увидев Зильберга, предупредил его:
– Тебе это даром не пройдет, Иуда!
Помощник пристава нервно вздернул голову.
– Прошу мне не угрожать!
В ответ – грустная усмешка Котовского: не разглядел он этого человека, не понял, что у него внутри, ошибся, думал, что все вопросы решают деньги, но денег Зильбергу оказалось мало…
Зильберг знал, что делал, – за Котовского он получил хороший куш из казны полицейского управления – две новеньких, вкусно хрустящих пятисотрублевых кредитки.
В доме номер девять на улице Куприянова до самого вечера проходил обыск: полицейские думали, что найдут здесь и оружие, и патроны, и взрывчатку, и нелегальную марксистскую литературу, которой начал увлекаться Котовский, и естественно, деньги – большие суммы денег, богатство купцов и помещиков, которых в последнее время так усердно тряс Григорий Иванович – несколько месяцев потратил на это.
Увы, не нашли. Вот что оказалось в результате в их руках: записная книжка, из которой мало чего можно было понять, новенькая театральная маска, свисток и четыре рубля двадцать пять копеек наличности: мятая трешка, рубль и две потертые серебряные монеты – гривенник и пятиалтынный, десять и пятнадцать копеек.
Зильберг чуть на потолок не полез, увидев, насколько мал его улов, уже вцепился руками в портьеру и занес ногу, и если бы не пехотный поручик, отогнавший помощника пристава в сторону едкими словами, то Зильберг, может быть, и вскарабкался на потолок.
Котовский с усмешкой посмотрел на Зильберга и, качнув головой, произнес многозначительную фразу:
– У вас все впереди… Как у царя Соломона.
Восемнадцатого же февраля, во второй половине дня, были арестованы и закованы в кандалы помощники Григория Ивановича Прокопий Демьянишин и Игнатий Пушкарев, были задержаны также хозяйки двух конспиративных квартир Акулина Жосан и Ирина Бессараб. Словом, обкладывали Котовского плотно, обстоятельно, умело.
Вскоре список арестованных увеличился.
– Мы теперь не только города, но и леса почистим, – пообещал Зильберг, – там теперь даже мыши будут жить с печатями полицейского управления на хвостах… Понятно?
– Слепой сказал посмотрим, – угрюмо проговорил в ответ Котовский, потом неожиданно хмыкнул: он знал нечто такое, о чем не подозревал Зильберг.
Кишиневская тюрьма, схожая с крепостью поры крестоносцев, была уже известна Котовскому, – прошлый «заход» даром не прошел, – так хорошо известна, что иногда на воле, в лесу, даже снилась и, случалось, утром Григорий Иванович иногда просыпался с ощущением некой застарелой оскомины.
Видать, недаром она снилась Котовскому, раз он вновь очутился здесь, в этих темных, пропахших бедой, грязью и мышами помещениях…
Котовского вызывали на допросы, но говорил он мало, в основном отмалчивался, а следователи – их было несколько, один сменял другого, – его особо и не трясли, что-то сдерживало их, и Котовский невольно усмехался, понимал, в чем дело: следователи боялись его…
Тем временем Кишиневская тюрьма взбунтовалась. Она не была исключением из ряда других тюрем: беспорядки возникали то в одной губернии, то в другой, в Москве рабочие, например, разобрали мостовую, чтобы пустить ее на камни, и преуспели в этом – камнями отражали нападение целых рот солдат, и это у них получилось.
В темные майские дни шестьдесят человек заключенных Кишиневской тюрьмы объявили голодовку, эта голодовка и стала отправной точкой бунта, в результате которого многие тюремные надзиратели очутились в камерах, на арестантских местах, в камере оказался даже помощник начальника тюрьмы Гаденко, связанный веревкой. Все произошло быстро, сделано было ловко, умело, еще немного – и заключенные оказались бы на воле, за воротами…
Но не смогли они пробиться за ворота. Позже никто даже сказать точно не мог, почему именно. Далекая молва, проникшая в наше время из той задымленной, затуманенной поры в наши дни, преподносит, – словно на блюдечке, – имена двух провокаторов, предавших Котовского. Другие, например, считают, что дело в неких нетерпеливых уголовниках, которые, оказавшись рядом со свободой, не выдержали, полезли на тюремные стены, и их засекла конная стража, патрулировавшая примыкавшие к «зиндану» улицы.
Полицейского и жандармского народа мигом набежало столько, что не только арестант или бедная голохвостая мышь могли проскочить – даже таракан не мог бы проскользнуть.
Бегунов поснимали со стен и загнали назад в камеры. В камере очутился и Котовский, вооруженный двумя старыми «трофейными» револьверами, отнятыми у надзирателей. Понимая, что до него попытаются добраться особо, Котовский заперся в камере и посчитал, сколько патронов утоплено в барабанах его древних стволов.
Получалось немного, но на то, чтобы заставить болезненно сморщиться десяток полицейских, хватит с лихвой.
– А нам больше и не надо, – сказал Котовский, дунул вначале в один ствол, как в свисток, затем в другой.
Сунуться в камеру к Котовскому полицейские побоялись – слишком уж грозная слава плыла за этим человеком по тюремным коридорам, – поэтому по совету властей решили провести с ним переговоры.
Проводить переговоры с Котовским приехал заместитель губернатора Кнолль. Лично решил познакомиться с человеком, чья слава была в полсотни раз звонче славы губернаторского зама. Лицо у высокого чиновника было сухим, бесстрастным, по нему ничего нельзя было угадать, – все мысли надежно запечатаны, ни одного светлого пятна, ни одной слабинки на темной, сухой коже, ни одной живой жилки.
Действовал вице-губернатор аккуратно, движения у него были тихими, ласковыми, чужими, будто он и не в тюрьму приехал, а в показательное помещичье хозяйство, где на кукурузных стеблях выращивают сливы величиной с яблоко, а заросли крапивы сводят на нет грядками ядреной сладкой клубники.
Как ни странно, он очень быстро уговорил Котовского сдать древние револьверы. Григорий Иванович даже удивился этому – весьма скорым оказался губернский чиновник, такому только воробьев по полю гонять: очень быстро переловит серых потребителей зерна, с которыми борются все бессарабские помещики – к сожалению, безуспешно.
Хоть и пообещал Кнолль поблажки заключенным и Котовскому в первую очередь, а своего обещания он не сдержал. Скорее, наоборот – Котовского скрутили и перевели в главную башню тюрьмы, в камеру-одиночку, которую надзиратели называли «железной». В ней всегда, даже в лютую кишиневскую жару было холодно, мозжило кости, остывала кровь; убежать из башни, – а «железная» камера находилась на высоте шестиэтажного дома, – не было никакой возможности.
Власти пришли к выводу, что Котовский, несмотря на пребывание в «железной» камере, обязательно попытается убежать, только не знали, когда, как, где, с кем, поэтому Кнолль не мудрствуя лукаво приказал начальнику тюрьмы:
– Приставьте к этому бандиту отдельного охранника и отдельного надзирателя.
– Да никуда он не убежит, ваше высокопревосходительство, – убежденно произнес начальник тюрьмы, человек тучный и в силу своей комплекции, благодушный.
– Я лучше знаю, убежит он или не убежит, – сухо проговорил Кнолль и недовольно поморщился.
Режим у Котовского был жесткий – он находился в полной изоляции, в каменной тишине, от которой по коже ползли мурашики, – сюда, на верхотуру, даже городские звуки не долетали, – прогулка во дворе раз в сутки, на пятнадцать минут, также в полном одиночестве.
Все было нацелено на то, чтобы сломить этого человека.
Никого рядом нет, только за спиной натуженно сопит надзиратель, да в макушках деревьев возбужденно каркают одуревшие от жары вороны. Воздух тяжелый, обваривающий, дышать нечем…
– Й-йесть! Осталось только захлопнуть клетку.
Силы на Куприяновскую улицу были стянуты изрядные – мышь не проскочит.
В общем, Котовскому не уйти. Жандармские головы разве что из труб соседних домов не выглядывали, а так они были везде, торчали, словно тыквы на плетнях в урожайный год, куда ни кинь взгляд – всюду тыквы, тыквы, тыквы… Хорошо, время зимнее на дворе стоит, – ничего не видно, темень, – Котовский не обнаружил некоторых очень заметных вещей.
Но и заходить в дом к Котовскому облава боялась – изуродует ведь всех. Если не пулями, то кулаками.
А ловкостью и силой Котовский обладал редкостными, в борьбе мог уложить на земле рядком до полуроты солдат, – такая слава шла об этом человеке, и шустрый помощник пристава это знал.
– Что делать будем? – обратился к Зильбергу пехотный поручик. – Бандит в доме, чего ждать-то, а? Может, начнем штурм?
– Не будет никакого штурма, – покачал головой Зильберг, – не надо. Возьмем тихо, комариного писка никто не услышит.
– Это как? – поинтересовался поручик.
– Когда Котовский выйдет из дома, навалимся на него с перевесом, хорошим числом, руки скрутим, вот и все.
Поручик задумчиво приподнял одно плечо, потом другое, пошмыгал носом и отошел в сторону: никакой многомудрый козел не поймет этих полицейских. Действовали бы сами, не привлекая солдат – наверняка для всех лучше было бы. А быть у них в пристяжных – штука противная.
В конце концов так и поступили, как велел этот полицейский пшют: брали Котовского, когда тот, ни о чем не подозревая, вышел из дома, – даже оглядеться не успел, как на него с воем, толкаясь, мешая друг другу, словно полчище саранчи, налетели полицейские, жандармы, солдаты. Натянули на руки пеньковую веревку.
Котовский не сопротивлялся – понял, что бесполезно, только набычился угрюмо, уперся ногами в крыльцо, чтобы не завалили, да головой иногда крутил.
Увидев Зильберга, предупредил его:
– Тебе это даром не пройдет, Иуда!
Помощник пристава нервно вздернул голову.
– Прошу мне не угрожать!
В ответ – грустная усмешка Котовского: не разглядел он этого человека, не понял, что у него внутри, ошибся, думал, что все вопросы решают деньги, но денег Зильбергу оказалось мало…
Зильберг знал, что делал, – за Котовского он получил хороший куш из казны полицейского управления – две новеньких, вкусно хрустящих пятисотрублевых кредитки.
В доме номер девять на улице Куприянова до самого вечера проходил обыск: полицейские думали, что найдут здесь и оружие, и патроны, и взрывчатку, и нелегальную марксистскую литературу, которой начал увлекаться Котовский, и естественно, деньги – большие суммы денег, богатство купцов и помещиков, которых в последнее время так усердно тряс Григорий Иванович – несколько месяцев потратил на это.
Увы, не нашли. Вот что оказалось в результате в их руках: записная книжка, из которой мало чего можно было понять, новенькая театральная маска, свисток и четыре рубля двадцать пять копеек наличности: мятая трешка, рубль и две потертые серебряные монеты – гривенник и пятиалтынный, десять и пятнадцать копеек.
Зильберг чуть на потолок не полез, увидев, насколько мал его улов, уже вцепился руками в портьеру и занес ногу, и если бы не пехотный поручик, отогнавший помощника пристава в сторону едкими словами, то Зильберг, может быть, и вскарабкался на потолок.
Котовский с усмешкой посмотрел на Зильберга и, качнув головой, произнес многозначительную фразу:
– У вас все впереди… Как у царя Соломона.
Восемнадцатого же февраля, во второй половине дня, были арестованы и закованы в кандалы помощники Григория Ивановича Прокопий Демьянишин и Игнатий Пушкарев, были задержаны также хозяйки двух конспиративных квартир Акулина Жосан и Ирина Бессараб. Словом, обкладывали Котовского плотно, обстоятельно, умело.
Вскоре список арестованных увеличился.
– Мы теперь не только города, но и леса почистим, – пообещал Зильберг, – там теперь даже мыши будут жить с печатями полицейского управления на хвостах… Понятно?
– Слепой сказал посмотрим, – угрюмо проговорил в ответ Котовский, потом неожиданно хмыкнул: он знал нечто такое, о чем не подозревал Зильберг.
Кишиневская тюрьма, схожая с крепостью поры крестоносцев, была уже известна Котовскому, – прошлый «заход» даром не прошел, – так хорошо известна, что иногда на воле, в лесу, даже снилась и, случалось, утром Григорий Иванович иногда просыпался с ощущением некой застарелой оскомины.
Видать, недаром она снилась Котовскому, раз он вновь очутился здесь, в этих темных, пропахших бедой, грязью и мышами помещениях…
Котовского вызывали на допросы, но говорил он мало, в основном отмалчивался, а следователи – их было несколько, один сменял другого, – его особо и не трясли, что-то сдерживало их, и Котовский невольно усмехался, понимал, в чем дело: следователи боялись его…
Тем временем Кишиневская тюрьма взбунтовалась. Она не была исключением из ряда других тюрем: беспорядки возникали то в одной губернии, то в другой, в Москве рабочие, например, разобрали мостовую, чтобы пустить ее на камни, и преуспели в этом – камнями отражали нападение целых рот солдат, и это у них получилось.
В темные майские дни шестьдесят человек заключенных Кишиневской тюрьмы объявили голодовку, эта голодовка и стала отправной точкой бунта, в результате которого многие тюремные надзиратели очутились в камерах, на арестантских местах, в камере оказался даже помощник начальника тюрьмы Гаденко, связанный веревкой. Все произошло быстро, сделано было ловко, умело, еще немного – и заключенные оказались бы на воле, за воротами…
Но не смогли они пробиться за ворота. Позже никто даже сказать точно не мог, почему именно. Далекая молва, проникшая в наше время из той задымленной, затуманенной поры в наши дни, преподносит, – словно на блюдечке, – имена двух провокаторов, предавших Котовского. Другие, например, считают, что дело в неких нетерпеливых уголовниках, которые, оказавшись рядом со свободой, не выдержали, полезли на тюремные стены, и их засекла конная стража, патрулировавшая примыкавшие к «зиндану» улицы.
Полицейского и жандармского народа мигом набежало столько, что не только арестант или бедная голохвостая мышь могли проскочить – даже таракан не мог бы проскользнуть.
Бегунов поснимали со стен и загнали назад в камеры. В камере очутился и Котовский, вооруженный двумя старыми «трофейными» револьверами, отнятыми у надзирателей. Понимая, что до него попытаются добраться особо, Котовский заперся в камере и посчитал, сколько патронов утоплено в барабанах его древних стволов.
Получалось немного, но на то, чтобы заставить болезненно сморщиться десяток полицейских, хватит с лихвой.
– А нам больше и не надо, – сказал Котовский, дунул вначале в один ствол, как в свисток, затем в другой.
Сунуться в камеру к Котовскому полицейские побоялись – слишком уж грозная слава плыла за этим человеком по тюремным коридорам, – поэтому по совету властей решили провести с ним переговоры.
Проводить переговоры с Котовским приехал заместитель губернатора Кнолль. Лично решил познакомиться с человеком, чья слава была в полсотни раз звонче славы губернаторского зама. Лицо у высокого чиновника было сухим, бесстрастным, по нему ничего нельзя было угадать, – все мысли надежно запечатаны, ни одного светлого пятна, ни одной слабинки на темной, сухой коже, ни одной живой жилки.
Действовал вице-губернатор аккуратно, движения у него были тихими, ласковыми, чужими, будто он и не в тюрьму приехал, а в показательное помещичье хозяйство, где на кукурузных стеблях выращивают сливы величиной с яблоко, а заросли крапивы сводят на нет грядками ядреной сладкой клубники.
Как ни странно, он очень быстро уговорил Котовского сдать древние револьверы. Григорий Иванович даже удивился этому – весьма скорым оказался губернский чиновник, такому только воробьев по полю гонять: очень быстро переловит серых потребителей зерна, с которыми борются все бессарабские помещики – к сожалению, безуспешно.
Хоть и пообещал Кнолль поблажки заключенным и Котовскому в первую очередь, а своего обещания он не сдержал. Скорее, наоборот – Котовского скрутили и перевели в главную башню тюрьмы, в камеру-одиночку, которую надзиратели называли «железной». В ней всегда, даже в лютую кишиневскую жару было холодно, мозжило кости, остывала кровь; убежать из башни, – а «железная» камера находилась на высоте шестиэтажного дома, – не было никакой возможности.
Власти пришли к выводу, что Котовский, несмотря на пребывание в «железной» камере, обязательно попытается убежать, только не знали, когда, как, где, с кем, поэтому Кнолль не мудрствуя лукаво приказал начальнику тюрьмы:
– Приставьте к этому бандиту отдельного охранника и отдельного надзирателя.
– Да никуда он не убежит, ваше высокопревосходительство, – убежденно произнес начальник тюрьмы, человек тучный и в силу своей комплекции, благодушный.
– Я лучше знаю, убежит он или не убежит, – сухо проговорил Кнолль и недовольно поморщился.
Режим у Котовского был жесткий – он находился в полной изоляции, в каменной тишине, от которой по коже ползли мурашики, – сюда, на верхотуру, даже городские звуки не долетали, – прогулка во дворе раз в сутки, на пятнадцать минут, также в полном одиночестве.
Все было нацелено на то, чтобы сломить этого человека.
Никого рядом нет, только за спиной натуженно сопит надзиратель, да в макушках деревьев возбужденно каркают одуревшие от жары вороны. Воздух тяжелый, обваривающий, дышать нечем…