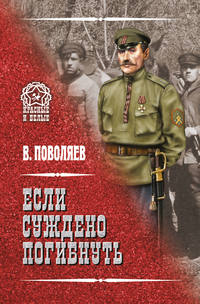Всему своё время
Но Корнеев заупрямился, он, как солдат на фронте, в окоп забрался, сам окопом сделался – буровую он будет ставить именно на гриве и больше нигде. В конце концов оппоненты попятились, уступили Корнееву.
– Ох, Николаич, не нагорело бы тебе за упрямство, – как-то сожалеюще проговорил Синюхин.
Корнеев уперся взглядом в заляпанный грязью и мазутом помост буровой, спросил тихо, не поднимая головы:
– Нога не болит?
– Чего? – не понял Синюхин.
– Нога, спрашиваю, не болит? Капканом ногу, помнишь, прихватил?
Синюхин взглянул на свои сапоги, переступил с места на место, поморщился от воспоминания.
– Как на собаке зажило. Одни только укусы остались. А знаешь, почему тебя с этой гривой так долго мотыжили? Завидуют тебе.
– Не про то говоришь. Чему завидовать? Да меня с потрохами сжуют, как только бурение закончим! В тайгу шага не дадут больше сделать.
– И все-таки завидуют. Упрямству. Тому, что гриву отстоял, буровую сберег. Другие давно уж и буровых лишились, и штатного расписания, а ты поухватистей их оказался – отстоял.
– Поухватистей… На собственную шею! Кто же мне может завидовать?
– Они.
– Кто «они»? Нечистая сила?
– Вовсе не нечистая. Разные бумажные командиры, клерки и начальники. Не смейся, их много и они – сила. Любого героя могут завалить, не только тебя. Сжуют, одни только ботинки останутся.
– Жевать долго придется.
Он вспомнил трудные дебаты в тресте, но мысль переключилась на другое. Надо будет в Малыгино наведаться, к дяде Сереге на могилу сходить. Сейчас уже нечего кипятиться, нервничать и размахивать «колотушками», как малыгинские называют кулаки. Последнее это дело, коль драка осталась позади.
Синюхин стрельнул из-под очков глазами, уловил перемену в Корнееве, сощурился выжидающе: в точку он, Синюхин, попал. Есть ведь такие люди, которые буквально нутром своим чутким ощущают, что надо завидовать, только вот мозгом, головой не могут усвоить – чему же конкретно завидовать? Открытий никаких Корнеев не сделал и вряд ли сделает, книгу не написал, диссертацию не защитил, ордена не получил – вместо всего этого одни лишь подзатыльники, – личная жизнь из-за скитаний и ползанья по болотам не сложилась, все мутно, неопределенно, так чему же завидовать? Может, тому, что, как сказывают, в мутной воде, когда ничего не видно, сплошная грязь, крупная рыба ловится?
Но, похоже, чего-то Синюхин темнит. А чего темнить, когда цель у них одна: хоть разбейся, хоть в небеса вознесись, хоть умри, что хочешь сделай, а найди то, чего ищешь.
«Все эти распри, геройство стойких оловянных солдатиков – ни к чему, – думал тем временем Синюхин, – в конце концов скважина окажется пустой, и все – клади тогда голову на плаху… А если тут все же есть нефть? Нету ее, Синюхин, нету, родной. Ни ты, ни Корнеев – не ясновидящие, ни ты, ни он не умеете смотреть сквозь земную материю, разгадывать, что там, в глуби, есть, а чего нет. Не дано, не способны! А как же насчет гусарского правила: либо грудь в крестах, либо голова в кустах? Дурак, – выругал он себя, – собственную башку не бережешь!» – раздвинул губы в кривой улыбке, вздохнул: все-таки придется класть голову на плаху. Ничего в этой гриве нет, напрасно он тогда совет дал. И корнеевское упрямство, надежда его – это мыльный пузырь, который скоро лопнет. Так почему же он, Синюхин, должен отвечать за промахи другого? Мало ли чего он мог насоветовать?
– Слушай, Николаич, – спросил Синюхин, – ты уверен, что мы найдем тут нефть?
– А ты? Ты же ухо прикладывал к земле, говорил, что слышишь ее.
– Я – нет, уже не верю в нефть.
– Хорошо, когда имеешь дело с искренним человеком. – Глаза у Корнеева сузились, в них то ли смех назревал, то ли злость – зрачки дрожали, ярились, сразу и не понять, что в них.
– Это я на всякий случай, – сказал Синюхин. – Если провалимся – тебе отвечать придется.
– Одному?
– Конечно, ты же начальник.
– Понимаю. А если победим – на пьедестал почета вместе вскарабкаемся. – Корнеев, странное дело, сохранял ровный тон. – Ох и логика же у тебя, Кириллыч!
– Все в мире относительно. Не каждому дано понять, где правда, а где кривда, где сволочизм, а где преданность другу, что такое много, а что – мало.
– Два волоса в супе – много, два волоса на голове – мало. – Корнеев, собирая кожу в жесткие скибки, провел ладонью по лицу, устало сощурился.
В последнее время он начал уставать, здорово уставать. К вечеру у него сдавали глаза, хотя ничего «бумажного» в его работе не было, припухали веки, предметы теряли резкость, расплывались, и тогда он применял бабушкино средство: брал немного спитого чая, мочил в нем вату, потом клал мокрые тампоны на глаза. Припухлость проходила, возвращалась острота зрения – чай, вернее, теин в заварке помогал. Вот и сейчас опять в глазах что-то двоится, Синюхин, стоящий рядом, совсем расплылся.
– Все в мире относительно, это-то, Кириллыч, верно. До тебя еще Эйнштейн эту мудрость доказал.
Синюхин разозлился, но мгновенно угас. Мысль его приняла новое направление: «А ведь ситуация такая, что управление остается в стороне. Они ведь там не все знают, – Синюхин поежился, но та же мысль не давала покоя. – Написать бы туда… Для этого, конечно, надо иметь особый характер, а он у тебя, Синюхин, не такой еще стойкий. Душевного пороха не хватит, понял? Но что делать, если нас скоро будут раскатывать в блин? Вызовут на ковер… Что ответишь? А?»
– Что делает человек, когда на него в горах наезжает лавина? – Синюхин неожиданно расплылся в улыбке. – Спасается. Никому не охота быть раздавленным.
Корнеев сейчас думал о том, что Синюхин принадлежит к категории людей, на которых невозможно по-настоящему обидеться. Может быть, и напрасно. Ведь колебания в такой ситуации, игра «туда-сюда» – сродни подлости, а подлость, даже если она совсем ничтожна, невидима, как воздушная пыль, нельзя оставлять без последствий. Ее надо стирать мокрой тряпкой, как стирают осевшую на подоконник уличную грязь. Не то конопляное зернышко раздуется, прорастет, превратится в ветвистое дерево. Попробуй борись тогда!
– Если будешь вести двойную игру и еще раз об этом, Кириллыч, заговоришь, – усталое лицо Корнеева отвердело, – одному из нас придется уйти с буровой. Думаю, что уйдешь ты. Понял?
«Дурак! – на лице Синюхина ничего не отразилось, ни злости, ни смятения. – Вот ты себе и подписал приговор».
– Ясное дело, – мотнул он головой, – кому нужен лось, объедающий сосновые свечи?
А ведь действительно нет вреднее животного в лесу, чем лось, обкусывающий верхушки у молодых сосен.
Кто-то позвал Корнеева. Он резко обернулся. У сходней, ведущих на буровой помост, стоял плотный низкорослый человек в телогрейке, вольно распахнутой на груди, – впрочем, человеку этому запахиваться, застегиваться не на что было: на телогрейке не было ни одной пуговицы, все выдраны с мясом, из дыр клочьями вылезала вата. На голове у него довольно ловко сидела помятая велюровая шляпа с затертой, покрытой потными пятнами лентой. К верху шляпы, наполовину накрывая ленту, была пристегнута яркая морская кокарда. Корнеев вспомнил, что эти кокарды зовут «капустами», они красиво смотрятся, когда бывают привинчены к суконному черному околышу форменной фуражки, и совсем нелепо выглядит «капуста» на потасканной шляпе. Моряк с печки бряк.
– Ну? – на чалдонский манер отозвался Корнеев.
– Котелки гну – недорого беру, – быстро, словно высыпал из решета горох, проговорил расхристанный человек, мотнул головой в сторону. Движение было резким, с головы чуть было не слетела «форменная» шляпа. – Я, земеля, на барже трубы привез. Сгружать надо.
– Все ясно, капитан, – Корнеев, скользя подошвами по сходням, съехал вниз, – молодец, что трубы доставил. Вовремя. – Быстрым взглядом окинул сосняк, в котором лежали старые, завезенные вместе с буровой трубы. Запас их был невелик – два-три дня, и бурить нечем будет. – Спасибо, капитан!
– Одним «спасибо» не отделаешься.
В сосняке, в самом центре гривы, гнездилось восемь кучно расположенных, крепких, сколоченных из неокрашенных досок балков. Корнеев заспешил по тропке к балкам. Там стоял старый, с ржавыми гусеницами «детешник» – дизельный трактор, помятый ветеран, который, прежде чем попасть в тайгу, успел, кажется, побывать на целине, затем работал в лесхозе и лишь потом попал к геологам.
У балков копошился, моя в тазу сапоги, Синюхин, пыхтел натужно, водя ладонью по шершавой кирзе. «Молодец, Синюхин – сапоги не в реке моет, не в калужине какой-нибудь холодной, а в тазу, налил туда подогретой воды и плещется. Никогда ревматизм не схватит», – подумал Корнеев.
– Слушай, Кириллыч, поднимай людей. Тех, кто спит, тех, кто не спит – всех без разбору поднимай. Трубы пришли. Я буду трактор заводить. – Корнеев отвернулся, подошел к ржавому трактору: – Ну, родимый, послужи обществу!
Намотал на диск пускача сыромятный ремешок с привязанной на конце деревянной плошкой, чтобы рука со шнура не соскакивала, набрал в грудь воздуха, подержал немного, выдохнул: «Ну!» – дернул ремешок. Тяжелый, поеденный рыжей коростой диск пускача заупрямился – не хотел поддаваться человеческой силе, скрипел ржаво, прокрутившись дважды вокруг своей оси, пускач негромко вздохнул, и все… Корнеев снова намотал на диск ремешок, снова дернул. И опять – три негромких зажатых вздоха и тишина.
– Ну, родимый, ну, целинничек, – бормотал Корнеев просяще, будто старый трактор был живым существом, – поднапрягись!
Словно откликаясь на его просьбу, после шестого рывка пускач сквозь негромкие вздохи подал голос – хриплый, застойно-оглушающий, будто над ухом начали палить из автомата.
– Ах ты мой целинничек! – Корнеев добавил газу, чтобы пускач прогрелся. Мотор заработал еще громче. Корнеев покосился через плечо на балки: как там, поднимаются ребята? Из балков на улицу высыпали люди, поругивались.
Когда пускач прогрелся и набрал силу, Корнеев стал манипулировать рычагами – надо было теперь запустить сам дизель, черный от выхлопов, копоти и застывшего масла, вытекшего из старого дырявого нутра, в прогарах и окалине. Дизель захрипел неохотно, надорванно – разбудить его было делом непростым, затряс черенком выхлопной трубы, задрожал, будто больной, потом, проснувшись разом, вдруг завыл, словно движок танка, идущего в атаку, заголосил обиженно.
– Молодец! – похвалил Корнеев, хлопнул ладонью по ржавой проплешине, украсившей бок дизеля.
Но, видно, рано похвалил: что-то в сложном, истонченном ржой и старостью нутре движка закряхтело, забряцало, запыхтело. Трактор выплюнул из прогоревшего столбика трубы черный сгусток, который, чуть повисев в воздухе, не выдержал собственной тяжести, свалился на ржавую тракторную гусеницу, проскользнув у Корнеева между руками. У движка прорвалась какая-то емкость, на землю пролилось что-то густое, вонючее, противное. Трактор всхрипнул, кашлянул и умолк. Корнеев не выдержал, выругался матом, грохнул кулаком по гнилому прогнувшемуся капоту.
– Что, начальничек, трубы вручную таскать придется, чтоб народ особо не толстел, а? – подал сзади голос тип в велюровой шляпе. Корнеев со зла хотел и его обругать, но удержался, сказал:
– Можешь сделать доброе дело? Помоги нам.
– Энтузиазм и рабочую сноровку проявить, чтоб в газете про это написали? – хмыкнул тот. – А?.. Помогу.
А ведь «моряк с печки бряк» прав: таскать, упираться, ломать хребет, доставляя трубы с баржи вручную, на себе, – дело последнее, в больницу залететь можно запросто, – там предоставят возможность вместо лесного кулеша питаться горькими лекарствами. Корнеев посмотрел на черные, измазанные маслом и гарью руки. Хоть и был он начальником, руководителем, а на начальника не походил. Начальник – чистый человек, знакомый лишь с ручкой, записной книжкой и портфелем, а Корнеев по уши в мазуте, на паровозного кочегара больше смахивает. Хрумкая сухими ветками, к трактору подошел Синюхин.
– Что, отработал механизм свое?
– Новый трактор уже вряд ли дадут. Этому организму – хана, похороны за государственный счет надо справлять.
Без техники работать трудно. Один гнилой трактор на такую огромную бригаду – это не техника, а горе, слезы. Корнеев видел как-то фильм – показывали на активе – о поиске нефти в южных штатах Америки. Техники там на каждой буровой столько, что вороне кляксу негде уронить: тракторы, бульдозеры, грузовики, юркие легковые машины, лебедки, автомобили с каротажными будками. Вертолетов полно, самолеты есть. А тут техника одна – собственные ноги да собственные руки. Еще горб, на котором можно таскать тяжести. Чем прочнее горб – тем лучше.
Корнеев первым двигался сквозь сосняк к реке, слышал, как сзади топают башмаками ребята. Сбитые движением, с сосенок поднимались здоровенные желтотелые комары, грозно взвивались в воздух, пикировали оттуда на людей.
– Ахр-ря! – рявкнул за спиной матросик в фетровой шляпе, прибивая комара, заскулил по-щенячьи.
Осенние комары, когда выдается теплый, как этот, денек, перед долгой спячкой злобствуют хуже летних, никак крови напитаться не могут.
Но вот в сосняке прорезалась светлая полоса, мутная, рыжая от осеннего тепла. Стало легче дышать, пахнуло речной сыростью, рыбьим духом, прохладой.
Баржа-плоскодонка, на которой прибыли трубы, въехала носом в песчаный берег, основательно пропоров его. У Корнеева мелькнула даже мысль: как бы не застряла баржа. Впрочем, тревога напрасная – баржа (все речные люди произносят слово «баржа» с ударением на последнем слоге, в этом сокрыт какой-то шик, что-то вольное), едва будет разгружена, приподнимет свое дно, сделается подвижной, и тогда ее собственный движок легко сдерет плоское железное тело с песка.
Гулко работал спрятанный в металлическом нутре двигатель, невольную зависть вызвал: вот это техника, живет, дышит, человеку помогает. Звонко шлепала отработанной жижей водоотливка.
На носу, прочно вцепившись в крашеный поручень сильными, как клешни, руками, стоял кто-то очень знакомый, с костистым спокойным лицом, на котором выделялся прочный шишкастый лоб, посеченный рябью кожной болезни – кажется, оспы, да вдобавок ко всему еще и шрамом. Корнеев вгляделся: Карташов!
– Здорово, дядя Володь!
– Здорово, коль не шутишь! Чего, племянничек, пешком за трубами? А техника где?
– Путевку на тот свет выписали. Скис гражданин трактор, на вечный покой попросился.
– На себе трубы будете таскать?
– На себе. А ты чего на реке делаешь, дядя Володь? Ты вроде бы в Ныйве должен быть, а не здесь. От летного дела отошел, что ль?
– Почему отошел? Продолжаю работать. На реке я, в командировке.
– Хороша командировочка! Погода сегодня – загорать можно.
– Можно, – подтвердил Карташов. – Только я не по части загара, я место для вертолетных площадок выбираю.
– Никак начинается новый этап развития авиации?
– Вдоль рек заправочные площадки ставить будем, железные танки в землю вроем, бензин по воде на баржах летом подвезем. Вертолетам не надо будет каждый раз на заправку домой ходить – все здесь, на месте получат.
– Вертолетов-то – тьфу! Одной бочки хватит, чтоб всем заправиться. Куда им столько горючки?
– Это сегодня. А завтра?
– Завтра, дядя Володь, будет тут тишь, гладь да божья благодать. Все работы свертываем. Разве не знаешь? – Корнеев сжал кулак, втискиваясь ногтями в ладонь, почувствовал, как под глазом у него задергалась тоненькая жилка.
Карташов не ответил. Корнеев поднялся по деревянной сходне на баржу. Трубы были ровными рядами уложены на железной палубе и туго перехвачены тросами, чтобы в шторм – хотя какой на реке может быть шторм? – или если болванка прихватит, не сдвигались в сторону, не клали баржу набок. Трос сдернули, свернули в бухту, оттащили в сторону, накрыли брезентом – если бухта под дождь попадет, от такого троса надежности не жди, в самую неподходящую минуту размотается и лопнет, ровно прелая веревка.
– Давай, Кириллыч, – наклоняясь, пробормотал Корнеев, взялся за один конец трубы, – покажем рабочему классу пример.
Синюхин молча подхватил другой конец, зашатался под тяжестью.
– Богатыри, – пробурчал Карташов, – третьего возьмите.
Набряк день страшной усталостью, пока они носили трубы, дрожала, гудела земля под ногами, будто под ней ничего не было, лопались на ладонях волдыри, окропляя кожу едкой, прозрачной жидкостью, сочилась из-под ногтей сукровица. По лицу жестко били сосновые ветки, норовили выколоть глаза, рассечь кожу, пот разъедал ноздри, губы, веки, мешал дышать, люди иногда падали, но тут же поднимались, снова подставляли спину, плечи под торец бурильной трубы, волокли на буровую. Казалось, конца этой работе не будет – гора труб не уменьшалась.
Но вот что-то шевельнулось в этой куче, в ворохе труб возникло движение. Уже перед самым закатом, когда горизонт стал брусничным и на нем заструились темные живые ленты перистых облаков, будто выползающие откуда-то из-под земли, из самого ее чрева, гора труб как-то враз истаяла, оставив после себя на палубе огромное ржавое пятно осыпи.
– Палубу кто будет после себя мыть? – ярился удалой мореход в фетровой шляпе. Кокарда его в вечернем свете казалась всамделишно золотой, сотворенной из настоящего червонного металла. – Александр Сергеевич Пушкин? Михаил Юрьевич Лермонтов?
Измотанный Корнеев глянул на него исподлобья.
– Верно. Николай Алексеевич Некрасов!
– Слушай, петух с кокардой, – крикнул Карташов, – возьми швабру, ведро, зачерпни воды из реки и вымой сам. Не умрешь!
Что-то неуступчивое появилось в лице бравого морехода, щеки вобрались под скулы, взгляд стал тяжелым. Несколько секунд он колебался, потом все же покорился. Молча прошел на корму, извлек из ящика, окрашенного в пожарный сурик, ведро с привязанной к дужке веревкой, закинул в воду.
Перед тем как втащить ведро на палубу, задрал голову – по небу проплыл вертолет с испачканным масляными разводами пузом. Машина прошла низко, целя носом на Малыгино, на закраину села, где находилась вертолетная площадка – обширный бревенчатый помост, уложенный на землю.
– Брательник твой прилетел, – проговорил Карташов, обращаясь к Корнееву.
– Вижу.
– Не хватает Вовки вашего, а так все бы в сборе были. Может, посидим вечерком, погутарим, а?
Какой там «посидим, погутарим»! Перед глазами красные блохи пляшут, норовят вцепиться в нос, в губы, от усталости дрожат-ноют не только мышцы, но и все кости, позвоночник разваливается, не хочет держать осоловелое, разбитое тело, ноги подкашиваются, руки ходуном ходят, будто в малярийном приступе, в пальцах стакан с чаем не удержать… Доволочь бы тяжелое тело до постели и опрокинуться на нее.
– Посидим, погутарим, – согласился Корнеев.
– Тогда я имущество в узел скручу, у тебя заночую. – Карташов пошел в кубрик собирать вещи, которые у него, как у всякого командированного, уместились бы в свертке из газеты.
Небо между тем совсем потемнело, солнце завалилось за обрезь земли, будто в глубокий сундук ухнуло, оставив наверху лишь жалкий отсвет свой – печальный малиновый призрак, который дрожал предсмертно, будто в агонии, сыпал искрами, таял на глазах. Комары, эти «четырехмоторные», с грозным гудом начали носиться над самой рекой. Из воды то тут то там, невидимые во тьме, со звонким шлепаньем вылетали литые тела, и визжащий, словно сорвавшийся в штопор «четырехмоторный» оказывался в желудке проворного сырка или пыжьяна.
Карташов, светя себе фонариком, спустился с баржи на обсушенный солнечным жаром, еще теплый песок. Скользнул лучом фонаря по темной, шевелящейся от рыбьих всплесков воде. На барже гулко забряцали цепью, по сходне на берег спустился бывалый мореход, знаток Пушкина и Лермонтова. Песок скрипел под ним, словно снег. Подошел, кашлянул.
– Чего тебе? – спросил Карташов.
– Я не к вам, – покхекал в кулак бывалый мореход. – К нему вон. – Он покосился на Корнеева.
– Валяй, – разрешил Карташов.
– Рабочие вам нужны? – спросил моряк у Корнеева и прихлопнул ладонью шляпу. Чуть руку не ободрал о кокарду. В макушку ему, повыше «капусты», впился комар.
– А что, умеешь работать?
Бывалый мореход пожал плечами:
– Вашим сегодня я, например, подсоблял.
– Угу, – хмыкнул Корнеев, – во имя Александра Сергеевича. А чего с баржи сбегаешь? Романтическую свою должность решил сунуть псу под хвост?
– На зиму якорь бросаем. Становимся.
– A-а, на зиму. На буровой работал когда-нибудь?
– Не приходилось.
– Где живешь?
– Здесь же, под Малыгином, на заимке.
– Фамилия как?
– Окороков.
– Ладно, запомню. Сдашь вахту на своем боевом корабле – приходи, поговорим.
В вечернем густом мраке, в котором тяжело ворочалась, вздыхала, устав от дневных забот и тягот, река, что-то шевельнулось – то ли рыба большая из воды вымахнула и своим грузным телом разрубила воздух, будто колуном, то ли весло о тугую речную плоть шлепнуло, то ли еще что – может, катер без единого сигнального огня прошествовал мимо.
Послышалось близкое:
– Эй, на берегу! – это был голос Константина, беспечный, звонкий, нетерпеливый, голос друга всем и вся, связчика, готового в любую минуту прийти на помощь незнакомому человеку. – Отзовитесь!
– На баржу правь, – прокричал в ответ Сергей. – Видишь?
Из темноты показался ладный узкий нос лодки, сработанной здешними умельцами, в воду в последний раз опустились мокрые весла, и вот поднялся, заслонив головою темное небо, Костя Корнеев. Был он в потертой кожаной куртке, наброшенной на плечи.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Сорные луга – заливные. На них вырастает высокая, в полтора метра, трава, которая дает богатые покосы.
2
Былка – былинка, стебелек.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: