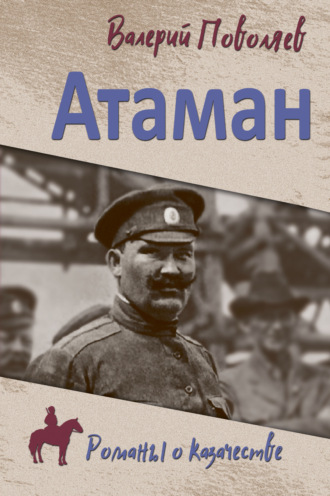
Атаман
Приказ форсировать Дресвятицу пришел ночью, а ранним утром, когда немного развиднелось и можно было хотя бы чуть-чуть различить соседа, находящегося в строю. Первый Нерчинский полк выдвинулся к реке.
На конях была оставлена только одна сотня под командой Жуковского – человека храброго и одновременно рассудительного. Обгоняя пеших казаков, эта сотня ушла вперед. Через несколько минут она разобрала стоявший в излучине реки небольшой темный сарайчик, где хозяева коптили рыбу, из его досок соорудила несколько плотиков. Раскатанные, выдернутые из пазов бревна казаки также аккуратно связали, пустив на это целую бухту найденного в загашнике у рачительного хозяина сизальского[20] каната.
Вскоре на немецкой стороне послышались выстрелы, крики, перекрытые громким «ура», затем – запоздалый пулеметный стук, который был тут же задавлен.
– Аллес капут![21] – пояснил Семенов своим казакам, выбравшись на противоположный берег Дресвятицы и отряхиваясь. – Жуковский оттеснил немаков на вторую линию. Молодец сотник!
Воздух разрезал шелестящий звук, словно кто-то невидимый, громадный располосовал ножницами небесный полог – странный, вышибающий мурашики на коже шелест оборвался, и в воду шлепнулся тяжелый снаряд. Вода разом вскипела, вверх взметнулось сеево черных брызг, на берег накатилась высокая волна, ухватила Семенова за сапоги и попыталась стащить назад в реку. Семенов напрягся, просипел протестующе:
– Дрысь, дур-ра!
Он так и не понял, с чьей стороны пришел снаряд, с нашей или с немецкой, выругался матом. Волна отпустила его – щупальца оборвались, отползла малость назад, но с реки на смену ей уже накатывала вторая волна, больше первой, грязная, с лохматым гребнем, который украшала сечка из изрубленных осколками водорослей. Свертывающаяся в рулон вода гудела устрашающе, будто паровоз, сорвавшийся с колодок; Семенов заторопился, выдернул из засасывающего обжима земли одну ногу, поморщился от неприятного чавкающего звука, напрягся, вытаскивая вторую ногу, почувствовал, что она вместе с портянкой вылезает из сапога. Сотник засипел, лицо его сделалось красным, казаки и слева и справа уже вынеслись на берег и, держа наперевес карабины, унеслись в серый, страшновато шевелящийся, будто он был живой, туман. Когда вал находился уже совсем близко, Семенов успел ухватиться одной рукой за ивовый куст, сползающий с берега в воду, в другой руке продолжал держать карабин, в следующий миг вал накрыл сотника с головой.
Семенов вытаял из отползшего назад вала, отплюнулся с руганью, вылил из ствола карабина воду – в такие передряги, когда он чувствовал себя совершенно беспомощно, будто калека, не попадал с поры детства. Одно было хорошо – застрявший сапог словно сам по себе зашевелился, и Семенов смог выдернуть его из ила. В следующую минуту он вымахнул на берег, перепрыгнул через свежую, еще дымящуюся воронку – след немецкой гранаты – около которой лежал незнакомый казак-уссуриец. Надо было бы проверить – вдруг он живой, и если живой, оказать ему помощь, но слишком уж нескладно казак сложился, и эта нескладешность, по которой позу мертвого человека всегда можно отличить от позы живого, говорила, что он мертв, к тому же и время не ждало, поджимало – за эти минуты его сотня могла оказаться уже бог знает где, и сотник не останавливаясь понесся дальше.
– Ур-ра-а-а-а! – послышался многоголосый крик впереди. Где-то далеко-далеко…
Но это только казалось, что крик звучит далеко впереди, пространство сильно скрадывал туман, он съедал, уводил звук в сторону. Кричавшие казаки находились всего в двадцати метрах от Семенова, не больше; сотник дернулся, отзываясь на этот крик, выбил из горла застрявшую пробку и прохрипел, вздувая на шее темные жилы:
– Ур-ра-а!
Прокричал вроде бы громко, но даже сам себя не услышал, Семенов словно оглох, ему показалось, что на огромном пространстве он остался совершенно один, надо бы остановиться, оглядеться, но он не остановился, а, разбрызгивая черную речную морось, понесся дальше.
Несколько минут он бежал один и вдруг почувствовал: впереди кто-то есть. То ли человек, то ли конь, то ли собака – не понять, но кто-то есть… Семенов метнулся в сторону, отметил про себя, что по нему сейчас очень удобно стрелять, затем сделал резкий бросок в противоположную сторону и через несколько секунд столкнулся с огромным, будто гора, огненно-рыжим немцем.
Увидев перед собой невысокого, чернявого, похожего на монгола человека, немец неожиданно обрадованно засмеялся и поманил Семенова:
– Ити сюта!
Голос у него был трубный, слова получались крупные, округлые, будто отлитые из свинца. Немец снова поманил Семенова – не сомневаясь, что раздавит этого неказистого человечишку буквально одним пальцем:
– Ити сюта!
В правой руке немец держал винтовку с плоским блестящим штыком. «Таким штыком хорошо черствый хлеб резать – идет, как по маслу», – мелькнула в голове Семенова тусклая, совершенно ненужная мысль. В руке немца винтовка выглядела игрушечной, как детское деревянное ружье.
– Ну, Ифан, – вновь позвал его немец, довольный своими познаниями в русском языке.
– Айн момент, – ответил ему Семенов, тоже довольный тем, что малость знает немецкий.
Впрочем, на этом их познания в языках кончились. Слева, в тумане, прозвучала короткая пулеметная очередь, в следующий миг оборвалась. Кто-то закричал. Немец это кричал или русский – не понять. Рыжий гигант невольно покосился в ту сторону и дружелюбно улыбнулся Семенову.
«Он что, рассчитывает взять меня в плен? Живым? – удивленно подумал Семенов. – На самом деле?»
Рыжеватые, навозного цвета глаза немца напряглись, сделались маленькими, жесткими, он перехватил винтовку поудобнее и как держал одной рукой, так и ткнул в Семенова, рассчитывая, что штык войдет тому в живот.
Слишком большая масса была у немца, слишком отяжелевшие мышцы, такие мышцы только замедляли мощный удар, а тут ни сила удара, ни масса не играли особой роли. Семенов легко, будто стебель на ветру, качнулся в сторону, отбил чужую винтовку стволом своего карабина, и немец, увлекаемый собственным весом, протащился по пространству вперед, крякнул удивленно, сотник же, увидев недалеко от себя мясистый затылок, поросший ярким красным волосом, недолго думая, хрястнул по затылку прикладом карабина.
Немец крякнул еще раз и, выпустив из рук винтовку, ткнулся костяшками пальцев в землю. Одного удара для такого гиганта мало, это Семенов понял сразу – рыжий очухается через несколько секунд, и тогда земля задрожит от его ярости, поэтому Семенов ударил немца еще раз, уже сильнее, с оттяжкой, прицельно, в угловатую костяшку, выпирающую из-под рыжей шерсти.
Гигант вновь задушенно крякнул, засипел, словно его проткнули гвоздем и в дырку стал вытекать воздух, мотнул головой – он не желал отключаться, боль его не брала – и Семенов, почувствовав, что дело для него может окончиться плохо, снова гвозданул рыжего прикладом.
На этот раз немец лег. Семенов ногой отпихнул винтовку с блестящим плоским штыком подальше от хозяина, ножом срезал у него со штанов тоненький брючной ремень и перевязал немцу руки:
– Отдыхай!
Пока он успокаивал шумного гиганта, пространство вокруг наполнилось звуками: стрельбой, вскриками, матом, воем, стонами, плачем, аханьем – эти звуки обычно сопутствуют всякому бою. Недалеко рванула граната, взбила фонтан грязи, серый тяжелый туман колыхнулся, издал гнилой треск, но не разодрался, понять, где кто находится, было невозможно. Неожиданно слева, там, где туман был особенно густой, сбился в плотный клубок, послышался отборный мат. На душе от такого мата в бою разом делается легче. Семенов устремился на мат.
Успел он вовремя – проскочил через плотный туманный взболток, будто сквозь комок ваты, и очутился на мокром горбатом пятачке, где Луков сцепился сразу с тремя немцами. Они прижали казака к старой глубокой яме, из которой торчала высокая, с толстыми окостеневшими стеблями полынь – будто волос из гигантского уха, – теперь немцы старались опрокинуть Лукова в нее. Луков отбивался. Лицо у него было в крови, щеку перечеркнул порез – то ли касательный след от штыка, то ли след ножа, кровь залила один погон, а второй погон соскочил с отодранной лямки и болтался на пуговице.
– Держись, Луков! – прохрипел сотник и навскидку, не целясь, выстрелил из карабина в немца.
Пуля попала тому в голову – расколола нарядную каску, будто старую кастрюлю, и вломилась в череп. Велика была, видно, сила пули – глаза у немца вздулись двумя шарами и вылезли из орбит, один глаз лопнул и протек кровянистым студнем на мундир. Семенова, который засекал все детали и мелочи, едва не вырвало. Немец выронил винтовку и, ничего не видя, сделал на подгибающихся ногах шаг вперед, к Лукову, тот посторонился, и немец рухнул в яму, в полынь, куда только что старался загнать казака.
Передернуть затвор карабина Семенов не успел, на сотника прыгнул чернявый, с орлиным носом и немигающими светлыми глазами унтер, поспешно ткнул в казака штыком, но тот, уклоняясь от разящего удара, резко ушел в сторону, развернулся на согнутых ногах и, увидев, что у немца остался неприкрытым бок, с силой всадил в этот бок ствол карабина. Ну будто бы штыком ударил. Немец выпрямился, глянул на сотника изумленно, не веря в свою смерть, сцепил крупкие белые зубы. Глаза его посветлели от боли.
– Найн, – выдавил он сквозь сцеп челюстей сплюснутое слово, повторил его и просел.
Он умер быстро – Семенов отбил ему что-то важное внутри, может быть, попав в само сердце, – завалился на спину, в посветлевших, ставших совсем белыми глазах его застыло неверие. Он так и не понял, что его жизнь на этом кончилась…
Редкий солдат на фронте не думает о том, что он может быть убит, все понимают, что уязвимы, ходят под Богом, а этот человек, кажется, не допускал и мысли о краткости своего бренного существования, был нацелен на жизнь, но смерть внесла свою безжалостную поправку.
Тем временем Луков доколачивал прикладом третьего немца.
– Так их, Луков, так! Гр-робокопатели! Вздумали русского мужика в землю вогнать… Нако-сь!
Стрельба стала слышаться реже. Из первой линии окопов немцев выгнали конники сотника Жуковского, из второй – все вместе, навалившись скопом.
Неподалеку от Дресвятицы находилось серьезное укрепление – кирпичный фольварк[22], обнесенный прочной стеной. Семенов, изучая карту, несколько раз останавливал на нем свой взгляд, прикидывал, как к нему подступиться, но брать его семеновской сотне не пришлось – фольварк Столповчина взяли уссурийцы. Взяли с лету, на одном дыхании. Немцы бежали из фольварка так поспешно, что даже оставили висеть на веревке недавно выстиранные подштанники и одеяла.
В конюшне фольварка остались стоять несколько лошадей – сытых задастых битюгов с обрезанными хвостами.
Дальше казаки не пошли, надо было подождать пехоту – без ее поддержки, без орудий можно было угодить в беду.
Пехота должна была вот-вот подойти.
Туман начал неспешно разваливаться, раздвигаться, тяжелые ватные охапки нехотя зашевелились, поползли вдогонку за немцами, словно собирались сделать невидимыми, откуда-то сбоку, из раздвигающихся косм пролился печальный лиловый свет. Вскоре в прореху между туманными лохмами протиснулось солнце, замигало весело, словно собиралось спросить: чем это вы здесь, люди, занимаетесь? Не слишком ли вы жестоки по отношению друг к другу?
На широком поле, примыкающем к реке, лежали убитые – в основном немцы, русских было меньше.
Семенов отыскал Лукова:
– Живой?
Луков сплюнул в кулак кровь, вытер ладонь о темную прелую траву. Семенов думал, что Луков по обыкновению отмолчится, но тот ответил:
– Живой.
– Пойдем со мною, пока наступать не начали. Я тут немца одного малость придавил – не меньше артиллерийского одера[23] будет.
– Крупнозадый, значит, дядя…
– Сотри кровь со щеки, пока не засохла, и пошли искать этого лошака – рыжий, как лубочная картинка – его за километр можно опознать.
Немца они не нашли – то ли Семенов неверно сориентировался – в тумане ведь ничего не было видно, глазу не за что зацепиться, а когда пространство очистилось, то и земля стала другой, не узнать ее, а может, немец перегрыз зубами брючной ремень и уполз.
– Тьфу! – с досадой отплюнулся Семенов. – Ведь я его здесь уложил, здесь, – он топнул ногой по земле, – вон та воронка, вон, совсем рядом, я ее засек как ориентир… Но немца нету. Тьфу!
– Ваше благородие, но воронок таких на этом поле не менее двухсот будет, – не выдержал Луков.
После боя Луков преобразился, раньше он очень часто молчал, как Никифоров, а тут сделался говорливым, будто нижегородский рабочий на маевке.
Сотник еще раз оглядел поле. Туман уполз окончательно, неряшливые клочья его висели лишь над рекой, тихо плыли, прилепившись к воде, вниз по течению, земля очистилась.
– Немец, гад, уполз! – с досадою проговорил Семенов. – Очухался и уполз. Череп у него из чугуна отлит. Я раза три грохнул его прикладом – и хоть бы хны! Уполз!
– Бывает, ваше благородие, – сочувственно проговорил Луков.
– Ладно, пошли к своим. По-моему, шевеление началось – пехота подходит.
Но пехота не подошла. Разгоряченные, готовые совершить новый бросок на немцев, казаки ругались:
– Во черви дождевые! Небось ждут, когда Дресвятица обмелеет, чтобы пешком, по дну, не замочив ног, переползти на тот берег.
Командир полка Кузнецов пробовал связаться со штабом генерала Орановского – послал туда вначале одного казака с донесением, потом другого, но ни ответа, ни казаков не было, словно посыльные до штаба не дошли. А главное – не было пехоты, которую так ждали.
– Как все-таки преступно мы упускаем дорогое время! – не выдержал Кузнецов, хлопнул плеткой по голенищу сапога. Звук получился сочный и громкий, как выстрел. – За такие затяжки виновных надо отдавать под военно-полевой суд. – Он вновь хлобыстнул плеткой по сапогу. – Немцы сейчас очухаются, соберутся в кулак и полезут на нас.
К вечеру пехота также не подошла. Казаки ночевали на плацдарме, в немецких окопах, – лучше всех устроились уссурийцы, занявшие Фольварк, – ругали генерала Орановского, называли его Бараном Барановским и были, между прочим, правы…
Теплилась надежда – пехота подойдет ночью, переправится через Дресвятицу, прикрывшись темнотой, и подопрет крепким плечом казаков, но не тут-то было: пехота не подошла. Казаки, посланные с донесениями в штаб Орановского, слава богу, вернулись, но пустые, ни с чем – в штабе им даже никакого ответа на донесения не дали, ни письменного, ни устного.
– Ну слово-то хоть какое-нибудь сказали? – допытывался у казаков полковник Кузнецов.
– Никакого. Просто какой-то капитан сделал рукой «але гоп» и отправил нас назад.
– И все?
– Все, ваше высокоблагородие.
– Ничего не могу понять, – злился Кузнецов. – Это что? Предательство, недомыслие, трусость? Кто ответит, что это?
Не было храброму полковнику Кузнецову ответа. Казаки оказались заложниками непонятной штабной игры.
Пехота ночью не пришла, не появилась она и утром. Казаки поняли, что на этом страшном плацдарме остались одни.
За ночь немцы подтянули силы, собрали их в хорошо управляемый кулак и утром пятого сентября ударили по казакам, сидевшим в окопах второй линии. Те никогда не были мастерами «сидячей» позиционной войны, любили внезапный налет, атаку лавой, партизанские рейды, войну же из-за бруствера никогда не признавали – не их это было дело.
Немцы начали молотить снарядами по прежним своим укреплениям, которые они хорошо знали; тяжелые чушки с грохотом всаживались во влажную землю. Немецкая артиллерия работала больше часа. Казаки, забрызганные грязью с головы до ног, только кряхтели:
– Совсем озверел родственничек нашего любимого государя! Ни стыда ни совести нет – лупит и лупит!
А чего, собственно, кайзеру было не лупить? Мертвое железо для него было дороже живых людей, это в России все было наоборот…
С главного здания фольварка тяжелый снаряд снес крышу и швырнул на землю за оградой. Крыша крякнула, перерубаясь пополам. С плачем взметывалась к небесам земля, вместе с грязными пластами вверх взлетали окровавленные охапки травы, куски человеческого мяса, оторванные конечности, головы. Едкий селитряный запах заполнил пространство, он вышибал у людей слезы, выедал ноздри, сдирал кожу с губ… Бывшие немецкие окопы были превращены в ад.
После артподготовки немцы пошли в атаку.
Пока оставшиеся в живых казаки протирали засыпанные землей глаза, выковыривали ее из ноздрей, изо ртов, немцы подошли совсем близко. Они передвигались короткими перебежками – падали, поднимались, бросались вперед и вновь падали – боялись казачьего огня. А казаки молчали – еще не очухались от артиллерийской обработки – и пришли в себя, когда немцы находились в пятидесяти метрах от окопов.
– Где пехота? – прокричал кто-то надорванно, с тоской и неверием в то, что видел.
Пехоты не было – генерал Орановский, разработавший эту операцию, обманул казаков, это было даже больше, чем обман – он предал их.
Семенов, тряся гудящей от разрывов головой, поймал на мушку карабина немца, что-то жующего на ходу. Немец шел неспешно, вразвалку, как на прогулке, видно, считал, что от казаков после артиллерийской обработки остались лохмотья, рожки да ножки. Сотник сощурился, смаргивая слезу, и нажал на спусковой крючок.
Выстрела Семенов не услышал – уши были забиты грохотом и звоном, увидел только, что немец перестал жевать и остановился, резко вскинув голову, будто хотел этим движением поправить каску, съехавшую на нос, глянул в одну сторону, потом в другую и повалился на землю.
– Один пишем, шесть в уме, – пробормотал Семенов хрипло, подхватил на мушку второго немца, суетливого, кадыкастого, в большой, похожей на семейный казан каске, из ее притеми поблескивали два светлых рысьих глаза.
Этот немец был полной противоположностью первому – он боялся казаков, стрельбы, пуль, что могут быть выпущены из окопа, где сидели русские, делал мелкие броски то в одну сторону, то в другую, то неожиданно пригибался и едва ли не животом ложился на землю…
– Во глист! – произнес Семенов с удивлением. – Нервный слишком! – Повел стволом карабина за «глистом» влево, потом вправо и выстрелил.
«Глист» взвился в воздух едва ли ни на метр, выронил винтовку, заверещал и легким колобком покатился по земле.
– Два пишем, пять в уме, – пробормотал Семенов. Ни выстрела, ни голоса своего он по-прежнему не слышал – уши были словно землей забиты.
Вокруг поднялась стрельба, выстрелы звучали вразнобой, беспорядочно – и хорошо, что хоть звучали, поскольку организовать залповый огонь было уже невозможно – казаки очнулись и теперь, тряся чубатыми головами, передергивали затворы винтовок и карабинов.
Сотник взял на мушку следующего немца – тяжелого, согнувшегося под плотно набитым ранцем, высовывающимся из-за спины, и широким раздвоенным посередине подбородком. Немец этот на ходу вскидывал винтовку и стрелял по окопу, на который шел, почти непрерывно – будто гвозди вколачивал.
– Дурак! – просипел Семенов, чуть приподнял мушку и мягко надавил на спусковой крючок.
Винтовка отлетела от немца метров на пять – семеновская пуля попала в приклад, взбила сноп искр и, отрикошетив, угодила немцу в низ подбородка. Нырнула под челюсть, вошла в мякоть, будто в кашу.
– Три пишем, четыре в уме, – отметил Семенов, потряс головой.
Сотник еще никак не мог отойти от оглушения, от противной слабости, пробившей дрожью все его тело, застившей глаза белесой, схожей с туманом пленкой. Он стер пленку с глаз, увидел совсем недалеко от себя проворного, как блоха, унтера с нашивками на рукаве, торопясь, выстрелил, промахнулся и, выругавшись зло, хрипло, прицелился тщательно, совсем не беспокоясь о том, что унтер уже почти навис над ним – вот-вот и он пырнет Семенова своим штыком… Либо опередит своим выстрелом.
Унтер, не спуская глаз с Семенова, качнулся влево, потом вправо, затем снова влево, неожиданно опустился на колено и, стремительно вскинув винтовку, выстрелил в сотника.
Семенов точно уловил момент – угадал, нутром поймал миг, когда унтер надавил пальцем на спусковую собачку своей тяжелой винтовки – сделал это вовремя; если сотник запоздал хотя бы на малую долю, на мгновение, пуля снесла бы ему верх черепушки, а так она лишь скользнула по верху фуражки, выжгла клок материи и всадилась в дымящуюся кучу земли, поднятую снарядом в трех метрах от задней стенки окопа.
Унтер промахнулся, а Семенов нет, он всадил пулю немцу точно между бровями. Винтовка унтера хлопнулась в грязь, подняв целый сноп черных брызг, а его самого отбросило назад.
– Четыре пишем, три в уме, – прохрипел Семенов, прочистив горло.
До окопов оставалось пройти совсем немного, и немцы одолели бы эти три десятка метров, если бы не меткая, очень хладнокровная стрельба казаков. Они хоть и были оглушены и ослеплены артиллерийским налетом, хоть и потеряли многих своих товарищей, а смогли прицельной стрельбой разрядить цепь наступающих ровно наполовину.
Атака захлебнулась, немцы проворно, валом, покатились назад, Семенов же сумел снять еще одного германца – гривастого, бородатого, с просторным мешком за плечами, в котором запросто мог поместиться человек, – он убегал, делая огромные длинные прыжки, останавливался, оборачивался в сторону казаков и, зло кривя красное потное лицо, стрелял из винтовки и снова пластал пространство гигантскими прыжками.
В одну из таких остановок Семенов и поймал его на мушку.
– Пять пишем – два в уме.
Сотник как задачу себе поставил: срубить семь вражеских голов. Число семь возникло спонтанно, вроде бы из ничего, и походило на некий родительский наказ… Семь так семь. Он прислонился спиной к грязной стенке окопа, отдышался.
Немцев уже не было видно.
«Сейчас начнется. То, что немаков не видно, – ничего не значит», – подумал Семенов с зажатой внутри тоской, оглядел своих: все ли целы?
Неподалеку от него, подложив под себя заляпанный грязью снарядный ящик, сидел, подергивая головой, Никифоров, выковыривал что-то из уха и снова тряс головой. За ним виднелся Луков, тоже живой, не покалеченный, с бледным худым лицом. Семенов откашлялся.
– Мужики, сейчас немаки снова начнут нас снарядами обрабатывать, – предупредил он. – Будьте готовы.
Казаки в его сторону даже не повернулись – сил не было. Лишь Никифоров подергал плечом и пробасил незнакомым, совершенно чужим голосом:
– Знаем, ваше благородие!
Сотник приподнялся над бруствером, выглянул. Неровное, изрытое воронками поле было усеяно трупами. Немцев валялось не менее пятидесяти, почти все с ранцами – полевым припасом, который всегда находился у них с собою. «Раз есть ранцы – значит есть жратва, – отметил про себя сотник, – казаки голодными не останутся».
Над полем, на малой высоте, будто птицы какие, тянулись хлопья дыма. Это горел фольварк Столповчина. Пахло прелью, гнилью, гарью – на этом поле присутствовали все запахи, все, кроме запаха жизни, и осознание этого рождало желание сделаться маленьким, совсем маленьким, забраться в землю и раствориться в ней.
Через десять минут в воздухе послышалось бултыханье; казалось, по небу летел чемодан, набитый тяжелыми пожитками и раскрывшийся на ходу, пожитки должны были выпасть из него, но не выпали, громыхали внутри, крышка должна была отвалиться, но не отвалилась – летел «чемодан», трепыхался в воздухе, издавал неприятный, вызывающий зуд на коже звук – промахнул через поле, через реку и на той стороне, за водой, вдали от берега, всадился в землю, завалив несколько деревьев и порубив кусты. Вода в Дресвятице приподнялась от взрыва, очутилась в воздухе.
Перелет.
За первым «чемоданом» приехал второй, азартно повизгивающий в полете, раскаленный – воздух разрезал оранжевый, окруженный искорьем болид, лег в землю в трех метрах от кромки воды.
Снова перелет.
Третий снаряд шел беззвучно. Он летел, он ощущался, но звука его не было слышно. В окопе сразу сделалось нечем дышать. Это был один из тех самых опасных снарядов – беззвучных, что обязательно накрывают человека.
– Хы-ы… хы-ы… – донесся до Семенова странный звук. Кто-то из казаков давился воздухом, пробовал протолкнуть его в себя, но никак это не получалось – он не мог продышаться. – Хы-ы-ы…
Сотник представил, как трудно этому казаку, схватился рукой за горло. Выкрикнул:
– Помогите же ему!
– Хы-ы! – Казак, которого кто-то ударил кулаком по хребту, в последний раз вздохнул, пробивая твердый воздушный комок.
Перед линией окопов плотным темным столбом поднялась земля, закрыла небо, превращая день в ночь, края окопа сдвинулись, сплющивая казаков, вбирая в себя их тела. Послышались задавленные крики.
Горячий вонючий воздух промахнул над головой сотника, больно обварил его, Семенов замычал немо, пытаясь присесть на корточки, спрятаться, но сдвинувшиеся стенки окопа не дали ему опуститься, и сотник так же, как и казаки, находящиеся рядом, закричал. По голове его ударил крупный комок земли, как страшная черная курица, свалился на погон, следом ударил еще один комок, поменьше.









