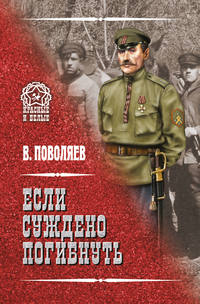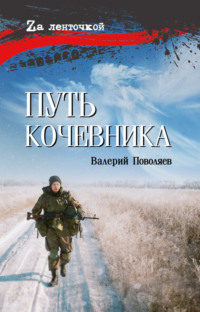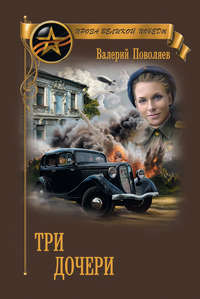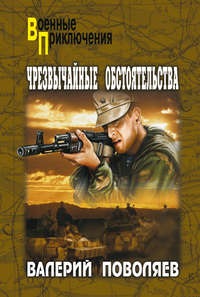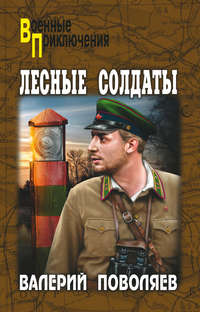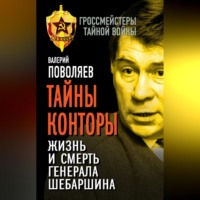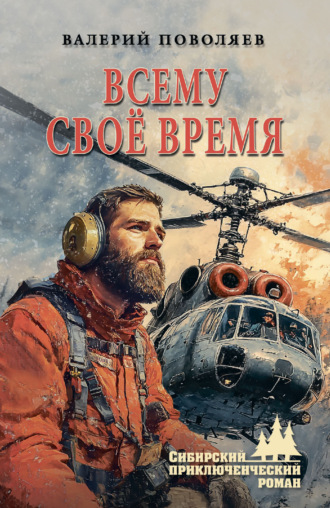
Всему своё время
Не целясь, Николай всадил в провал вторую пулю, и снова болото завозилось, словно кому-то было больно, а плоть его имела живую ткань, которую нельзя протыкать – вызывает пулевой ожог.
Раздался третий выстрел. Четвертый. Лицо Корнеева словно бы окаменело, сделалось страшным в своем нечеловеческом спокойствии, в узких глазах поблескивал-трепетал злой пламенек, и что самое страшное, от чего оторопели стоявшие рядом его друзья, – по лицу медленно текли тяжелые крупные слезы.
Пятый выстрел, шестой… Седьмой. И каждый раз болото отвечало вздохами, басовитыми всхлипами! Он стрелял и стрелял, желая одного – чтобы пули его попадали в ненавистное тело Воропаева.
К Николаю подошел Карташов, крутоплечий, усталый, с поблескивающим шрамом на лбу – когда Серега пришел к нему в отряд, Карташов носил на голове повязку, это была та рана, тот след, – сдавил ему плечи руками.
Николай снова, не целясь, выстрелил в черный болотный провал, вогнав эту пулю в то же малое пятнецо, куда он уже всадил прежние.
– Не надо, Николай, – глухо проговорил Карташов. – Этой пальбой ты никому не поможешь. Ни себе, ни матери, ни мертвому брату, ни людям – ник-кому.
Некоторое время Корнеев сидел неподвижно, держа в увядшей непослушной руке маузер, потом поднял голову. Глаза его уже были сухими, лишь на худых жестких щеках не истаяли еще слезы да нервно дергались плоские сизые жилки в костлявых височных впадинах. Поднялся.
– Ладно, – в последний раз поглядел туда, где нашел свою смерть Воропаев. Вложил маузер в кобуру. – Ничего не поделаешь, верно. Будем жить дальше.
Всех связчиков Воропаева поймали: и кудрявого конвоира – любителя семечки полущить, и напарника его, молчаливого бледного парня, и других, всех, кто принес столько бед местным мужикам. Все они были расстреляны в уездном центре.
А вог граф Рогозов исчез, никакого следа не оставил, Николаю же Корнееву очень хотелось повидаться с ним, поговорить с глазу на глаз, все узнать об обстоятельствах гибели Сереги.
Но пропал граф, канул, словно бы в глубь обскую погрузился.
Через год Николай Николаевич Корнеев, которого почти ничто, кроме матери, не держало в селе, уехал в Тюмень. До самой войны он все еще мечтал увидеть Рогозова, но не удалось ему это. В декабре сорок первого года Николай Корнеев был убит под Москвой, когда сибиряки прибыли на помощь столице. Похоронили его в Москве на Преображенском кладбище, в братской могиле.
Осталось у Николая Николаевича трое детей. Старший – Константин, средний – Сергей, которого назвали в честь геройски погибшего пятнадцатилетнего Сереги Корнеева, и младший – Владимир.
Глава пятая
Слово «дорогой» одновременно и приятно, и отталкивает, ибо им пользуются и влюбленные, и скупцы. Оно одинаково напоминает и о сердце, и о кошельке.
Антуан Ривароль– Ты прости меня, ладно? – шепотом произнес Володя. – Простишь, а?
Валентина освободилась от объятий и уже не слышала его. Словно бы зов далекий донесся до нее, словно бы поняла она что-то. Неожиданно уткнулась лицом в ладони, затряслась не то в плаче, не то в смехе. Ей было страшно. Страшно и зябко, несмотря на духоту квартиры и угасающую, но еще сильную жару за окном. Она корила себя, терзала и одновременно верила, что подобные ошибки случаются только один раз в жизни и, случившись, никогда больше не повторяются. Значит, и с ней никогда подобное больше не повторится. Все это дурной сон, наваждение, бред, все это должно остаться тайной. Никто никогда ничего не должен знать о ней. Никто. Никогда.
Но как она будет теперь смотреть в глаза Косте, как? Может быть, просто отодвинуть его в сторону, отгородиться завесой отчуждения, поставить крест на том, что было? Что было, то было. Будто и не было вовсе. Не было, не было, не было!
– Ну, выплакалась? – грубовато спросил Володя. – Не плачь! Пожалуйста.
Эх, Корнеев, Корнеев! Все вы Корнеевы такие, не понимаете, что происходит вокруг. А что, если все случившееся станет известно в городе – славном, милом, до душевной маеты необходимом городе, который Валентина любила, любит сейчас и будет любить всегда?
Еще вчера – не позавчера, а вчера – их город был провинциальным, что называется, чалдонским – идешь по улицам и гадаешь: город это или не город? Скорее всего просто большая деревня, дома широкостенные, приземистые, как кубышки, на земле стоят косо, срублены из бревен-целкачей, от времени покрывшихся копотью, заборы, как крепостные стены, только бульдозерам их брать, за каждым забором собака бесится, а сегодня это настоящий город.
Когда началось массовое жилищное строительство, многие чалдонские крепости были снесены. Хозяева получили квартиры, переехали вместе с домашней утварью, с коврами и кухонным скарбом, позабирали с собой все, даже фикусы и кошек, а вот собак оставили… Некуда было их брать, да и незачем.
Как-то в вечерней телепередаче Валентина выступила с рассказом о брошенных собаках, выступление наделало шуму и принесло диктору настоящую популярность. Как ни странно, именно после того самого, теперь уже далекого, но такого памятного выступления, Костя стал подтрунивать над ней и ее работой. Валентина хорошо знала его натуру, понимала значение и косого, брошенного вскользь взгляда, и частое подрагивание пухлых, шелушащихся от мороза и ветра губ, и ироническое «хм-м», вроде бы никому и не адресованное. Нельзя сказать, чтобы это ее обижало, нет – но задевать задевало.
Она часто вспоминала первые встречи с ним – и как ей только вскружил голову высокий капитан с орденами, густо теснившимися на груди? Замужество ее напоминало прыжок с отвесного, страшновато-высокого берега в летнюю речную воду, когда летишь долго-долго, телом стремительно рассекая воздух, и в этом затяжном полете осекается дыхание, сердце обрывается, судорожно бьется на лету, вместо него, кажется, остается лишь сладкая боль. Затем – удар о воду, зеленоватая тишь глубины и отрезвляющий, какой-то крапивный холод, желание как можно быстрее вынырнуть, вернуться назад, на крутой береговой откос.
Если бы у Валентины спросили, счастлива она или нет, то вряд ли бы она сегодня сумела дать однозначный ответ. И да и нет. Собственно, наверное, как и всякая жена, как всякий муж.
Ей, девчонке, только что окончившей педагогический институт, льстило, что у нее такой героический супруг, фронтовик – орденов много, носит ее, что называется, на руках. Ну чего еще надо для счастья? Наверно, что-то еще нужно человеку, не только нежность и любовь, – ему хочется, чтобы жизнь была многообразна и полна.
…Валентина вскинулась, словно от удара, подняла руку, стараясь дотянуться до Володиного лица, хлопнуть его по шеке, но не дотянулась. И сказать ничего не сумела, только:
– Ты… ты… ты…
А Володя Корнеев все понимал по-своему. «Надо переждать», – сказал самому себе. Переждать, пока она отойдет от шока, опять станет самой собою – той самой, которую он любил, к которой прежде испытывал нежность, а сейчас – что-то другое, похожее на жажду, чему и названия-то он не находит. Он отодвинулся к стене, у которой стояла тахта, сжался, притих. Если бы он курил, подумалось ему, то обязательно сейчас сунул бы в рот толстую «казбечину» или крепкий студенческий «Дукат», подымил бы немного, попытался бы разобраться в превратностях судеб человеческих, проанализировать пути-перепутья, жизненные зигзаги, которые иногда заставляет делать какая-то не подвластная человеку сила…
Мысль же у него билась одна: «Надо ждать. Ждать, когда эта оглушенная женщина очнется».
…Валентина опять забыла о нем, перенеслась в мыслях далеко, очень далеко от этой комнаты. Не было удушливо спертого воздуха, запаха гари и асфальта, а главное, в эти мгновения не было ничего напоминающего о чудовищной ошибке – все оставалось, как и раньше, на своих местах. Она сейчас вспоминала прошлое, лучшее, как ей казалось, – лучшее, что было в ее жизни с Костей.
Грезилась ей зимняя, освещенная невероятно слепящим, голубым светом луны лесная поляна. Тени от тревожно-яркой луны были длинными, прозрачными, снег двигался, волновался, как речная гладь, жил своей сказочной, колдовской жизнью. Деревья оцепенели в крепком зимнем сне – ни одна ветка не пошевелится, ни одной иголки на лапах елей не видно, под искристо-голубыми нашлепками снега – пронзительно-черные провалы, тьма, в которой едва-едва – скорее чутьем, чем глазом, – угадываются бугристые крепкие стволы, наросты сучьев, окаменелости смолы, причудливое переплетение ветвей.
В самом начале их совместной жизни Костя повез ее в «загородный охотничий домик» – если можно было так назвать бревенчатую, темную от возраста и непогоды пятистенку, стоящую в девственном сонном лесу километрах в сорока от города. «Загородный охотничий домик» принадлежал одной уважаемой организации, которой руководил давний – еще по фронту – Костин товарищ, молчаливый сутулый человек с добрыми тихими глазами и сизоватым рваным шрамом, развалившим пополам правую щеку, – след немецкого осколка. Товарищ служил вместе с Костей в одном полку, только на другом участке: Костя летал, а его друг находился в БАО – батальоне аэродромного обслуживания. Однажды Костя вывез его, раненного, обескровленного, с «ТТ» наготове, чтобы пустить в себя пулю, из окружения с задымленного, разбитого «юнкерсами» брянского аэродрома в наш тыл, спас жизнь.
Пятистенка была черно-голубой в лунном свете и – вот диво! – прозрачной, словно ее сработали не из крепкобоких темных сосновых бревен, а из дорогого, невиданной красы камня. Похожа она была на хоромы волшебника, даже дым из высокой, вонзающейся в небо трубы шел как-то по-особому, словно вылетал из орудийного ствола, – сплошной вертикальной струей.
Дым вонзался в студеный воздух, светился под луной и растворялся в ночной тьме высоко-высоко.
Около избушки то и дело позвякивала цепь, будто кто-то им подавал знак. Валентина, приглядевшись, ахнула, потом рассмеялась неожиданно счастливо и, не удержавшись, чмокнула Костю в щеку.
Валентина увидела любимого своего зверя, повелителя детских сказок – около пятистенки мотался на цепи из стороны в сторону поднятый на ноги остановившейся невдалеке машиной молодой медведь. Поскольку был он еще юн, то не очень-то смыслил в жизни, выходил из себя по любому мелкому поводу, маялся, тратил понапрасну силы – старый медведь приоткрыл бы один глаз, посмотрел, кто пожаловал в гости, и, не найдя ничего для себя путного, снова погрузился бы в дрему. Ведь зимнее забытье слаще всего на свете; даже слаще конфет, которыми его могут угостить эти поздние пришельцы. А молодой мишка нервничал, гремел цепью, месил лапами снег, втягивал ноздрями воздух, четко перебирал его струи, нити, стараясь определить, что несут эти двое, чем могут угостить, крутил головою, реагируя на их смех, и если бы умел выть – обязательно б завыл.
Дверь им открыл волосатый, по самые глаза заросший чалдон с недобрым лицом и медленной развалистой походкой. Валентина испугалась его, невольно прижалась к мужу. Чалдон испуг заметил, сощурил глаза, из бороды – беспорядочных скруток волос – выплеснулись какие-то невнятные слова. Костя рассмеялся, что-то сказал хозяину, ласково обнял жену за плечи, и она успокоилась, сразу показалась сама себе маленькой – а ведь действительно в каждом из нас, несмотря на годы и солидность, живет ребенок…
Разбойный вид чалдона довершала одежда – он был наряжен в черный, крупной домашней вязки свитер с суконными заплатками на локтях, в ватные брюки, перехваченные тягучим сыромятным ремнем, и катанки. На поясе, в ворсистой жесткой кобуре, сшитой из свиного чепрака, висел нож.
Несмотря на внешнюю скованность движений, неуклюжую походку, чалдон оказался мужиком проворным и хватким.
В избе все сияло – пол, стены и стол были вымыты с мылом и добела выскоблены ножом, печь жарко натоплена. С крутого, больно хватающего за скулы мороза они будто бы в рай угодили – в избе было сухо, даже чересчур, и жарко: гости, казалось, должны были взмокнуть здесь, как в африканской пустыне облиться потом, но нет – лишь лица сделались темнее в жаре да дыхание участилось, – а так ни одной росинки на лбу.
Тело воспринимало этот крутой жар естественно, как собственное тепло, вот ведь – чалдон знал свое дело, был мастером хранить тепло и, как всякий мастер, ведал, что человеческое тело принимает, а что отталкивает.
Хозяин медленно и тяжело повел рукой – раздевайтесь, мол, дорогие гости, вешайте одежду на крюки. Кованые самодельные крюки были ввинчены в бревна рядом с дверью, на них можно было не только легкую Валентинину дошку и Костин полушубок повесить, а одежду целой роты.
Пока они, почему-то смеясь, рдея щеками от жара, раздевались, чалдон собирал на стол. Оглянулись, увидели: на столе стоит потная, пускающая слезы по крутому черному боку бутылка шампанского, отдельно – закуска.
Костя выкрикнул что-то коротко и радостно, метнулся к столу, схватил бутылку шампанского, сделал несколько почти неуловимых движений, и в ту же секунду жаркую тишину чалдонской пятистенки всколыхнул выстрел. Мягкая, раскисшая от вина пробка, роняя крошку, впилась в потолок, отскочила от него резиновым мячиком. Из бутылки вот-вот должна была выхлестнуть золотистая пенная жидкость, но Костя опередил ее, подставил под горлышко граненый стакан. Фужеров здесь не было, имелись только стаканы. Другую посуду тайга не признает.
Костя сегодня работал, как циркач, и Валентине было весело и легко от этого мужниного азарта, ловкости, за которую в другой раз она обязательно отругала бы его – ведь в ней, как и в любой другой российской женщине, был сокрыт природный, добродушный укор, роптанье в адрес непутевого мужика, который без нее, без бабы, чаще всего – ничто, а с ней – хозяин, челове-ек, глава семейства.
Тем временем чалдон выставил на стол дымящуюся рассыпчатую картошку в большом алюминиевом блюде, сдобренную тертым чесноком и лавровым листом, пар от картошки поднимался густым столбом, дух шел такой, что голова невольно кружилась; в глиняной старой миске с изъеденными временем краями – грибы, самые лучшие, что водились в тайге, – боровики, на деревянной, со следами порезов подставке – светящийся восковой вилок квашеной капусты и отдельно, в туесе, «царская ягода» – моченая брусника.
Бруснику здесь заготавливают центнерами, как и клюкву, выходят на мшарники целыми семьями, домой возят бочками. Ухода и специальной обработки – засолки, маринада, квашения – ни клюква, ни брусника не требуют: надо залить бочку сверху теплой чистой водой, чтобы не обвяла ягода за зиму, не сморщилась, потом закупорить деревянным кругом. Вот и вся «засолка». В сибирских деревнях бруснику едят с картошкой, с мясом, с рыбой, используют как начинку для пирогов, просто лакомятся в будни и в праздники и лечатся ею от мигрени – брусника снижает кровяное давление.
Чалдон принес с улицы две окаменело-янтарных замороженных стерлядки. Проворно выхватив из чехла нож, тонко настрогал стерляжьего мяса в тарелку, оно, морозное, ломкое, искрилось жемчужно, в блюдце налил уксуса, приправил перцем, насыпал соли. Быстро перемешал – приправа готова. Стерляжья строганина – что может быть нежнее и вкуснее ее в угрюмой заимке?
Валентине все тут было по душе: и заимка, и голубая луна, и беспокойно-трезвый медведь, которому не суждено было в эту зиму уснуть, и обжигающая картошка, и брусника, и даже сам угрюмый, пока ни единого слова не произнесший чалдон, которого она поначалу испугалась, а сейчас привыкла, и стерляжья строганина.
Много у них было потом поездок – в Москву, в Ленинград, в Крым, в Прибалтику, – были и полеты в тайгу, ночевки у озер, но больше всего запомнилась именно та, первая поездка, сухая изба, струистый, выплескивающийся из кирпичной трубы дым, бесконечно длинной свечой застывающий в глубоком небе. Неужели все это ушло в прошлое?
Она почувствовала, что ладони стали мокрыми. Плакала? Она не могла вспомнить, плакала или нет.
– Хватит, хватит, – донесся до нее голос Владимира Корнеева, вызывавший теперь только неприязнь. – Вставай! Пошли куда-нибудь!
Не поднимая головы, она проговорила зло, хриплым, неузнаваемым голосом:
– Уходи отсюда! Сейчас же!
Она почувствовала, как озноб охватывает ее всю. Через некоторое время, будто сквозь сон, услышала стук закрывшейся двери.
Глава шестая
Граф Рогозов не исчез бесследно, нет. И за границу ему уйти не удалось, как ни хотел он этого.
Через несколько лет в сухую июльскую пору, когда ни дождинки, ни росинки на землю не выпадает, через Малыгино проехала таратайка, в которой сидели два работника милиции с винтовками, а между ними, на охапке сена, свесив длинные ноги чуть ли не до земли, Рогозов. Он ничуть не изменился – по-прежнему был моложав и надменен, и лицо было все тем же – худощавым и белым («Такой белый, такой белый – почти синий», – рассказывали потом малыгинские бабы, луща кедровые орехи), голова с чуть поредевшими волосами, разделенными все тем же ровным пробором.
Сзади верхом ехал еще один милиционер – верно, начальник, поскольку милиционер этот был вооружен не винтовкой, а наганом, засунутым в скрипучую кожаную кобуру. Видно, Рогозов являл из себя преступника важного – кобура нагана была предусмотрительно расстегнута, и в распахе ее виднелась вороненая рукоять. Был начальник молоденьким и смешливым – пока ехал по селу, все белоснежные зубы свои бабам показал.
Когда Рогозова провезли уже через село, об этом сказали матери Сереги Корнеева. Она вышла на крыльцо, опираясь на суковатую, хорошо высушенную и потому очень легкую клюку, – совсем старая, сгорбившаяся после смертей, навалившихся на нее, и, мучительно щуря слезящиеся полуслепые глаза, долго смотрела на дорогу, в конце которой был виден небольшой клуб пыли, поднятый телегой и верховым милиционером. Потом повернулась и скрылась в доме.
После мужики сказывали, что Рогозов был заключен в лагерь, хотя, честно говоря, его к стенке надо было прислонить да пальцем на спусковой крючок дробовика нажать, – так они выражались, но, говорят, занималась им специальная комиссия, которая-то и решила оставить его в живых, поскольку руки поручика оказались не замаранными впрямую кровью – в расстрелах и казнях он не участвовал, пытать никого не пытал, это и облегчило его судьбу. Да кроме того, он специалистом был, дипломированным инженером – окончил в Петербурге политехнический институт, – а инженеры в ту пору были позарез нужны.
Кое-кто из мужиков, полдесятка таких нашлось, узнав, что через село провезли Рогозова, схватился было за дреколье, за вилы – взыграла кровь! – но их окоротили: куды, мол, дураки, лезете? Рогозова же власть охраняет, три милиционера с винтовками и с наганом. К тому же судить его будут… Дружно сплюнули раздосадованные мужики, побросали вооружение и разошлись по домам.
О чем думал Рогозов, трясясь на телеге, вдыхая горький запах пыли, болотной и таежной прели? Как ни странно, ни печали, ни тоски – ощущений, что обычно возникают с неизвестностью грядущего, – не было. Другое было – какая-то странная, холодная, мертвая пустота, безразличие ко всему и вся – к судьбе своей, к жизни, к лету, вызвездившемуся в здешних краях, к прошлому своему, к товарищам, полегшим вдоль многих дорог империалистической войны, войны Гражданской, верным воинскому долгу и офицерской клятве, сражавшимся до конца, до последнего патрона в револьвере, до последнего дыхания и – увы – погибшим.
Во имя чего?
Рогозов тяжело вздохнул, прислушался к шуму в груди: застудил легкие, не сберег здоровье в сумятице последних лет. Да и как сбережешь, когда кругом властвовала одна только смерть? Голод, холод, тиф, огонь, свист пуль, виселицы, мужицкие вилы, неопределенность положения и тьма, тьма, тьма! Сплошная темень, в которой ни зги не видно и не знаешь, куда двигаться, за кем идти.
Подняв голову, он прислушался к резкому гортанному крику, раздавшемуся неподалеку, – кричала какая-то крупная птица со скандальным характером. Птица вскрикнула еще раз, и Рогозов, не выдержав, вздрогнул: настырным и зловещим был этот вскрик, в нем определенно был сокрыт какой-то знак, будто птицей этой руководила некая высшая сила.
Усмехнулся Рогозов – в бога он не верил. Тогда чего же он испугался?
Впрочем, странную встревоженность, охватившую его, нельзя было назвать испугом, Рогозов даже не мог объяснить себе, что это такое. Словно бы повинуясь какому-то неведомому приказу, он медленно повернул голову, цепляясь глазами за каждый предмет, уплывающий назад, за цветы и пыльные придорожные былки[2], кусты, увидел неподалеку, на высокой светлой горбине, памятник с блестящей, недавно подновленной звездочкой, ровную аккуратную ограду, сколоченную из оструганных реек, колкие тяжелые лапы сосен, тянущиеся к памятнику. Попытался что-то вспомнить, наморщил лоб, напрягая память, но ничего не вспомнил, свесил голову, снова погружаясь в угрюмое молчание, скользя глазами по пыльным куртинам, замшелым придорожным валунам, сырым, не пропадающим даже в жару пятнам земли – в этих местах били глубинные ключи, либо же вплотную к проселку подступала болотная прель.
Его абсолютно не тревожило будущее, жизнь, которую он должен был прожить. Он не знал, куда его везут – это совсем не волновало, – хотя понятно было одно: отныне ему предстоит поселиться в этих краях. Может быть, его расстреляют? Это Рогозова тоже не тревожило – меньше мучений будет.
Впрочем, рогозовские губы тронула легкая, едва приметная улыбка: стоило его везти для этого за тысячу верст, девять граммов свинца могли найти и в тех глухих местах, где он был взят чекистами. Не-ет, вряд ли кого повезут в такую даль – вначале на барже по реке, теперь вот по проселку, – чтобы расстрелять. Вряд ли.
Дорога сверзлась вниз, круто пошла в распадок, между мощными сосновыми стволами виднелся глухой черный кустарник, холодный и сырой, и Рогозов подумал, что, может быть, соскочить сейчас с телеги и побежать в этот распадок. Милиционеры обязательно палить будут по нему, поймает он пулю, ткнется лицом в землю и тихо умрет – и никаких тогда мучений, никакого будущего, останется одно лишь прошлое.
Но и эта мысль оставляла его равнодушным, не было у него ни сил, ни желания бежать, подставлять спину пуле. Хотя желание, чтобы все скорее кончилось, не угасало в нем.
Они еще трое суток двигались на север от села, преодолев по извилистому, петляющему среди болот проселку примерно полторы сотни километров, пока в предзакатном розовом сумраке храпящие усталые лошади не остановились у прочных, добротно сколоченных ворот, рядом с которыми находилось кривобокое растрескавшееся зимовье, приспособленное под сторожку. Налево и направо от зимовья уходил высокий острозубый забор – тоже, как и ворота, добротно сработанный, поверху увенчанный тремя нитками колючей проволоки.
«Вот она, расплата», – понял Рогозов.
Из сторожки вышел человек, одетый в легкую рубчиковую гимнастерку, перетянутый кавалерийскими ремнями, спросил у спешившегося милиционера – старшего в конвое:
– Их благородие привезли?
Тот кивнул в ответ:
– Бывшее.
– Давай сопроводительную бумагу. Будем принимать аристократию по реестру.
Несколько раз потом Рогозов жалел, что не спрыгнул тогда, в распадке, с телеги и не побежал – тошно становилось, тоскливо и больно от безнадежности собственной жизни, от ощущения жестокого проигрыша, от всего, как он считал, худого, что выпало на его долю.
Осужденные работали на лесных делянках, тянули сквозь болотную бездонь земляную насыпь, на которую, говорят, потом будут положены рельсы железной дороги. «Но будут ли?» – усмехался Рогозов. Он не верил в затею – проложить дорогу на север, к Обской губе, к океану и раньше, еще при царе, хотели, да ничего из этого не вышло.
Чтобы как-то забыться, в скудные часы вечернего отдыха он думал о прошлом, вспоминал безмятежные дни, крымское имение свое, жаркую желтую степь, нарядных гимназисток и степенно-красивых барышень «на выданье», кипарисовую рощу, примыкающую к дому, и далекую синюю полоску моря – родовое имение Рогозовых находилось километрах в четырех от берега.
И задыхался Рогозов от тоски – тянуло вернуться в прошлое, в безмятежные солнечные дни, к гимназисткам и барышням, к милой, розоволикой, с веселым взглядом, ангельски беспечной, стройной своей Оленьке, на которой женился в пятнадцатом году, когда приехал на две недели из Царского Села к себе в имение.
На следущий день после свадьбы произошло несчастье: племенной бык, приставленный к коровьему стаду и никого, кроме хроменького кособокого пастуха Агапа, не признающий, ткнул рогом дядю Рогозова – Георгия Георгиевича. Угодил зверь точно в сердце – дядя побелел, оперся об ограду, пытаясь удержаться на ногах, ибо считал неудобным хлопнуться на землю при людях – рядом были молодожены, много военных, весь крымский свет собрался, – нарядные одежды, аксельбанты, ордена, парадные погоны, шитые золотой нитью, – но куда там, удар был сильным, ноги Георгия Георгиевича подогнулись, и он рухнул на траву. Когда дядю подняли, он был мертв.