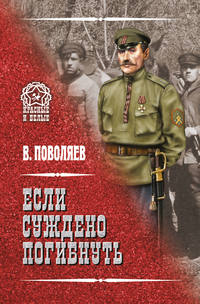Всему своё время
– Ты что сказал? – на лбу Валентины в недоумении собрались морщинки.
– Я тебя люблю, – повторил он, глядя не в глаза ей, а на эти морщинки.
– Перестань, Володя, что ты, что ты, – рассыпчато зачастила Валентина, – что ты, что ты…
Внешне ничего не изменилось: по-прежнему призывно гремела музыка, горели, беззвучно потрескивая в саксофонных взвизгах и гитарных переборах, свечи – в этом доме любили, чтобы горели свечи, – кружились Володя Корнеев с Валентиной, Сергей со своей рослой девушкой, по-прежнему насмешливо щурил глаза Костя. А внутренний психологический сдвиг уже произошел, готовилось стихийное бедствие: маленький катыш снега, брошенный с вершины вниз, покатился, набирая скорость, грозя за собою поволочь куски льда, валуны, щебень, этот поток начал выдирать из земли пни, деревца и деревья, цепкие, ни за что не желающие расставаться с жизнью низкорослые колючие кусты. Такова сила страсти: проходит всего несколько мгновений – впрочем, эти мгновения могут растянуться на годы, – и загрохочет, понесется вниз лавина, сметающая все на своей дороге.
В этом доме становилось особенно уютно, когда выключали электрический свет и зажигали свечи. Валентина обожала свечи и из каждой командировки – в Москву ли, в Ленинград ли – обязательно привозила их. Свечи были самых разных форм и калибров: квадратные, круглые, витые, треугольные, похожие на пирамиды Хеопса, пахнущие ландышем, хвоей, фиалками, медом, смолой и воском, были они разных цветов – красные, янтарно-желтые, слепяще-белые, словно вырезанные из дорогой слоновой кости, голубые, даже пепельно-черные, едва приметно отдающие синевой, с весенним жасминовым духом и те были – разные редкие штуки умудрялась доставать Валентина.
Когда в квартире зажигались свечи, устанавливалась какая-то особая прозрачная тишина, в которой человек слышал самого себя, ловил собственное дыхание, радовался тому, что живет на белом свете.
Человек всегда любил, любит и будет любить живой огонь, подрагиванье светлого пламени, тихий треск горящего фитиля, запах дыма – все это находит отзвук в каждом сердце.
Были в этом доме свечи совсем уж чудные, немалых денег стоившие, настоящие архитектурные сооружения – такие свечи даже жалко сжигать. Но Валентина не жалела дорогих свечей. Костя одобрительно хмыкал: правильно, Валька, нечего быть рабою вещей! Пусть живой огонь горит, пусть доставляет людям радость, И оплавлялись, кривились, сгорая в пламени, искусно сработанные из парафина церковные маковки; кованные из непрочной восковой бронзы массивные кружки с крученым фитилем, торчащим из углубления вверху, рождающие высокий розовый огонь, пахнущие ладаном; отлитые из прозрачной горючей массы боевые слоны Гамилькара с любопытно-черными точечками глаз и роскошными ездовыми корзинами, установленными на спине; свечи в виде александрийского столпа, гордые и высокие, словно они были сработаны из мрамора; свечи-птицы, свечи-звери, свечи-корабли и свечи, отлитые в виде старинных автомобилей и колясок.
Человек любит смотреть на огонь. Спокойным и умиротворенным становится его лицо, во взгляде рождается мечта, по щекам пробегают светлые тени. Огонь заставляет человека думать – думать! – такова внутренняя сущность этой таинственной силы, огня. Огонь позволяет человеку не только жить, не только кормить себя и обогревать, а и исполнять высочайшее предназначение, отведенное венцу природы, – рождать мысли. А впрочем, что ж тут удивительного: венец есть венец, он должен мыслить. В нем есть все: злость и веселье, удаль и трусость, порок и добродетель, он способен умирать и возникать из пепла, все в этом мире подчинено ему, в том числе и огонь.
Всхлипнул и угас последний гитарный аккорд, музыка кончилась. Володя опустил руки, Валентина вырвалась из силка и тут же унеслась на кухню: гости, они ведь кофе потребуют, а к кофе и сладости, и все это надо подать. Володя с колотящимся и будто раскаленным сердцем прошел на свое место. Он вдруг заметил стоявшую на столике в углу фотографию. Снимок был наклеен на плотный картон-прессшпан, сзади к нему неизвестный мастер – может быть, даже сам Костя – прикрепил ножку, чтоб снимок не падал. Он был сделан вскоре после войны, когда Костя демобилизовался и вернулся домой в ладной летной форме с золотыми капитанскими погонами. В погоны для особого шика были вставлены фибровые пластинки, и погоны, ровнехонько-прямые, гладкие, тугие, плотно прилегали к литым Костиным плечам.
Старший Корнеев, хороший летчик, не боялся лезть в драку и был не раз награжден. Жизнь после фронта казалось ему безмятежной, она должна была состоять сплошь из розовых зорь, из одних только улыбок. Долгие лишения на войне должны были окупиться удачами мирной поры, и в глазах у Кости буквально жило некое предчувствие побед на всех фронтах мирной жизни, побед без пулеметного треска, без задыхающегося моторного клекота, без зенитных хлопков, без стонов и без крови, без дыма, без вздрагивающей земли, что как живая стонет и плачет, когда в нее врезается грудью поверженный самолет, без могил друзей, оставленных на обочинах пыльных дорог, – туго оббитых лопатами земляных холмиков, поднявшихся посреди пожухлой травы; побед без страхов и бессонных ночей. Но мирные победы давались непросто. Легкие горькие складки, что протянулись от крыльев носа к губам, говорили, что не так много розовых зорь выпало пока на Костину долю.
На карточке он сидел в самой середине собравшихся – герою почет, место в центре, – слева находился Сергей, он стоял, положив руку на плечо брата, прямой и сосредоточенный, с настороженным взглядом, справа – Володя, крутолобый, ловкий.
Фотограф, снимавший братьев, сделал три отпечатка – каждому, но потом Костя, перед самой свадьбой, потерял свой, пришел к Володе как-то, попросил:
– Дай мне фотокарточку нашу. Переснять надо. Понимаешь… потерял. Говорят, потерянная фотография – к раздору.
– Ты что, веришь в приметы?
– Я – летчик.
Володя вытащил из-под настольного стекла свой снимок, отдал Косте. Тот вручил его какому-то заезжему умельцу – большому мастеру по части увеличения старых снимков, и умелец постарался – видать, ему понравился молодцеватый летчик, из простенькой небольшой фотографии сделал целую картину, которую можно было вставить в раму и повесить на стену либо, наклеив на картон и приделав сзади ножку, водрузить на стол. Костя так и поступил.
Сергей тоже хранил фотографию, возвращающую их в прошлое, то славное, ставшее уже недосягаемым время, которое каждый вспоминает с какой-то сладкой грустью. И это не сентиментальность, нет – просто все мы связаны прочной нитью со своим прошлым. Разорвись она – и в нас умрет память. А человек, лишенный памяти, – это уже не человек. Без этой связи, без памяти то есть, человек теряет не только разум и облик – теряет свою чистоту, внутреннюю силу, мужество, способность сопротивляться и грести навстречу течению. Воспоминания о детстве часто поддерживают в трудную минуту, дают возможность дохнуть свежим воздухом, прийти в себя, перемочь слабость.
Несколько минут Володя невидяще глядел на фотоснимок, потом провел рукою по лицу – пришел в себя, отвернулся, стал гадать: что же будет дальше? В нем поднялась тревога за себя, за брата, за Валентину. Ушел он с праздника первым.
На следующий день Костя и Сергей одним самолетом – заиндевелым полярным «илом» – отбыли в тайгу, на север. Каждого ждало его дело: Сергея – буровая, Костю – старый вертолет, ставший для него самым настоящим живым существом, чем-то вроде домашнего животного, члена семьи. Володя Корнеев вернулся в свой НИИ, к спорам о сибирской нефти, к бородачам-коллегам, никак не расстававшимся со своим детством и продолжавшим играть в романтиков, ловцов тумана, любителей тихого зимнего снега, заметающего брезентовые бока палатки.
У Володи была самая интеллигентная в семье Корнеевых профессия – наука, двигал вперед науку, но случилось, сил двигать ее не хватало, слишком много было проблем, решение которых требовало мужества. У многих так и не хватило его – бросали НИИ, уезжали туда, где ждала другая жизнь, спокойная.
Например, Сомов, нескладный краснолицый малый, с которым Володя Корнеев никак не мог найти общего языка. А ведь их родные – солдат Сомов и малыгинский комсомолец Серега Корнеев – похоронены вместе. В начале двадцатых годов они погибли от рук белых. И так приглядывался к Сомову Володя и этак, и так подлаживался и сяк – ничего у него не получалось, Сомов был прямолинеен, как доска, однозначен в суждениях, на компромиссы не шел – попробуй уживись с таким.
Ушли и другие. А Корнеев проявлял завидное постоянство, он все работал и работал, НИИ не бросал: верил в дело, знал, что здесь он – не последняя спица в колеснице.
Летом в городе пахло гарью – от крутого солнечного жара полыхали торфяники, горели леса, дым стискивал горло, слезились глаза, кровь колоколом бухала в ушах. На перекрестках стояли бочки с квасом и пивом, неуклюжие тележки с водолазными баллонами и длинными, гибкими макаронинами шлангов – продавали газированную воду. Выйдя как-то вечером из института, потный, полуослепший от дыма Корнеев остановился у одной из тележек, заказал два стакана «газировки» с сиропом. Стоял, смаковал холодную пузырчатую воду, болтал ее во рту, остужая зубы, небо, язык. Детское занятие. Детское-то детское, а приятное.
– Вот где, оказывается, можно встретить родственника, – вдруг услышал он и, почувствовав, что щеки ему будто огнем прижгли, медленно повернулся. Улыбнулся. Улыбка вышла настороженной.
– Это ты? – пробормотал он, узнавая и одновременно не узнавая женщину, которая его окликнула. – Валя, ты? Сколько лет, сколько зим!
С того первомайского праздника они так и не виделись, хотя Володя хорошо знал все о жизни братьев и Валентины. Знал, где летает, куда возит грузы и людей Костя, с какого квадрата в какой передвигается со своей бурильной установкой Сергей, Валентину он часто видел на экране телевизора, и тоска по ней, смешанная с обидой за тот вечер, поднималась в Корнееве. Но каким-то особым «шестым» чувством понимал: не надо пока появляться. Почему? – сам не мог этого объяснить.
– А я-то думаю-гадаю, куда же это ты задевался, ну куда? Не звонишь, не заходишь… Оказывается, вот он. Ученый, обремененный великими делами, – Валентина бросила взгляд на его портфель. – Полно идей, полно мыслей… По глазам вижу – винова-ат. Здорово виноват.
– Гм, глаза, – приходя в себя, пробормотал Володя и, преодолевая скованность, подобрался, поставил портфель на размякший теплый асфальт. – Конечно, глаза корнеевские, а в корнеевских глазах все видно. Будешь что утаивать – глаза выдадут.
– Превосходно!
– Один мудрец сказал, что глаза – это окна, сквозь которые видна душа.
– Исключительно новая мысль.
– И если это так, то самым богатым человеком в мире должен стать плотник, сколачивающий ставни для этих окон и продающий их.
– Толстой называл глаза зеркалом души. Зеркала ставнями не принято заколачивать.
– Тоже исключительно новая мысль, – парировал Володя. Переводя разговор, спросил: – Как Костя?
– Давно не видела, – ответила Валентина. Немного помедлив, добавила: – Твой Костя жену на небо поменял.
– Во имя земли, – Володя ткнул носком ботинка в асфальт около портфеля. – Все на ней стоим.
– И хоть бы дело было видно, когда «берешь в руки – маешь вещь», а то… Ищете, ищете свою таинственную нефть, найти ничего не можете. Долго так будет?
– На Востоке говорят, что нет ничего труднее, чем поймать черного кота в темной комнате. Особенно когда его там нет.
– На телестудии один мудрец тоже придумал хорошее выражение: «Не теши глыбу бритвой». Предупреждает всех, кто бывает занят безнадежным делом: не теши…
– Но кот-то есть! И мы его поймаем.
Он даже не заметил, как проглотил свою воду. Поднял тяжелый, оттягивающий руку портфель, двинулся с Валентиной по тротуару, на ходу пикируясь, вспоминая смешные реальные истории, просто анекдоты.
– Что, кот действительно будет пойман? Или это только ради красного словца?
– Никто не может ответить на этот вопрос. У нас, к сожалению, слабо разработана такая область науки, как нефтяная геология. У нее пока есть, пожалуй, только одно название. Все остальное – впереди. Рост, как любое движение, всегда предполагает, что человек должен заглядывать за горизонт, туда, где другому, может быть, ничего и не видно. Ученый должен уметь многое: предсказать, рассчитать и обосновать – словом, сделать так, чтобы человечество оказалось рано или поздно в подготовленном, оборудованном наукой и теоретически обжитом месте. А у нас в институте каждый смотрит не вдаль, не за горизонт – смотрят себе под ноги. Вот ничего и не получается. Рост предполагает, что в любом НИИ начальник лаборатории должен мыслить категориями начальника отдела, начальник отдела – категориями заместителя директора, замдиректора – категориями самого директора, иначе говоря – крупного руководителя и ученого. Сам же директор обязан мыслить уже категориями государственными, высокими. На уровне члена правительства. Вот тогда и проклевывается перспектива. Раз есть перспектива – значит, человек уже заглядывает за горизонт. Взгляд за горизонт всегда приносит открытия. А у нас… – он сделал безнадежный жест рукой.
– Тешут глыбу бритвой?
– Директор мыслит категориями зама, зам – категориями начальника отдела. Все остальные – на несколько категорий ниже. А потом, слишком уж большое количество противников у здешней нефти. Перебор. Поэтому я совсем не удивлюсь, если ее вообще не откроют.
– Зачем же тогда работать?
– Для зарплаты, – усмехнувшись, ответил Корнеев.
– Резко. И желчно.
– Очень важно, чтобы противников – как, собственно, и единомышленников – было разумное количество. Хотя бы равное, что ли. Перебора ни в коем разе нельзя допускать. Если будет перебор противников, можно просто-напросто свернуть себе шею.
– «Во цвете лет он умер…»
– Во цвете лет, да. Так ничего и не добившись. Надо обязательно знать, что тебя ждет. В общем, не ругай мужика, когда он не бывает дома.
За разговором они и не заметили, как добрались до Костиного дома. Володя остановился в нерешительности.
– Не хочешь разве зайти? – спросила Валентина, и у Володи от страха сжалось горло. Покрутил головой, чтобы освободиться от спазма, покраснел.
– Нет, отчего же? – пробормотал.
На скамеечке у подъезда сидела бабка, из тех, которые знают все и вся о своем доме.
– Здравствуйте, бабушка, – поздоровалась Валентина.
– Здравствуй, милая, – в тон ей отозвалась та и растянула плоский, гибкий рот в ехидной улыбке. – Здравствуй, здравствуй, коли не шутишь, – покивала головой, проворно выхватила из кармашка сатиновой жакетки горсть семечек и, будто голубь, заработала ртом, перетирая деснами семечки.
– Это брат моего мужа, – как бы отчитываясь, сказала Валентина, добавила: – Родной брат. – Потом, заискивая, спросила: – Как это по семейной иерархии будет? Свояк? Деверь? Нет, пожалуй, все-таки свояк. – Корнеев опять покраснел и подумал: интересно, а кем же тогда доводится ему Валентина: свояченицей, снохой, золовкой? Если он свояк, то Валя – свояченица. – Владимиром Николаевичем его зовут, – уточнила зачем-то Валентина.
Когда они входили в подъезд, бабуля бросила им вслед недобрый взгляд: сомневалась, видать, Костин брат этот малый или ее обманули?
В подъезде Валентина остановилась, прижала руку к груди:
– Фу-у. Сердце как бьется!
Отдышавшись, они стали медленно подниматься по лестнице.
В квартире было прохладно: солнце находилось с другой стороны дома, но воздух и здесь был прогорклым. Леса горели не так далеко.
– Чем тебя угостить? – поинтересовалась Валентина, ловко сбросила с ног ладные туфли на узком точеном каблуке, надела пляжные резиновые шлепанцы – в такой обуви летом удобно ходить по квартире, прохладно и легко.
Это обычное домашнее переоблачение почему-то ошеломило его, он опустил глаза, будто школьник, не выучивший урока, и не отрываясь смотрел на ее туфли.
Любая, даже самая неженственная, корявая нога становится женственной, обольстительной, когда ее украшают туфли на высоком каблуке. Женщина делается много стройнее, красивее, наряднее в такой обуви, и вообще – ох, этот точеный тонкий каблук! – он как нельзя лучше отражает суть женщины: неустойчивость, игривость, кокетство, желание быть другой – кем-то, но не самою собой…
Скоро запах пожарища был перебит терпким кофейным духом. В мозгу шевельнулась мучительная, колючая, причинявшая неудобство мысль: помнит ли все-таки Валентина то неуклюжее, детское, скомканное объяснение в любви? Если не помнит, то слава богу, ему должно полегчать – ведь тогда он был форменным дураком, мальчишкой, ошалевшим от близости красивой женщины.
Пытливо взглянул в ее лицо, когда Валентина шла из кухни в комнату, несла на подносе чашки с кофе, коньячные стопки, мелкое печенье, горкой насыпанное в плоскую хрустальную вазочку, постарался разобрать хотя бы что-нибудь, поймать тень или досаду, уловить насмешку в безмятежных ее глазах, но ничего не уловил. Хоть и считал, что умеет разгадывать человека и его мысли по жестам, движениям, взглядам, манере держать в руках хлеб, вилку, нож. Может, тогда, в мае, ничего и не было, может, это приснилось? Или, как говорят сибиряки, приблазнилось?
Взяв коньячную бутылку, Валентина плеснула немного себе в стопку, потом Володе, а когда тот отрицательно мотнул головой, пошевелила пальцами в воздухе:
– Можешь не пить, но пусть стопка будет наполнена. Так мне удобнее, – она специально подчеркнула слово «мне». – Извини. Или открыть шампанское?
– Не надо, я буду пить вот это, – Володя взял кофейную чашку, вдохнул сухой горьковатый аромат. Подумал: «Эх, сгрести бы эту женщину в охапку да на самолет в Сочи. Или в Сухуми. Искупаться в море, поесть шашлыков на жарком воздухе, сходить в горы, где камни горячи, а речки холодны, понежить душу и тело. Сон это, сон, а не явь. И явью ему стать не суждено». Корнеев тут же выругал себя: это же жена родного брата, как можно думать о таком?
Но верно ведь считают, что в каждом из нас живет по меньшей мере два человека: один говорит, другой возражает, один спешит, другой медлит, один принимает решение, другой отменяет его. В Корнееве шевельнулось что-то несогласное, сопротивляющееся – он волен жить, как ему надобно, а не брату, у него есть свой котелок на плечах, свой характер, свои деньги, свои желания, свои капризы, в конце концов, он волен сам принимать решения. Независимо ни от кого, ни от чьих суждений. Или осуждений… Он любит Валентину, понимаете?! Увидел ее сейчас, и вот уже исчез горький дым лесных палов, наполнивший город, он чувствует себя легко, горький дым превратился для него в дух цветущих вишен, шум города – в весеннюю тишь.
– О чем ты думаешь? – спросила Валентина тихо.
– Ты помнишь Первое мая, – начал он медленно, затих, не решаясь произнести фразу дальше, потом одолел самого себя, заговорил вновь, – я, когда танцевали, ведь правду тебе сказал… Помнишь?
Нельзя сказать, чтобы Валино лицо изменилось, но крылья носа сделались узкими, белыми, точеными, щеки побледнели.
– Не помню, – она покачала головой.
Великолепную, добрую тишину нарушили совсем не нужные сейчас звуки: недалеко, вызывая ломоту в зубах, загрохотал отбойный молоток, заскрежетал тормозами старый автобус, одолевающий очередной поворот, – его было видно в окно, взревели моторами вылетевшие из-за домов два мотоцикла – повальное увлечение молодежи.
– Нет, – повторила Валентина, и ее голос утонул в уличном грохоте, в лязге металла и человеческих голосах. – Нет!
Было непонятно, услышал это повторное «нет» Корнеев или не услышал.
– Нет, – еще раз тихо проговорила Валентина, помотала головой как заведенная. Было в этом движении что-то такое, что Володя связал с тем днем. Ему послышалась жалостная интонация в ее голосе, и снова будто кто-то захлопнул квартиру, запер ее на ключ, отделяя от уличных шумов. Опять наступила тишина. Тишина и весна.
Но вновь в Корнееве вспыхнул стыд. В голову невольно полезли сцены из его прошлого: вот Костя защитил его в уличной драке, вот взял с собой в Москву, показал стольный град и даже – такое, как ни странно, надолго запоминается – дал ключи от квартиры, когда Володька почувствовал себя мужчиной и у него завелась первая в жизни женщина. «A-а, плевать!» – разозлился он, выругал себя последними словами.
– Нет, – опять, словно механическая игрушка, повторила Валентина.
Он дотронулся рукою до ее плеча, обжигаясь сквозь ткань блузки о кожу, чуть не застонал от близости этой женщины и одновременно от своей беспомощности.
– Да, – произнес он.
– Нет! – отозвалась она.
Валентина подняла голову, ресницы были слипшимися от слез. «Кто-то из великих – кажется, Лермонтов – сказал, что слезы женщины – не что иное, как соленая вода. Зло сказано, очень зло, а ведь как точно», – мелькнуло у Володи в голове. И тут же он поморщился – ведь понятно, что это пошлость, приписанная великому человеку. И чего это пошлость разная, досадные мелочи лезут в голову? Почему не находятся – никак не могут отыскаться, хоть с огнем их ищи, выскребай из закоулков, из сусеков памяти – точные мысли, единственно верные и нужные слова, почему он никак не может найти психологическую сцепку, формулу, которая бы поставила его на одну ступень с Валентиной, на один уровень, и они сделались бы равными? Почему она не верит ему, просто не хочет поверить, а он трясется, бормочет что-то невразумительное и никак не может убедить ее в искренности своего признания? Где оставил он свое красноречие, гибкость ума, жизненную хватку, умение быть сильным человеком?
Подавленный, чувствуя и стыд, и жалость к самому себе, поднялся, пробормотал:
– Прости меня…
Повернулся. Ощущая на себе ее взгляд, шагнул к двери, зная, что этим шагом, шагами последующими навсегда проведет черту между собою и Валентиной и окончательно отторгнет себя от нее, – с этого шага, как с некоторой поворотной точки, разойдутся линии двух судеб и никогда не соединятся. Он никогда больше не придет в этот дом, – зачем трепать нервы себе и другим? – никогда не увидит Валентину. И правильно, ибо не надо ворошить прошлое, искать встречи с ним, надо сжаться, в себе самом перемочь беду, боль, слабость, восстановить нормальное дыхание, прежний ход сердца, ясность мысли… Сделал еще один шаг к двери.
Медленно, устало, будто шел откуда-то издалека, в квартиру опять вполз шум города – снова загрохотали мотоциклы. Пахло торфяной гарью и лесным травянистым дымом.
Но, уходя, Корнеев обязательно должен что-то сказать. То ли нежное, то ли резкое, то ли ничего не значащее, но обязательно должен произнести какие-то слова, он просто не знает их, чтобы поставить точку на всей этой истории, чтобы не осталось недоговоренности. Какие должны быть слова, какие?..
Повернул голову, поймал взгляд Валентины – растерянный, едва пробивающийся сквозь слипшиеся от слез ресницы, и ему показалось, что еще немного, еще секунда – и рухнет он на пол, тяжело распластается среди всего этого стерильного уюта, наведенного хозяйкой, сдохнет от жалости к самому себе, от печали и грохота сердца, доламывающего грудную клетку, от стыда и вины перед старшим братом, который всегда делал, старался делать ему только добро, от дыма, в котором, наверное, умирают сердечники, от весенней свежести, пробивающейся сквозь этот дым, от вони сгоревшего сырого мха и свежего духа лесных цветов, окропленных утренним потом.
Он – верно ведь? – умрет от любви к этой женщине.
И тем не менее, преодолевая самого себя, он сделал еще один шаг к двери, и ничего не случилось. Он не умер, наоборот, ему стало легче.
Корнеев вспомнил о портфеле, оставленном там, где он сидел. Добротный, кожаный, с двумя тяжелыми латунными замками, портфель уютно чувствовал себя, приткнувшись к лакированной гнутой ножке стула. У Корнеева была привычка, выработанная годами: никогда не оставлять портфель в прихожей, на кухне, он всегда держал его около себя.
Возвращаться за портфелем – значит все начинать заново, не возвращаться нельзя: там документы.
– Прости меня, – повернув назад, пробормотал он почти машинально, будто в бреду.
Но двинулся не к портфелю, а к Валентине…
Он проклинал сегодняшний день, неожиданную встречу у тележки с газированной водой, женщину, перед которой уже опустился на колени, – ведь это была жена его брата! – проклинал себя, ее, Костю, мир весь, проклинал и одновременно пел в душе…
Глава третья
Наконец пробило двенадцать.
Половина дня прошла…
Джек ЛондонОни пробирались по вязким, опасно живым, громко плюющимся вонючими пузырями болотам на север, ориентируясь по карте, сверяя ее с компасом, делая топором на стволах затеей. Им надо было найти место, где можно поставить буровую вышку. Но мало найти надежную песчаную куртину, способную удержать тяжесть механизма, важно еще отыскать, нащупать безопасные подходы к этой куртине, чтобы при передвижке не утопить буровую, не погубить технику и не утонуть самим.