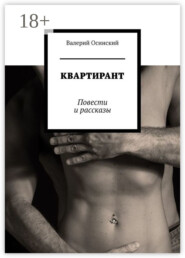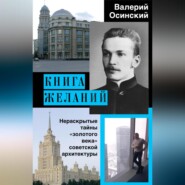По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
ПРЕДАТЕЛЬ
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Сейчас все имеет значение. Мы вот как поступим. Недавно Аспинин передал вам рукопись. – Ушкин чертыхнулся про себя: с кем он вздумал играть в кошки-мышки: «Давно не виделись!» – Давайте-ка, мы почитаем ее. И примем решение.
– Это очень слабая вещь. Не понимаю, какое отношение она имеет к хулиганству? Повесть – на евангельский сюжет, но не думаете же вы, что Аспинин стал бы декламировать рукопись в церкви!
– Нет, конечно, – Полукаров усмехнулся. – Если Аспинин вменяем, его осудят за злостное хулиганство. А если в его работах есть мысли экстремистского толка, – а судя по отрывкам, это возможно, – ему грозит двести восемьдесят вторая статья: разжигание религиозной ненависти. Это больше дело следственного комитета, чем наше.
– Вы что же будете его судить?
– О суде говорить рано. Совершена провокация против иерархов православной церкви. Нужно разобраться в мотивах.
– Все равно не понимаю: причем здесь рукопись?
– Возможно, не причем. Но пусть она полежит у нас, пока врачи понаблюдают за автором.
– Вы что же, по тексту будете составлять медицинское заключение? Ницше, Кафка и Андреев тоже были шизофрениками.
– Дотошный вы человек. Сразу видно – писатель! – фамильярно пошутил Полукаров. – Ну, хорошо. У нас появилась дополнительная информация. Камеры наблюдения в храме зафиксировали истинного хулигана. Имя вам ничего не скажет. Парень дружит с детьми поселкового священника Зачатьевской церкви. Аспинин хорошо знает священника и ребят. Несколько лет назад в Климовске задержали участников экстремистской группировки, устроившей погром на рынке. Они изувечили несколько человек. Один избитый умер от побоев у себя на родине. Поэтому дело об убийстве возбуждать не стали. Юнец дал показания, что Аркадий Каланчев, сын священника, организовал группу радикально настроенной молодежи христианского толка и близко знаком с лидерами экстремистской группы. Прямых улик против него нет. Но после выходки в церкви деятельность Валерия и студентов можно рассматривать как разжигание национальной ненависти на религиозной почве.
Ушкин заходил по кабинету, прижав подмышками ладони.
– Почвенники значит! – сказал он с иронией.
Александр Сергеевич обретался среди крупных политиков и общественно значимых людей, способных одним движением вычеркнуть Полукаровых из действительности. Литературные заслуги делали Ушкина фигурой несоизмеримой рядом с этим серым воробьем из спецслужб. При всей абсурдности ситуации, он предположил осложнения, которые возникли у Аспинина. И писательскую ревность сменила инстинктивная неприязнь интеллигента к представителю пусть кукольной, но деспотии.
После короткой борьбы чиновник в нем взял верх над эмоциями.
– Дался вам этот экземпляр! Других что ли нет?
– Другие затерялись. Либо родственники их прячут. Электронную версию можно изменить. А отпечатанный текст… проще говоря, бумага – документ.
– Наштампуйте рукописи, сколько надо, с электронного носителя! Что за церемонии?
– Вы же, интеллигенция, обвините нас в нарушении закона, – хмыкнул Полукаров.
– А вы откуда узнали об экземпляре?
Разведчик помялся: – Из показаний Аспинина…
– Очень порядочно с вашей стороны воспользоваться его наивностью! – проворчал Ушкин. – Словом, ясно! Ваши начальнички решили подстраховаться. Если с них потребуют, они вам прикажут сляпать дело о диссидентстве, о возбуждении ненависти по религиозным признакам, еще бог весть о чем. Аспинин будет каждые полгода проходить освидетельствование в больнице, пока станет вам не нужен. В итоге вы, как всегда, вляпаетесь, а ему сделаете рекламу, которая ему не снилась! Вы не подумали, прежде чем их сажать, что за вашими комбинациями судьбы людей?
– Никто пока никого не сажает.
По угрожающему спокойствию разведчика Ушкин угадал, что тот потерял терпение.
Шапошников исподлобья посмотрел на коллегу: он опаздывал в ясли за дочкой.
Ректор достал из сейфа рукопись и положил ее на стол.
– Читайте! Может, поймете, что читать нечего! Здесь первая часть. Вторую, говорит, не написал.
Шапошников смахнул бумаги в портфель и скользнул взглядом на ручные часы.
– Выпустили бы Аспинина, а малому влепили бы пятнадцать суток, – или сколько сейчас дают! – и назавтра об этой истории забыли! – сказал Ушкин.
Полукаров кисло улыбнулся.
После ухода чекистов Ушкин впервые подумал о своих дневниках, как подумал бы о чужой работе: вряд ли потомков заинтересуют его конспекты мелких склок и интрижек. Не манера письма, а выбор темы – вот определяющая искусства. Именно этот огонь освещает душу. Если ты взялся писать о жизни насекомых, или о голубом сале, как бы хорошо это не получилось, – другое тебе не дано! Хорошо или плохо справился ученик с библейской темой, но он доверился учителю. «А я его предал!» (Чушь с «физическим устранением» Ушкин в расчет не принимал, хотя чувствовал: именно этот «пустяк», как гвоздь, держит все дело!)
Как только Александр Сергеевич дал определение своему поступку, он постарался отгородиться от угрызений совести отговорками. Но он был из поколения тех, кто помнил сляпанные из ничего дела Бродского, Даниэля и Синявского, Бородина и множества других, безвестных, которым не повезло лишь потому, что они безвестны. Даже дурачки понимают, что с тех пор ничего не переменилось в стране, стоит лишь открыть газету, включить телевизор. Власть принадлежала и будет принадлежать практикам! Страной правят те же коммунисты и комсомольцы, но существенно улучшившие свое благосостояние: принадлежавшее им по должности, теперь принадлежит им навсегда по праву частной собственности. И только привычный русский «круг» или время может отменить эту марксистскую «спираль». А он, Ушкин, часть этой власти.
В деле Аспинина все еще может перемениться по капризу какого-нибудь вельможи, – подумал ректор. К тому же, происшествия такого рода не афишируются. Но ведь, когда его роль в этой пустячной истории станет известна, его будут судить именно за поступки, а не за то, что он написал!
В кабинете муха ударилась о стекло, упала на спинку и отчаянно зажужжала.
Кажется у Веденеева, – сегодня ректор некстати вспоминал ученика! – Ушкин читал о себе: «…предательство – исток всех преступлений, самое тяжелое из всех известных человеку! Потому что предательство – это смерть совести. А человек без совести преступит все. Предатель – трус: он боится возмездия, избегает подельников и свидетелей. Предатель должен знать тварь еще ниже, гаже себя. Хоть бы эта тварь властвовала миром, и никто бы из смертных не ведал об исподнем ее души. Предатель надеется – он не одинок в своем падении, зияют пустоты сердца бездоннее, чем его, и с этим живут! Но каждый предает в одиночку, даже толпой.
Предают всяко: спасая жизнь свою или родных, под пытками, из любви, похоти, корысти, властолюбия, зависти, ненависти, глупости, за государство, народ, из соображений морали, долга, совести, из героизма. Предают все! Иногда обманывают себя тем, что близкому, другу или знакомому от предательства будет лучше. Предательство же ради самого предательства – это высшая форма человеческой безнравственности».
Александр Сергеевич, было, решил, дожидаться развязки. Лишь когда секретарь передала ему визитку Аспинина, – Ушкин удивился: у ученика есть брат? – ректор почувствовал вдохновение: дельце можно использовать в интересах усадьбы. Надо лишь придумать сюжет!
11
Мобильник Пайкиной, бывшей жены брата, не отвечал: та уехала с мужем в отпуск к матери. Ее соседи по коммуналке дали Аспинину их адрес на Псковщине. Подчиняясь скорее обещанию, данному брату, и желанию уехать из Москвы (хоть на время!) нежели здравому смыслу, – ничего искать не надо! – Андрей отправился в Псков.
Вечером в купейном вагоне поезда, увозившего Аспинина с Ленинградского вокзала, Андрей с разрешения Валерьяна пролистал его дневник.
«… Как всегда – сначала любовь, потом предательство».
«Как я расскажу ребенку свою жизнь? Объясню свою жизнь? Главное: зачем?»
Записи было три года!
«…Со второго этажа во дворе Серафима заметил понуро-сонную простоволосую девушку в футболке до голых бедер. Девушка прохлопала шлепанцами к летней душевой и обратно. Алена? Как повзрослела! Оба видения уместились в миг.
За письменным столом, поигрывая ручкой, и, укладываясь спать, я вспомнил Аню. Тогда такие же белые ножки художественной гимнастки разбудили в старом хрыче нежность к девочке. Теперь ничего не осталось. Даже вражды».
«Зашел к Серафиму. Дома только она. Читала и прихлебывала чай. Две косички. Голубая рубашка. Такие же голубые глаза. Покраснела. Закрыла книгу. Мою книгу. Ляпнул: „Про любовь? А уроки?“ Она ответила: „Чтобы так написать, нужно по-настоящему чувствовать“. Растерялся. Тут вошли Серафим и Саша. Она спрятала книгу».
«Она с братом уехала к родственникам в Челябинск».
«Накануне засиделся за компьютером. В седьмом часу Саша куда-то засобиралась. Вышел к ней. Сказала – на электричку в Москву, чтобы встретить детей. У Серафима служба, он не может. Вызвался подвезти Сашу на вокзал, нести их тяжелый багаж.
Весь путь на Казанский не мог объяснить себе свой поступок. Когда электровоз тихонько уткнулся в тупик, состав вздрогнул и затих, а Саша юркнула в тамбур, и я остался среди пихавшей меня толпы, стало не по себе.
Голубые ситцевые брюки, светло-русые волосы, золотившиеся колечками на лбу, висках и на затылке. Да ведь было такое уже! Должно быть, постороннему забавно читать недомолвки старого идиота, которых он сам боится.
Вспомнил, как впятером ездили в церковь Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке. На подножке средней двери переполненного троллейбуса, поддерживая ее за локоток, коснулся ее груди и, словно юнец, едва не задохнулся от жгучей неловкости. Потом шли от стадиона «Динамо», похожего на тюрьму, к церкви – дети, взявшись за руки, болтали и смеялись. Я рассказывал Аркадию и Саше из где-то читанного о парке на этом месте, о знаменитых московских ресторанах «Яр» и «Стрельна», о поместье младшего Рябушинского «Черный лебедь», где давались феерические балы, театр, гулянья, по воскресным дням играл оркестр военной музыки и раскланивались надворные советники с усами на ширину плеч.
Она обернулась, оставила парня и присоединилась к нам. Мне стало приятно, словно я одержал маленькую победу. Тут же представил, как иду за руку с ней, и рассмеялся над этой дичью. Все тоже засмеялись: не поняли, почему смеюсь я».