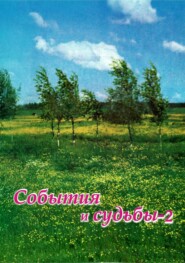По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
События и судьбы. Очерки и рассказы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Я пошлёпал к входной двери, дотянулся до запора и сдернул крючок. В дверях стоял высокий худой дядька в мокром от дождя пальто и кепке.
– Привет малыш, как поживаешь? – смущенно улыбаясь, сказал он. Я узнал его и поздоровался. Мама выглянула из кухни:
– Ой, Лёня! Да ты весь мокрый. Заходи скорей.
– Здравствуй, Гелечка, извини за поздний визит. Только что из командировки, забежал в редакцию, сдал материал. Голоден, как бездомный пес. Покормишь? Только парой кусочков хлеба от меня не отделаешься, – рассмеялся он.
– Конечно, Лёнечка. Есть супчик вермишелевый с морковкой и лучком на косточках и чай с сухариками. Подойдет? Сейчас разогрею.
Шишкин Л.А.
– Спасибо, милая. Это то, что надо.
Он стряхнул у порога кепку, скинул мокрые ботинки, снял пальто и, аккуратно расправив его, повесил на вешалку. На нем был клетчатый свитер, пиджак, черные брюки и вязаные носки, а на шее болтался фотоаппарат в кожаном футляре.
– Что слышно от Коли с фронта? – серьезно спросил он.
– Пишет, что всё хорошо. Благодарит тебя за фото, да садись ты грейся, посинел совсем. Сейчас всё сооружу. Рюмашку выпьешь?
– Пожалуй.
Дядя Леня был ровесником отца и старым другом нашей семьи. Он был высок и худощав. Лицо его запомнилось сразу: причёсанные назад с большими залысинами темные волосы, умные внимательные глаза и большой нос. Импонировали его простота, скромность и вместе с тем деликатность манер в обращении.
Мама рассказывала, что до войны он увлекался художественной фотографией и всегда таскал с собой ящиковую фотокамеру и треножник. Постоянно заряженный на творчество, он искал мотив, интересный сюжет, удачную композицию и старался поймать мгновение, как охотник искал и стерег добычу, ведь в ящиковой камере была всего одна кассета. Снимки его экспонировались даже на международных выставках фотографий и отмечались дипломами и призами. Он любил снимать детей и красивых женщин. Друзья и знакомые считали за честь сфотографироваться у мастера. Семьи друзей фронтовиков он фотографировал много и охотно. На фронте бойцы хранили эти фотографии в нагрудном кармане и считали, их как оберег от пуль.
Я знал, что по причине болезни (кажется, туберкулеза) его в 1941 году не взяли в армию и он пошёл работать в редакцию газеты «Кировская правда». Там стал его фронт, он много, истово работал, и часто мытарился по командировкам, ради нескольких снимков в газете. Газета выходила ежедневно.
Тогда я заметил, как он смертельно устал, промерз, и добраться до своего дома у него, видимо, уже не было сил. Наш дом стоял рядом с редакцией газеты. Покушав и согревшись, он шутил, что поездка в Вожгалы в общем то завершилась не так уж плохо: туда он добрался в кузове попутной «полуторки», утром закусил в местной столовке, потом удачно сделал ряд снимков колхозников в поле и доярок на ферме. Все просто и правдиво. Вот только на обратном пути завязли в грязи под «ленивой» горой, потом в дождик часть пути проехал на подводе, часть на попутной машине.
– Ну ладно. Спасибо,Гелечка, за хлеб-соль. Отогрел душу. Пора и честь знать. Доберусь до своего дома, там обсушусь, – сказал он и засобирался уходить, – только вот сперва загляну в фотолабораторию, узнать, как получились негативы.
Это лишь один маленький эпизод его трудовой биографии, который я подсмотрел в детстве. Леонид Александрович прожил всего 55 лет и оставил яркий след в жизни.
В 2010 году ему исполнилось бы 100 лет. Многие вятчане помнят о нем и смотрят на события тех дней по фотоснимкам его глазами. Глаз у него был зоркий и работоспособность удивительная.
Благодарные коллеги из редакции газеты хранят архив мастера и к его юбилеям организовали две выставки его фоторабот с очень точными названиями: «В объективе – пол века» и «Дорогие мои земляки». Журналисты газеты «Кировская правда» подсчитали тогда, что за 35 лет безупречной его работы в газете было опубликовано более десяти тысяч снимков с подписью «фото Л. Шишкина». По его фотодокументам можно изучать полувековую историю нашего вятского края.
1943 г. Ждём с победой, фото Л. Шишкина
Дети войны
Сороковые роковые
Свинцовые пороховые
Война гуляет по России
А мы такие молодые!
(Давид Самойлов)
Маргарита кажется суровой женщиной – скупой на добрые слова и тем более на нежные чувства. Детство её пришлось на сороковые годы. Война. Рита вместе с сестрёнкой и братом под присмотром старенькой бабушки с мамой жили в деревянном домишке в центре города. Отец их воевал на Ленинградском фронте, обеспечивая проходы зимних конных обозов по Ладожской «дороге жизни» туда с хлебом, обратно с детьми блокадного Ленинграда.
Мать работала на заводе и, как могла, сберегала жизни пяти домочадцев. Слово матери для всех считалось законом и неважно, в какой форме оно выражалось – приказа или просьбы, всегда выполнялось беспрекословно. Вокруг стояли такие же дома и жили люди, основными заботами, которых, в тылу были сохранение тепла домашнего очага и добывание пропитания. Выручал приусадебный участок, который засаживался в основном картофелем.
Суровый убогий быт накладывал свой отпечаток на характер и поведение детей. Дети помогали взрослым по хозяйству: носили воду из колонки, заготавливали дрова, топили печь, мыли полы, пололи и поливали огород, стояли в очередях за продуктами, зимой огребали снег и т.п. Маленькая Рита привыкла «видеть работу»и в труде была терпелива, упряма и молчалива, однако на резкие замечания могла ответить раздражённо и грубо и даже, если сама была не права, всё равно упрямо «гнула свое». Могла и отчаянно подраться с парнями соседских дворов.
Глаза девчонки семилетней,
Как два померкших огонька,
На детском личике заметней
Большая, тяжкая тоска
Она молчит, о чем не спросишь,
Пошутишь с ней – молчит в ответ,
Как будто ей ни семь, ни восемь,
А много, много горьких лет.
(А. Барто)
В каждодневных семейных заботах и взаимоотношениях редко звучали такие добрые слова как «доброе утро», «спокойной ночи», «приятного аппетита», тем более не задумывались и считали излишними и фальшивыми комплименты или какие-то правила этикета.
В убогом житие было не до возвышенных чувств – быть бы сытым и здоровым. Ещё Н.В. Гоголь подметил: «Душа хочет любить одно прекрасное, а бедные люди так не совершенны и так в них мало прекрасного!» Церковь угнеталась жёсткой пропагандой властей, забывались добрые христианские заповеди, и это создавало ещё более темную муть и чёрствость в душах людей военного времени. После окончания войны в сентябре 1945 года вернулся с фронта отец. Быт помаленьку налаживался. По выражению товарища Сталина: «жить стало лучше, жить стало веселее».
В то время восьмилетняя Рита пошла в 1-ый класс. Школа для неё стала «светом в окошке»! Из угрюмой угловатой «золушки» Рита в большом коллективе школьных подружек быстро превратилась в общительную весёлую девочку. Учёба, спортивные игры, участие в различных кружках, совместные посещения театров, музеев, экскурсии, танцы, чтение и обсуждение прочитанного, интересный мир мечтаний и грёз захватил её.
Училась она прилежно с огромным интересом. Вечером, когда дома освобождался большой обеденный стол, она удобно устраивалась делать уроки: устанавливала настольную лампу под золёным абажуром, раскладывала учебники и тетради, пенал и чернильницу. В начале, когда тетрадок не хватало, отец сшивал ей самоделки из пустых страниц старых амбарных книг. Макнув ручку с любимым пёрышком № 86в чернильницу, она старательно выводила прописные и строчные буквы. Интеллект и культура поведения приобреталась и накапливалась постепенно по крупицам. Кто научит, кто подскажет? «Что такое хорошо и что такое плохо» дети самостоятельно узнавали из опыта жизни и детских книжек В. Маяковского, С. Маршака, А. Барто, С. Михалкова, которые брали в библиотеках и с удовольствием читали.
И всё же главной радостью детства было общение с подругами – одноклассницами. Этому способствовала их любимая учительница Вера Александровна, посвятившая школе и любимому классу девчат, в ущерб своей личной жизни, всё свободное время. Это святое чувство она сберегла надолго и была предельно счастлива, если вдруг звонила какая-нибудь Ирка, Гетка или Милка с идеей собрался вместе всем классом.
Среди школьных подруг были и девочки, эвакуированные во время войны из блокадного Ленинграда. В ноябре 1941 года в Ленинграде было около 4 миллионов детей. Половина из них погибли от голода, холода, болезней, обстрелов и бомбёжек.
Страшная беда свалилась на их детские головки. После войны все узнали про леденящую душу дневниковые записки на маленьких блокнотах листочках Тани Савичевой: «Сегодня умер…».
Удивителен высочайший моральный дух десятилетней девочки, отказывающейся от пищи в пользу своего младшего братишки после голодной смерти их матери, говоря: «Так делала мама…» Спасти братишку ей не удалось, и сама она умерла на другой день после смерти брата.
К ним у Риты сохранилось особенно тёплое отношение. В детстве у неё хватило ума и такта не расспрашивать подробности ужасов блокады, не бредить их душевные раны и выражать жалость. Было как-то совестно, что самой ей досталась относительно лучшая доля, чем им. Ей импонировали какие-то непонятные душевные качества этих подруг, естественные, добрые, культурные, без тени фальши и манерности, которыми она сама не обладала, подспудно тайно завидовала и стремилась подражать.
Отец умер, когда Рита окончила школу и стала вполне самостоятельной. Судьба её типична для многих молодых людей Советского Союза: техникум, работа, институт, работа, семья, дети, домашние заботы, внуки, пенсия, огород.
Годы промчались быстрой стрелой
Маленький житель теперь уж седой